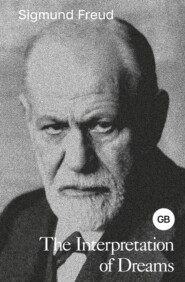По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тотем и табу. «Я» и «Оно»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Итак, я буду сообщать о бросающихся в глаза случаях забывания, которые я наблюдал по большей части на себе самом. Я различаю забывание впечатлений и переживаний, т. е. забывание того, что знаешь, от забывания намерений, т. е. упущение чего-то. Результат всего этого ряда исследований один и тот же: во всех случаях в основе забывания лежит мотив нежелания.
Забывание впечатлений и знаний
а) Летом моя жена подала мне безобидный, по существу, повод к сильному неудовольствию. Мы сидели за table d’h?te’ом vis-?-vis с одним господином из Вены, которого я знал и который, по всей вероятности, помнил и меня. У меня были основания не возобновлять знакомства. Жена моя, однако расслышавшая лишь громкое имя своего vis-?-vis, весьма скоро дала понять, что прислушивается к его разговору с соседями, так как время от времени обращалась ко мне с вопросами, в которых подхватывалась нить их разговора. Мне не терпелось; наконец это меня рассердило. Несколько недель спустя я пожаловался одной родственнице на поведение жены; но при этом не мог вспомнить ни одного слова из того, что говорил этот господин. Так как вообще я довольно злопамятен и не могу забыть ни одной детали рассердившего меня эпизода, то очевидно, что моя амнезия в данном случае мотивировалась известным желанием считаться, щадить жену. Недавно еще произошел со мной подобный же случай: я хотел в разговоре с близким знакомым посмеяться над тем, что моя жена сказала всего несколько часов тому назад; оказалось, однако, что мое намерение невыполнимо по той замечательной причине, что я бесследно забыл слова жены. Пришлось попросить ее же напомнить мне о них. Легко понять, что эту забывчивость надо рассматривать как аналогичную тому расстройству суждения, которому мы подвержены, когда дело идет о близких нам людях.
б) Я взялся достать для приехавшей в Вену иногородней дамы маленькую железную шкатулку для хранения документов и денег. В тот момент, когда я предлагал свои услуги, передо мной с необычайной зрительной яркостью стояла картина одной витрины в центре города, в которой я видел такого рода шкатулки. Правда, я не мог вспомнить название улицы, но был уверен, что стоит мне пройтись по городу, и я найду лавку, потому что моя память говорила мне, что я проходил мимо нее бесчисленное множество раз. Однако, к моей досаде, мне не удалось найти витрины со шкатулками, несмотря на то что я исходил эту часть города во всех направлениях. Не остается ничего другого, думал я, как разыскать в справочной книге адреса фабрикантов шкатулок, чтобы затем, обойдя город еще раз, найти искомый магазин. Этого, однако, не потребовалось; среди адресов, имевшихся в справочнике, я тотчас же опознал забытый адрес магазина. Оказалось, что я действительно бесчисленное множество раз проходил мимо его витрины, и это было каждый раз, когда я шел в гости к семейству М., долгие годы жившему в том же доме. С тех пор как это близкое знакомство сменилось полным отчуждением, я обычно, не отдавая себе отчета в мотивах, избегал и этой местности, и этого дома. В тот раз, когда я обходил город, ища шкатулки, я исходил в окрестностях все улицы и только этой одной тщательно избегал, словно на ней лежал запрет. Мотив нежелания, послуживший в данном случае виной моей неориентированности, здесь вполне осязателен. Но механизм забвения здесь не так прост, как в прошлом примере. Мое нерасположение относится, очевидно, не к фабриканту шкатулок, а к кому-то другому, о котором я не хочу ничего знать; от этого другого оно переносится на данное поручение и здесь порождает забвение. Точно таким же образом в случае с Буркгардом досада на одного человека породила описку в имени другого. Если там связь между двумя по существу различными кругами мыслей создалась благодаря совпадению имен, то здесь, в примере с витриной, ту же роль могла сыграть смежность в пространстве, непосредственное соседство. Впрочем, в данном случае имелась налицо еще и более прочная, внутренняя связь, ибо в числе причин, вызвавших разлад с жившим в этом доме семейством, большую роль играли деньги.
в) Контора Б. & Р. приглашает меня на дом к одному из ее служащих. По дороге к нему меня занимает мысль о том, что в доме, где помещается фирма, я уже неоднократно был. Мне представляется, что вывеска этой фирмы в одном из нижних этажей бросилась мне в глаза в то время, когда я должен был подняться к больному на один из верхних этажей. Однако я не могу вспомнить ни что это за дом, ни кого я там посещал. Хотя вся эта история совершенно безразлична и не имеет никакого значения, я все же продолжаю ею заниматься и в конце концов прихожу обычным окольным путем с помощью собирания всего, что мне приходит в голову, к тому, что этажом выше над помещением фирмы Б. & Р. находится пансион Фишер, в котором мне не раз приходилось навещать пациентов. Теперь я уже знаю и дом, в котором помещается бюро, и пансион. Загадкой для меня остается все же, какой мотив оказал здесь свое действие на мою память. Не нахожу ничего, о чем было бы неприятно вспомнить, ни в самой фирме, ни в пансионе Фишер, ни в живших там пациентах. Я предполагаю, что дело не идет о чем-нибудь очень неприятном; ибо в противном случае мне вряд ли удалось бы вновь овладеть забытым с помощью окольного пути, не прибегая, как в предыдущем примере, к внешним вспомогательным средствам. Наконец мне приходит в голову, что только что, когда я двинулся в путь к моему новому пациенту, мне поклонился на улице какой-то господин, которого я лишь с трудом узнал. Несколько месяцев тому назад я видел этого человека в очень тяжелом, на мой взгляд, состоянии и поставил ему диагноз прогрессивного паралича; впоследствии я, однако, слышал, что он оправился, так что мой диагноз оказался неверным. (Если только здесь не было случая ремиссии, встречающейся и при dementia paralitica, ибо тогда мой диагноз был бы все-таки верен!) От этой встречи и исходило влияние, заставившее меня забыть, в чьем соседстве находилась контора Б. & Р., и тот интерес, с которым я взялся за разгадку забытого, был перенесен сюда с этого случая спорной диагностики. Ассоциативное же соединение было при слабой внутренней связи – выздоровевший, вопреки ожиданиям, был также служащим в большой конторе, обычно посылавшей мне больных, – установлено благодаря тождеству имен. Врач, с которым я совместно осматривал спорного паралитика, носил то же имя Фишер, что и забытый мною пансион.
г) Заложить куда-нибудь вещь означает, в сущности, не что иное, как забыть, куда она положена. Как большинство людей, имеющих дело с рукописями и книгами, я хорошо ориентируюсь в том, что находится на моем письменном столе, и могу сразу же достать искомую вещь. То, что другим представляется беспорядком, для меня исторически сложившийся порядок. Почему же я недавно так запрятал присланный мне каталог книг, что невозможно было его найти? Ведь собирался же я заказать обозначенную в нем книгу «О языке», написанную автором, которого я люблю за остроумный и живой стиль и в котором ценю понимание психологии и познания по истории культуры. Я думаю, что именно поэтому я и запрятал каталог. Дело в том, что я имею обыкновение одалживать книги этого автора моим знакомым и недавно еще кто-то, возвращая книгу, сказал: «Стиль его напоминает мне совершенно ваш стиль, и манера думать та же самая». Говоривший не знал, что он во мне затронул этим своим замечанием. Много лет назад, когда я еще был моложе и более нуждался в поддержке, мне то же самое сказал один старший коллега, которому я хвалил медицинские сочинения одного известного автора. «Совершенно ваш стиль и ваша манера». Под влиянием этого я написал автору письмо, прося о более тесном общении, но получил от него холодный ответ, которым мне было указано мое место. Быть может, за этим последним отпугивающим уроком скрываются еще и другие, более ранние, ибо запрятанного каталога я так и не нашел; и это предзнаменование действительно удержало меня от покупки книги, хотя действительного препятствия исчезновения каталога и не представило. Я помнил и название книги, и фамилию автора[36 - Для многих случайностей, которые мы вслед за Th. Vischer’ом приписываем «коварству объекта», я предложил бы аналогичное объяснение.].
Другой случай заслуживает нашего внимания благодаря тем условиям, при которых была найдена заложенная куда-то вещь. Один молодой человек рассказывает мне: несколько лет тому назад в моей семье происходили недоразумения, я находил, что моя жена слишком холодна, и, хотя я охотно признавал ее превосходные качества, мы все же относились друг к другу без нежности. Однажды она принесла мне, возвращаясь с прогулки, книгу, которую купила, так как, по ее мнению, она должна была меня заинтересовать. Я поблагодарил за этот знак внимания, обещая прочесть книгу, положил ее куда-то и не нашел уже больше. Так прошел целый ряд месяцев, в течение которых я при случае вспоминал о затерянной книге и тщетно старался ее найти. Около полугода спустя заболела моя мать, которая живет отдельно от нас и которую я очень люблю. Моя жена оставила наш дом, чтобы ухаживать за свекровью. Положение больной стало серьезным, и моя жена имела случай показать себя с лучшей своей стороны. Однажды вечером я возвращаюсь домой в восторге от поведения моей жены и полный благодарности к ней. Подхожу к моему письменному столу, открываю без определенного намерения, но с сомнамбулической уверенностью определенный ящик и нахожу в нем сверху давно исчезнувшую заложенную книгу.
Обозревая случаи закладывания вещей, трудно себе в самом деле представить, чтобы оно когда-либо происходило иначе, как под влиянием бессознательного намерения.
д) Летом 1901 года я сказал как-то моему другу, с которым находился в тесном идейном общении по научным вопросам: «Эти проблемы невроза могут быть разрешены лишь тогда, если мы всецело станем на почву допущения первоначальной бисексуальности индивида». В ответ я услышал: «Я сказал тебе это уже два с половиной года тому назад в Бр., помнишь, во время вечерней прогулки. Тогда ты об этом и слышать ничего не хотел». Неприятно, когда тебе предлагают признать свою неоригинальность. Я не мог припомнить ни разговора, ни этого открытия моего друга. Очевидно, что один из нас ошибся; по принципу cui prodest ошибиться должен был я. И действительно, в течение ближайшей недели я вспомнил, что все было так, как хотел напомнить мне мой друг; я знаю даже, что я ответил тогда: «До этого я еще не дошел, не хочу входить в обсуждение этого». С тех пор, однако, я стал несколько терпимее, когда приходится где-нибудь в медицинской литературе сталкиваться с одной из тех немногих идей, которые связаны с моим именем, причем это последнее не упоминается.
Упреки жене; дружба, превратившаяся в свою противоположность; ошибка во врачебной диагностике; отпор со стороны людей, идущих к той же цели; заимствование идей – вряд ли может быть случайностью, что ряд примеров забывания, собранных без выбора, требуют для своего разрешения углубления в столь тягостные темы. Напротив, я полагаю, что любой другой, кто только пожелает исследовать мотивы своих собственных случаев забывания, сможет составить подобную же таблицу неприятных вещей. Склонность к забыванию неприятного имеет, как мне кажется, всеобщий характер, если способность к этому и неодинаково развита у всех. Не раз отрицание того или другого, встречающееся в медицинской практике, можно было бы, по всей вероятности, свести к забыванию[37 - Когда спрашиваешь у человека, не подвергся ли он лет 10 или 15 назад сифилитическому заболеванию, легко забываешь при этом, что опрашиваемое лицо относится к этой болезни психически совершенно иначе, чем, скажем, к острому ревматизму. В анамнезах, которые сообщают родители о своих нервнобольных дочерях, вряд ли можно с уверенностью различить, что позабыто и что скрывается, ибо все то, что может впоследствии помешать замужеству дочери, родители систематически устраняют, т. е. вытесняют.].
Наш взгляд на подобного рода забывание сводит различие между ним и отрицанием к чисто психологическим отношениям и позволяет нам в обеих формах реагирования видеть проявление одного и того же мотива. Из всех тех многочисленных примеров отрицания неприятных воспоминаний, какие мне приходилось наблюдать у родственников больных, у меня сохранился в памяти один особенно странный. Мать рассказывала мне о детстве своего сына, нервнобольного, находящегося в возрасте половой зрелости, и сообщила при этом, что и он, и другие ее дети вплоть до старшего возраста страдали по ночам недержанием мочи, обстоятельство, не лишенное значения в истории нервной болезни. Несколько недель спустя, когда она осведомилась о ходе лечения, я имел случай обратить ее внимание на признаки конституционного предрасположения молодого человека к болезни и сослался при этом на установленное анамнезом недержание мочи. К моему удивлению, она стала отрицать этот факт как по отношению к нему, так и к остальным детям, спросила меня, откуда мне это может быть известно, и узнала наконец от меня, что она сама мне об этом недавно рассказала и теперь позабыла об этом[38 - В то время, когда я работал над этими страницами, со мной произошел следующий почти невероятный случай забвения. Я просматриваю 1 января свою врачебную книгу, чтобы выписать гонорарные счета, встречаюсь при этом в рубрике июня месяца с именем М-ль и не могу вспомнить соответствующего лица. Мое удивление возрастает, когда я, перелистывая дальше, замечаю, что я лечил этого больного в санатории и что в течение ряда недель я посещал его ежедневно. Больного, с которым бываешь занят при таких условиях, врач не забывает через каких-нибудь полгода. Я спрашиваю себя: кто бы это мог быть – мужчина, паралитик, неинтересный случай? Наконец при отметке о полученном гонораре мне опять приходит на мысль все то, что стремилось исчезнуть из памяти. М-ль была 14-летняя девочка, самый замечательный случай в моей практике за последние годы; он послужил мне уроком, который я вряд ли забуду, и исход его заставил меня пережить не один мучительный час. Девочка заболела несомненной истерией, которая под влиянием моего лечения обнаружила быстрое и основательное улучшение. После этого улучшения родители взяли от меня девочку; она еще жаловалась на боли в животе, которым принадлежала главная роль в общей картине истерических симптомов. Два месяца спустя она умерла от саркомы брюшных желез. Истерия, к которой девочка была, кроме того, предрасположена, воспользовалась образованием опухоли как провоцирующей причиной, и я, будучи ослеплен шумными, но безобидными явлениями истерии, быть может, не заметил первых признаков подкрадывающейся фатальной болезни.].
Таким образом, даже и у здоровых, не подверженных неврозу людей можно в изобилии найти указания на то, что воспоминания о тягостных впечатлениях и представления о тягостных мыслях наталкиваются на какое-то препятствие. Но оценить все значение этого факта можно, лишь рассматривая психологию невротиков. Подобного рода стихийное стремление к отпору представлениям, могущим вызвать ощущение неудовольствия, – стремление, с которым можно сравнить лишь рефлекс бегства при болезненных раздражениях, – приходится отнести к числу главных столпов того механизма, который является носителем истерических симптомов. Неправильно было бы возражение насчет того, что, напротив, сплошь да рядом нет возможности отделаться от тягостных воспоминаний, преследующих нас, отогнать такие тягостные аффекты, как раскаяние, угрызения совести. Мы и не утверждаем, что эта тенденция отпора оказывается везде в силах одержать верх, что она не может в игре психических сил натолкнуться на факторы, стремящиеся по другим мотивам к обратной цели и достигающие ее вопреки этой тенденции. Архитектоника душевного аппарата основывается, поскольку можно догадываться, на принципе прослойки ряда инстанций, находящихся одна над другой, и весьма возможно, что это стремление к отпору относится к низшей психической инстанции и парализуется другими, высшими. Во всяком случае, если мы можем свести к этой тенденции отпора такие явления, как случаи забывания, приведенные в наших примерах, то это уже говорит о ее существовании и ее силе. Мы видим, что многое забывается по причинам, лежащим в нем же самом; там, где это невозможно, тенденция отпора передвигает свою цель и устраняет из нашей памяти хотя бы нечто иное, не столь важное, но находящееся в ассоциативной связи с тем, что собственно и вызвало отпор.
Развитая здесь точка зрения, усматривающая в тягостных воспоминаниях особую склонность подвергаться мотивированному забвению, заслуживала бы применения ко многим областям, в которых она в настоящее время еще не нашла себе признания, или если и нашла, то в слишком недостаточной степени. Так, мне кажется, что она все еще недостаточно подчеркивается при оценке показаний свидетелей на суде[39 - Ср.: Gross Hans. Kriminalpsychologie. 1898.], причем приведению свидетеля к присяге явно приписывается чересчур большое очищающее влияние на психическую игру сил. Что при происхождении традиций и исторических сказаний из жизни народов приходится считаться с подобным мотивом, стремящимся вытравить воспоминание обо всем том, что тягостно для национального чувства, признается всеми. Быть может, при более тщательном наблюдении была бы установлена полная аналогия между тем, как складываются народные традиции, и тем, как образуются воспоминания детства у отдельного индивида.
Совершенно так же, как при забывании имен, может наблюдаться ошибочное припоминание и при забывании впечатлений; и в тех случаях, когда оно принимается на веру, оно носит название обмана памяти. Патологические случаи обмана памяти (при паранойе он играет даже роль конструирующего момента в образовании бредовых представлений) породили обширную литературу, в которой я, однако, нигде не нахожу указаний на мотивировку этого явления. Так как и эта тема относится к психологии невроза, то она выходит за пределы рассмотрения в данной связи. Зато я приведу случившийся со мной самим своеобразный пример обмана памяти, на котором можно с достаточной ясностью видеть, как этот феномен мотивируется бессознательным вытесненным материалом и как он сочетается с этим последним.
В то время, когда я писал заключительные главы моей книги о толковании снов, я жил на даче, не имея доступа к библиотекам и справочным изданиям, и был вынужден, в расчете на позднейшее исправление, вносить в рукопись всякого рода указания и цитаты по памяти. В главе о снах наяву мне вспоминалась чудесная фигура бедного бухгалтера из «Набоба» Альфонса Доде, в лице которого поэт, вероятно, хотел изобразить свои собственные мечтания. Мне казалось, что я отчетливо помню одну из тех фантазий, какие вынашивал этот человек (я назвал его Mr. Jocelyn), гуляя по улицам Парижа, и начал ее воспроизводить по памяти: как господин Jocelyn смело бросается на улице навстречу понесшейся лошади и останавливает ее; дверцы отворяются, из экипажа выходит высокопоставленная особа, жмет господину Jocelyn’y руку и говорит ему: «Вы мой спаситель, я обязана вам жизнью. Что я могу для вас сделать?»
Я утешал себя тем, что ту или иную неточность в передаче этой фантазии нетрудно будет исправить дома, имея книгу под рукой. Но когда я перелистал «Набоба» с тем, чтобы выправить это место моей рукописи, уже готовое к печати, я, к величайшему своему стыду и смущению, не нашел там ничего похожего на такого рода мечты Mr. Jocelyn’a, да и этот бедный бухгалтер назывался совершенно иначе: Mr. Joyeuse. Эта вторая ошибка дала мне скоро ключ к выяснению моего обмана памяти. Joyeuse – это женский род от слова Joyeux: так именно я должен был бы перевести на французский язык свое собственное имя Freud. Откуда, стало быть, могла взяться фантазия, которую я смутно вспомнил и приписал Доде? Это могло быть лишь мое же произведение, сон наяву, который мне привиделся, но не дошел до моего сознания; или же дошел когда-то, но затем был основательно позабыт. Может быть, я видел его даже в Париже, где не раз бродил по улицам, одинокий, полный стремлений, весьма нуждаясь в помощнике и покровителе, пока меня не принял в свой круг Шарко. Автора «Набоба» я затем неоднократно видел в доме Шарко. Досадно в этой истории то, что вряд ли есть еще другой круг представлений, к которому я относился бы столь же враждебно, как к представлениям о протекции. То, что приходится в этой области видеть у нас на родине, отбивает всякую охоту к этому, и вообще с моим характером плохо вяжется положение протеже. Я всегда ощущал в себе необычайно много склонности к тому, чтобы «быть самому дельным человеком». И как раз я должен был получить напоминание о подобного рода – никогда, впрочем, не сбывшихся – снах наяву! Кроме того, этот случай дает хороший пример тому, как задержанное – при паранойе победно пробивающееся наружу – отношение к своему «Я» мешает нам и запутывает нас в объективном познании вещей.
Другой случай обмана памяти, который удалось удовлетворительно объяснить воспоминанием о так называемом fausse reconaissance, о котором ниже (в последней главе). Я рассказал одному из моих пациентов, честолюбивому и очень способному человеку, что один молодой студент написал интересную работу Der K?nstler. Versuch einer Sexualpsychologie («Художник. Опыт сексуальной психологии») и тем ввел себя в круг моих учеников. Когда эта работа одиннадцать месяцев спустя вышла из печати, мой пациент заявил, что точно помнит, что еще до моего первого сообщения (месяцем или полугодом раньше) он видел где-то, в окне книжного магазина кажется, объявление об этой книге. Эта заметка ему и тогда тотчас же пришла на мысль, и он, кроме того, констатировал, что автор изменил заглавие, потому что она называется уже не «Versuch», а «Ans?tze». Тщательные справки у автора и сравнение дат показало, что мой пациент хочет вспомнить нечто невозможное. Об этой книге нигде не было объявлено до ее печатания, и уж во всяком случае не за одиннадцать месяцев до выхода в свет. Я оставил этот обман памяти без истолкования, но затем тот же господин проделал аналогичную ошибку вторично. Он утверждал, что видел недавно в окне книжного магазина книгу об агорафобии, хотел ее приобрести и разыскивал ее с этой целью во всех каталогах. Мне удалось ему тогда объяснить, почему его старания должны были остаться безуспешными. Работа об агорафобии существовала лишь в его фантазии, как бессознательное намерение, и должна была быть написана им же самим. Его честолюбие, будившее в нем желание поступить подобно тому молодому человеку и подобной же научной работой открыть себе доступ в среду учеников, породило и первый, и второй обман памяти. Он сам потом вспомнил, что объявление книжного магазина, которое дало ему повод к ошибке, относилось к сочинению под заглавием Genesis. Das Gesetz der Zeugung. Что же касается упомянутого им изменения заглавия, то оно уже относится на мой счет, так как мне самому удалось вспомнить, что я допустил эту неточность в передаче: Versuch вместо Ans?tze.
Забывание намерений
Ни одна другая группа феноменов не пригодна в такой мере для доказательства нашего положения о том, что слабость внимания сама по себе еще не может объяснить дефектности функции, – как забывание намерений. Намерение – это импульс к действию, уже встретивший одобрение, но выполнение которого отодвинуто до известного момента. Конечно, в течение создавшегося таким образом промежутка времени может произойти такого рода изменение в мотивах, что намерение не будет выполнено, но в таком случае оно не забывается, а пересматривается и отменяется. То забывание намерений, которому мы подвергаемся изо дня в день во всевозможных ситуациях, мы не имеем обыкновения объяснять тем, что в соотношении мотивов появилось нечто новое; мы либо оставляем его просто без объяснения, либо стараемся объяснить его психологически, допуская, что ко времени выполнения уже не оказалось потребного для действия внимания, которое, однако, было необходимым условием для того, чтобы само намерение могло возникнуть, и которое, стало быть, в то время имелось в достаточной для совершения этого действия степени. Наблюдение над нашим нормативным отношением к намерениям заставляет нас отвергнуть это объяснение как произвольное. Если я утром принимаю решение, которое должно быть выполнено вечером, то возможно, что в течение дня мне несколько раз напоминали о нем; но возможно также, что в течение дня оно вообще не доходило больше до моего сознания. Когда приближается момент выполнения, оно само вдруг приходит мне в голову и заставляет меня сделать нужные приготовления для того, чтобы исполнить задуманное. Если я, отправляясь гулять, беру с собой письмо, которое нужно отправить, то мне, как нормальному и не нервному человеку, нет никакой надобности держать его всю дорогу в руке и высматривать все время почтовый ящик, куда бы его можно было опустить; я кладу письмо в карман, иду своей дорогой и рассчитываю на то, что один из ближайших почтовых ящиков привлечет мое внимание и побудит меня опустить руку в карман и вынуть письмо. Нормальный образ действия человека, принявшего известное решение, вполне совпадает с тем, как держат себя люди, которым было сделано в гипнозе так называемое послегипнотическое внушение на долгий срок[40 - Ср.: Bernheim. Neue Studien ?ber Hypnotismus // Suggestion und Psychotherapie. 1892.]. Обычно этот феномен изображается следующим образом: внушенное намерение дремлет в данном человеке, пока не подходит время его выполнения. Тогда оно просыпается и заставляет действовать.
В двоякого рода случаях жизни даже и профан отдает себе отчет в том, что забывание намерений никак не может быть рассматриваемо как элементарный феномен, не поддающийся дальнейшему разложению, и что оно дает право умозаключить о наличности признанных мотивов. Я имею в виду любовные отношения и военную дисциплину. Любовник, опоздавший на свидание, тщетно будет искать оправдания перед своей дамой в том, что он, к сожалению, совершенно забыл об этом. Она ему непременно ответит: «Год тому назад ты бы не забыл. Ты меня больше не любишь». Если бы он даже прибег к приведенному выше психологическому объяснению и пожелал бы оправдаться множеством дел, он достиг бы лишь того, что его дама, став столь же проницательною, как врач при психоанализе, возразила бы: «Как странно, что подобного рода деловые препятствия не случались раньше». Конечно, и она тоже не подвергает сомнению возможность того, что он действительно забыл; она полагает только, и не без основания, что из ненамеренного забвения можно сделать тот же вывод об известном нежелании, как и из сознательного уклонения.
Подобно этому и на военной службе различие между упущением по забывчивости и упущением намеренным принципиально игнорируется – и не без основания. Солдату нельзя забывать ничего из того, что требует от него служба. И если он все-таки забывает, несмотря на то что требование ему известно, то потому, что мотивам, побудившим его к выполнению данного требования службы, противопоставляются другие, противоположные. Вольноопределяющийся, который при рапорте захотел бы оправдаться тем, что забыл почистить пуговицы, может быть уверен в наказании. Но это наказание ничтожно в сравнении с тем, какому он подвергся бы, если бы признался себе самому и своему начальнику в мотиве своего упущения: «Эта проклятая служба мне вообще противна». Ради этого сокращения наказания, по соображениям как бы экономического свойства, он пользуется забвением как отговоркой, или же оно осуществляется у него в качестве компромисса.
Служение женщине, как и военная служба, требует, чтобы ничто, относящееся к ней, не было забываемо, и дает, таким образом, повод полагать, что забвение допустимо при неважных вещах; при вещах важных оно служит знаком того, что к ним относятся легко, стало быть, не признают их важности. И действительно, наличность психической оценки здесь не может быть отрицаема. Ни один человек не забудет выполнить действий, представляющихся ему самому важными, не навлекая на себя подозрения в душевном расстройстве. Наше исследование может поэтому распространяться лишь на забывание более или менее второстепенных намерений; совершенно безразличным не может считаться никакое намерение, ибо тогда оно, наверное, не возникло бы вовсе.
Так же как и при рассмотренных выше расстройствах функций, я и здесь собрал и попытался объяснить случаи забывания намерений, которые я наблюдал на себе самом; я нашел при этом, как общее правило, что они сводятся к вторжению неизвестных и непризнанных мотивов, или, если можно так выразиться, к встроенной воле. В целом ряде подобных случаев я находился в положении, сходном с военной службой, испытывал принуждение, против которого еще не перестал сопротивляться, и протестовал против него своей забывчивостью. К этому надо добавить, что я особенно легко забываю, когда нужно поздравить кого-нибудь с днем рождения, юбилеем, свадьбой, повышением. Я постоянно собираюсь это сделать и каждый раз все больше убеждаюсь в том, что это мне не удается. Теперь я уже решился отказаться от этого и воздать должное мотивам, которые этому противятся. Однажды, когда я был еще в переходной стадии, я заранее сказал одному другу, просившему меня отправить также и от его имени к известному сроку поздравительную телеграмму, что я забуду об обеих телеграммах; и неудивительно, что пророчество это оправдалось. В силу мучительных переживаний, которые мне пришлось испытать в связи с этим, я не способен выражать свое участие, когда это приходится по необходимости делать в утрированной форме, ибо употребить выражение, действительно отвечающее той небольшой степени участия, которое я испытываю, – непозволительно. С тех пор как я убедился в том, что не раз принимал мнимые симпатии других людей за истинные, меня возмущают эти условные выражения сочувствия, хотя, с другой стороны, я понимаю их социальную полезность. Соболезнование по случаю смерти изъято у меня из этого двойственного состояния; раз решившись выразить его, я уже не забываю сделать это. Там, где импульс моего чувства не имеет отношения к общественному долгу, он никогда не подвергается забвению.
Столкновением условного долга с внутренней оценкой, в которой сам себе не признаешься, объясняются также и случаи, когда забываешь совершить действия, обещанные кому-нибудь другому в его интересах. Здесь неизменно бывает так, что лишь обещающий верит в смягчающую вину забывчивость, в то время как просящий несомненно дает себе правильный ответ: он не заинтересован в этом, иначе он не забыл бы. Есть люди, которых вообще считают забывчивыми и потому извиняют, подобно близоруким, которые не кланяются на улице[41 - Женщины, с их тонким пониманием бессознательных душевных переживаний, обычно склонны скорее принять за оскорбление, когда их не узнают на улице и не кланяются, чем подумать о наиболее правдоподобном объяснении, что провинившийся близорук или задумался и не заметил. Они полагают, что их бы уж заметили, если бы только интересовались ими.]. Такие люди забывают все мелкие обещания, не выполняют данных им поручений, оказываются, таким образом, в мелочах ненадежными и требуют при этом, чтобы за эти мелкие прегрешения на них не были в претензии, т. е. чтобы не объясняли их свойствами характера, а сводили к органическим способностям. Я сам не принадлежу к числу этих людей и не имел случая проанализировать поступки кого-либо из них, чтобы в выборе объектов забвения найти его мотивировку; но по аналогии невольно напрашивается предположение, что здесь мотивом, утилизирующим конституционный момент для своих целей, является необычайно крупная доля пренебрежения к другому человеку.
В других случаях мотивы забвения не так легко обнаруживаются и, раз будучи найдены, возбуждают немалое удивление. Так, я заметил в прежние годы, что при большом количестве визитов к больным я если забываю о каком-нибудь визите, то лишь о бесплатном пациенте или посещении коллеги. Это было стыдно, и я приучился отмечать себе еще утром предстоящие в течение дня визиты. Не знаю, пришли ли другие врачи тем же путем к этому обыкновению. Но начинаешь понимать, что заставляет так называемого неврастеника отмечать у себя в пресловутой записке все то, что он собирается сообщить врачу. Объясняется это тем, что он не питает доверия к репродуцирующей способности своей памяти. Конечно, это верно, но дело происходит обыкновенно следующим образом. Больной чрезвычайно обстоятельно излагает свои жалобы и вопросы; окончив, делает минутную паузу, затем вынимает записку и говорит, извиняясь: я записал себе здесь кое-что, так как я все забываю. Обычно он не находит в записке ничего нового. Он повторяет каждый пункт и отвечает на него сам: да, об этом я уже спросил. По-видимому, он лишь демонстрирует своей запиской один из своих симптомов: то именно обстоятельство, что его намерения часто расстраиваются в силу вторжения неясных мотивов.
Я коснусь дефектов, которыми страдает большинство здоровых людей, которых я знаю, и признаюсь, что я сам, особенно в прежние годы, очень легко и на очень долгое время забывал возвращать одолженные книги или что мне с особенной легкостью случалось, в силу забывчивости, откладывать уплату денег. Недавно я ушел как-то утром из табачной лавки, в которой сделал себе запас сигар на этот день, не расплатившись. Это было совершенно невинное упущение, потому что меня там знают и я мог поэтому ожидать, что на следующий день мне напомнят о долге. Но это небольшое упущение, эта попытка наделать долгов, наверное, не лишена связи с теми размышлениями на следующие темы, которые занимали меня в продолжение предыдущего дня. Вообще, что касается таких тем, как деньги и собственность, то даже у так называемых порядочных людей можно легко обнаружить следы некоторого двойственного отношения к ним. Та примитивная жадность, с какой грудной младенец стремится овладеть всеми объектами (чтобы сунуть их в рот), быть может, вообще лишь в несовершенной степени парализовалась культурой и воспитанием[42 - Из соображений единства темы позволительно будет отступить здесь от принятого мной деления и прибавить к вышесказанному, что по отношению к денежным делам человеческая память обнаруживает особую предвзятость. Обман памяти, при котором думаешь, что уже заплатил, бывает, как я это знаю по себе, чрезвычайно упорен. Там, где стремление к наживе проявляется за пределами крупных жизненных интересов, стало быть скорее в шутку, и где поэтому ему представляется полная свобода, как, например, в карточной игре, честнейшие люди бывают склонны к ошибкам, погрешностям памяти и счета и оказываются, неведомым для них самих образом, повинными в мелких обманах. В этой свободе в немалой степени крепится психически освежающее значение игры. Поговорку о том, что в игре узнается характер человека, надо признать верной, с одним лишь дополнением: узнаются подавленные черты характера. Если у кельнеров еще бывают нечаянные ошибки в счете, на них, очевидно, нужно смотреть так же. В купеческом сословии часто можно наблюдать известное оттягивание выдачи денежных сумм – при уплате по счетам и т. п., – которое собственнику ничего не дает и которое следует понимать только психологически, как проявление нежелания расставаться с деньгами. С наиболее интимными и менее всего выясненными побуждениями связывается и тот факт, что как раз женщины обнаруживают особенную неохоту расплачиваться с врачом. Обыкновенно они забывают портмоне и потому во время визита не могут заплатить, затем систематически забывают прислать из дому гонорар, и в результате лечишь их даром – «ради их прекрасных глаз». Они уплачивают как бы своими взглядами.].
Боюсь, что со всеми этими примерами я впал прямо-таки в банальность. Но я только могу радоваться, если наталкиваюсь на вещи, которые все знают и одинаковым образом понимают, ибо мое намерение в том и заключается, чтобы собирать повседневные явления и научно использовать их. Я не могу понять, почему той мудрости, которая сложилась на почве обыденного жизненного опыта, должен быть закрыт доступ в круг приобретений науки. Не различие объектов, а более строгий метод их установления и стремление ко всеобъемлющей связи составляют существенный порядок научной работы.
По отношению к намерениям, имеющим некоторое значение, мы в общем нашли, что они забываются тогда, когда против них восстают неясные мотивы. По отношению к намерениям меньшей важности обнаруживается другой механизм забывания: встречная воля переносится на данное намерение с чего-либо другого в силу того, что между этим другим и содержанием данного намерения установилась какая-либо внешняя ассоциация. Сюда относится следующий пример. Я люблю хорошую пропускную бумагу и собираюсь сегодня после обеда, идя во внутреннюю часть города, закупить себе новый запас. Однако в течение четырех дней подряд я об этом забываю, пока не задаю себе вопроса о причине этого. Нахожу ее без труда, вспомнив, что если в письме обозначена пропускная бумага словом L?schpapier, то говорю я обыкновенно Fliesspapier. Fliess же – имя одного из моих друзей в Берлине, подавшего мне в эти дни повод к мучительным мыслям и заботам. Отделаться от этих мыслей я не могу, но склонность к отпору проявляется, переносясь вследствие созвучия слов на безразличное и потому менее устойчивое намерение.
В следующем случае отсрочки непосредственная встречная воля совпадает с более определенной мотивировкой. Я написал для издания «Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens» небольшую статью о сне, резюмирующую мое «Толкование сновидений». Г. Бергман посылает мне из Висбадена корректуру и просит ее просмотреть немедленно, так как хочет издать этот выпуск еще до Рождества. В ту же ночь я выправляю корректуру и кладу ее на письменный стол, чтобы взять с собой утром. Утром я, однако, забываю о ней и вспоминаю лишь после обеда при виде бандероли, лежащей на моем столе. Точно так же забываю я о корректуре и после обеда, вечером и на следующее утро; наконец я беру себя в руки и на следующий день после обеда опускаю ее в почтовый ящик, недоумевая, каково могло бы быть основание этой отсрочки. Очевидно, я ее не хочу отправить, не знаю только почему. Во время этой же прогулки я отправляюсь к своему венскому издателю, который издал также мое «Толкование сновидений», делаю у него заказ и вдруг, как бы под влиянием какой-то внезапной мысли, говорю ему: «Вы знаете, я написал „Толкование сновидений“ вторично». – «О, я просил бы вас тогда…» – «Успокойтесь, это лишь небольшая статья для издания L?wenfeld Kurella». Он все-таки был недоволен, боясь, что статья эта повредит сбыту книги. Я возражал ему и наконец спросил: «Если бы я обратился к вам раньше, вы бы запретили мне издать эту вещь?» – «Нет, ни в коем случае». Я и сам думаю, что имел полное право так поступить и не сделал ничего такого, что не было бы принято; но мне представляется бесспорным, что сомнение, подобное тому, какое высказал мой издатель, было мотивом того, что я оттягивал отправку корректуры. Сомнение это было вызвано другим, более ранним случаем, когда у меня были неприятности с другим издателем из-за того, что я по необходимости перенес несколько страниц из моей работы о церебральном параличе у детей, появившейся в другом издательстве, в статью, написанную на ту же тему для справочной книги Нотнагеля. Но и тогда упреки были несправедливы; и тогда я вполне лояльно известил о своем намерении первого издателя. Восстанавливая далее свои воспоминания, я припоминаю еще один случай, когда при переводе с французского я действительно нарушил права автора. Я снабдил перевод примечаниями, не спросив на то согласия автора, и спустя несколько лет имел случай убедиться, что автор был недоволен этим самоуправством.
По-немецки есть поговорка, выражающая ходячую истину, что забывание чего-нибудь никогда не бывает случайным.
Забывание объясняется иногда также и тем, что можно было бы назвать «ложными намерениями». Однажды я обещал одному молодому автору дать отзыв о его небольшой работе, но, в силу внутренних, неизвестных мне противодействий, все откладывал, пока наконец, уступая его настояниям, не обещал, что сделаю это в тот же вечер. Я действительно имел вполне серьезное намерение так и поступить, но забыл о том, что на тот же вечер было назначено составление другого, неотложного отзыва. Я понял благодаря этому, что мое намерение было ложно, перестал бороться с испытываемым мной противодействием и отказал автору.
Действия, совершаемые по ошибке
Заимствую еще одно место из ценной работы Мерингера и Мейера:
«Обмолвки не являются чем-либо единственным в своем роде. Они соответствуют погрешностям, часто наблюдаемым и при других функциях человека и обозначаемым, довольно бессмысленно, словом „забывчивость“».
Таким образом, не я первый заподозрил в мелких функциональных расстройствах повседневной жизни здоровых людей смысл и преднамеренность.
Если подобное объяснение допускают погрешности речи – а речь ведь не что иное, как моторный акт, – то легко предположить, что те же ожидания оправдываются и в применении к погрешностям прочих наших моторных отправлений. Я различаю здесь две группы явлений: все те случаи, где самым существенным представляется ошибочный эффект, стало быть, уклонение от намерения я обозначаю термином Vergreifen – «действия, совершаемые по ошибке»; другие же, в которых скорее весь образ действий представляется целесообразным, я называю «симптоматическими и случайными действиями». Деление это не может быть проведено с полной строгостью; мы вообще начинаем понимать, что все деления, употребляемые в этой работе, имеют лишь описательную ценность и противоречат внутреннему единству наблюдаемых явлений.
В психологическом понимании «ошибочных действий» мы, очевидно, не продвинемся вперед, если отнесем их в общую рубрику атаксии и специально «атаксии мозговой коры». Попытаемся лучше свести отдельные случаи к определяющим их условиям. Я обращусь опять к примерам из моего личного опыта, не особенно, правда, частым у меня.
а) В прежние годы, когда я посещал больных на дому еще чаще, чем теперь, нередко случалось, что, придя к двери, в которую мне следовало постучать или позвонить, я доставал из кармана ключ от моей собственной квартиры, с тем чтобы опять спрятать его, едва ли не со стыдом. Сопоставляя, у каких больных это бывало со мной, я должен признать, что это ошибочное действие, – вынуть ключ вместо того, чтобы позвонить, означало известную похвалу тому дому, где это случалось. Оно было равносильно мысли: «здесь я чувствую себя как дома», ибо происходило лишь там, где я полюбил больного. (У двери моей собственной квартиры я, конечно, никогда не звоню.) Ошибочное действие было, таким образом, символическим выражением мысли, в сущности не предназначавшейся к тому, чтобы быть серьезно, сознательно допущенной, так как на деле психиатр прекрасно знает, что больной привязывается к нему лишь на то время, пока ожидает от него чего-нибудь, и что он сам если и позволяет себе испытывать чрезмерно живой интерес к пациенту, то лишь в целях оказания психической помощи.
б) В одном доме, в котором я шесть лет кряду дважды в день в определенное время стою у дверей второго этажа, ожидая, пока мне отворят, мне случилось за все это долгое время два раза (с небольшим перерывом) взойти этажом выше, «забраться чересчур высоко». В первый раз я испытывал в это время честолюбивый «сон наяву», грезил о том, что «поднимаюсь все выше и выше». Я не услышал даже, как отворилась соответствующая дверь, когда я уже начал всходить на первые ступеньки третьего этажа. В другой раз я прошел слишком высоко, тоже «погруженный в мысли»; когда я спохватился, вернулся назад и попытался схватить владевшую мной фантазию, то я нашел, что я сердился по поводу (воображаемой) критики моих сочинений, в которой мне делался упрек, что я постоянно «иду слишком далеко», – упрек, который у меня мог связаться с не особенно почтительным выражением: «занесся слишком высоко».
в) На моем столе долгие годы лежат рядом перкуссионный молоток и камертон. Однажды по окончании приемного часа я тороплюсь уйти, потому что хочу поспеть к определенному поезду городской железной дороги, кладу средь белого дня в карман сюртука вместо молотка камертон и лишь благодаря тому, что он не оттягивает мне карман, замечаю свою ошибку. Кто не привык задумываться над такими мелочами, несомненно объяснит, назвав эту ошибку спешкой. Однако я предпочел поставить себе вопрос, почему я все-таки взял камертон вместо молотка. Спешка могла точно так же служить мотивом и к тому, чтобы взять сразу нужный предмет, чтобы не терять времени на обмен.
Кто был последним державшим в руках камертон – вот вопрос, который напрашивается мне здесь. Его держал на днях идиот-ребенок, у которого я исследовал степень внимания к чувственным ощущениям, которого камертон в такой мере привлек к себе, что мне лишь с трудом удалось его отнять. Что же, это должно означать, что я идиот? Как будто бы и так, ибо первое, что ассоциируется у меня со словом «молоток» (Hammer), – это «хамер» – по-древнееврейски «осел».
Что должна означать эта брань? Надо рассмотреть ситуацию. Я спешу на консультацию в местность, лежащую при Западной железной дороге, к больному, который, согласно сообщенному мне письменно анамнезу, несколько месяцев тому назад упал с балкона и с тех пор не может ходить. Врач, приглашающий меня, пишет, что он не может все же определить, повреждение ли здесь спинного мозга или травматический невроз – истерия. Это мне и предстоит решить. Здесь, стало быть, уместно будет напоминание – соблюдать особую осторожность в этом тонком дифференциальном диагнозе. Мои коллеги и без того думают, что мы слишком легкомысленно ставим диагноз истерии в то время, когда на самом деле имеется налицо нечто более серьезное. Но мы все еще не видим достаточных оснований для брани! Да, надо еще добавить, что на той же самой железнодорожной станции я видел несколько лет тому назад молодого человека, который со времени одного сильного переживания не мог как следует ходить. Я нашел у него тогда истерию, подверг его психическому лечению, и тогда оказалось, что если мой диагноз и не был ошибочен, то он не был и верен. Целый ряд симптомов у больного носили характер истерический, и по мере лечения они действительно быстро исчезали. Но за ними обнаружился остаток, не поддававшийся терапии и оказавшийся множественным склерозом. Врачи, видевшие больного после меня, без труда заметили органическое поражение; я же вряд ли мог бы иначе действовать и судить; но впечатление у меня все-таки осталось как о тягостной ошибке; я обещал вылечить больного и, конечно, не мог сдержать этого обещания. Таким образом, ошибочное движение, которым я схватился за камертон вместо молотка, могло быть переведено следующим образом: идиот, осел ты этакий, возьми себя в руки на этот раз и не поставь опять диагноза истерии, где дело идет о неизлечимой болезни, как это уже случилось раз в той же местности с этим несчастным человеком! К счастью для этого маленького анализа, пусть и к несчастью для моего настроения, этот самый человек, страдавший тяжелым спастическим параличом, был у меня на приеме всего несколькими днями раньше, на следующий день после идиота-ребенка.
Нетрудно заметить, что на этот раз в ошибочном действии дал о себе знать голос самокритики. Для этого рода роли – упрека самому себе – ошибочные действия особенно пригодны. Ошибка, совершенная здесь, изображает собою ошибку, сделанную где-либо в другом месте.
г) Само собой разумеется, что действия, совершаемые по ошибке, могут служить также и целому ряду других неясных намерений. Вот пример этого. Мне очень редко случается разбивать что-нибудь. Я не особенно ловок, но в силу анатомической нетронутости моих первомускульных аппаратов у меня, очевидно, нет данных для совершения таких неловких движений, которые привели бы к нежелательным результатам. Так что я не могу припомнить в моем доме ни одного предмета, который бы я разбил. В моем рабочем кабинете тесно, и мне часто приходилось в самых неудобных положениях перебирать античные предметы из глины и камня, которых у меня имеется маленькая коллекция, так что бывшие при этом лица выражали опасение, как бы я не уронил и не разбил чего-нибудь. Однако этого никогда не случалось. Почему же я бросил на пол и разбил мраморную крышку моей простой чернильницы?
Мой письменный прибор состоит из мраморной подставки с углублением, в которое вставляется стеклянная чернильница; на чернильнице – крышка с шишечкой, тоже из мрамора. За письменным прибором расставлены бронзовые статуэтки и терракотовые фигурки. Я сажусь за стол, чтобы писать, делаю рукой, в которой держу перо, замечательно неловкое движение по направлению от себя и сбрасываю на пол уже лежавшую на столе крышку. Объяснение найти нетрудно. Несколькими часами раньше в комнате была моя сестра, зашедшая посмотреть некоторые вновь приобретенные мной вещи. Она нашла их очень красивыми и сказала затем: «Теперь твой письменный стол имеет действительно красивый вид, только письменный прибор не подходит к нему. Тебе нужен другой, более красивый». Я провожал сестру и лишь несколькими часами позже вернулся назад. И тогда я, по-видимому, произвел экзекуцию над осужденным прибором. Заключил ли я из слов сестры, что она решила к ближайшему празднику подарить мне более красивый прибор, и я разбил некрасивый старый, чтобы заставить ее исполнить намерение, на которое она намекнула? Если это так, то движение, которым я швырнул крышку, было лишь мнимо неловким; на самом деле оно было в высшей степени ловким, так как сумело пощадить и обойти все более ценные объекты, находившиеся поблизости.
Я думаю в самом деле, что именно такого взгляда и следует держаться по отношению к целому ряду якобы случайных неловких движений. Верно, что они несут на себе печать насилия, швыряния, чего-то вроде спастической атаксии, но они обнаруживают вместе с тем известное намерение и попадают в цель с уверенностью, которой не всегда могут похвастаться и заведомо произвольные движения. Обе эти отличительные черты – характер насилия и меткость – они, впрочем, разделяют с моторными проявлениями истерического невроза, отчасти и с моторными актами сомнамбулизма, что, надо полагать, указывает здесь, как и там, на одну и ту же неизвестную модификацию иннервационного процесса.
В последние годы, с тех пор как я начал собирать такого рода наблюдения, мне случалось еще несколько раз разбивать или ломать предметы, имеющие известную цену, но исследование этих случаев убедило меня, что это ни разу не было действием простого случая или намеренной неловкости. Так, однажды утром, проходя по комнате в купальном костюме, с соломенными туфлями на ногах, я, повинуясь внезапному импульсу, швырнул одну из туфель об стену так, что она свалила с консоли красивую маленькую мраморную Венеру. Статуэтка разбилась вдребезги, я же в это время преспокойным образом стал цитировать стихи Буша:
Ach! Die Venus ist perd? —
Klickeradoms! – Von Medici!
Эта дикая выходка и спокойствие, с которым я отнесся к тому, что натворил, объясняются тогдашним положением вещей. У нас в семействе была тяжелобольная, в выздоровлении которой я в глубине души уже отчаялся. В это утро я узнал о крупном улучшении и знаю, что я сам сказал себе: значит, она все-таки будет жить. Охватившая меня затем жажда разрушения послужила мне средством выразить благодарность судьбе и произвести известного рода «жертвенное действие», словно я дал обет: если она выздоровеет, я принесу в жертву тот или иной предмет! Если я для этой жертвы выбрал как раз Венеру Медицейскую, то в этом должен заключаться, очевидно, галантный комплимент больной; но непонятным остается мне и на этот раз, как это я так быстро решился, так ловко прицелился и не попал ни в один из стоявших в ближайшем соседстве предметов.