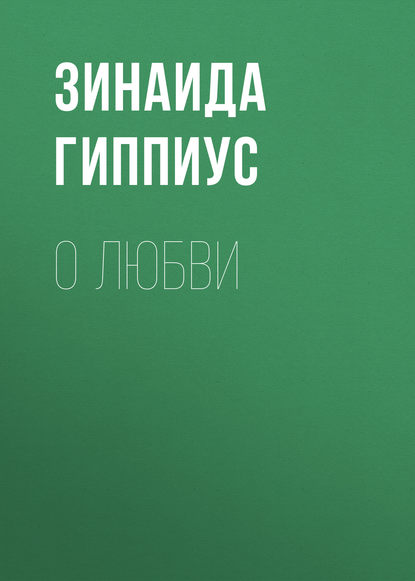По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
О любви
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Эти незыблемые основы любви уже есть и у Платона, хотя еще в смутном виде. У Соловьева два последние понятия даны, как мы видели, в законченной ясности. Однако в отношении первого, – андрогинизма, – и Соловьев еще соскальзывает как будто в примитивную и смутную теорию Платона.
По этой теории, андрогинизм, во-первых, присущ божеству. Соловьев, утверждая, что в Боге находятся оба Начала, мужское и женское, приводит даже цитату из Библии: «В день, когда Бог сотворил человека, по образу Божию сотворил его, мужа и жену сотворил их». Но из дальнейших положений Соловьева выходит как будто, что для него, как и для Платона, один человек еще не личность, он лишь некая половинка; «личность» же может составиться только из двух, из реального мужчины и реальной женщины. Это чрезвычайно путает общее построение, и я удивляюсь, как с таким понятием мог мириться сам Соловьев. Две половинки, из которых лишь при исполнении должной любви, т. е. в самом счастливом случае, может получиться единое?.. Шар, по Платону, т. е. нечто само в себе законченное и безвыходное…
Но тут нам на помощь приходит Вейнингер.
Да, говорит он, существуют два Начала или две чистые субстанции: чистая Мужественность (М) и чистая Женственность (Ж). Оба они соприсутствуют в Божестве. Но и в реальном человеке, несовершенном, но по образу Божию созданном, в духовно-телесном субъекте, тоже всегда присутствуют оба начала, хотя даны они в нем неравномерно, а с преобладанием какого-нибудь одного. Никогда, подчеркивает Вейнингер, живой мужчина не бывает только мужчиной: он и женщина. И живая женщина не только женщина: в ней присутствует, в какой-то мере, и мужское начало…
Несчастный Вейнингер, сказав с особой ясностью слова, которые оставались недоговоренными у Соловьева, не сделал из них логических выводов; он даже как будто с этого момента и оставил всякую логику, оправдав собственный афоризм: «Кто покидает логику, того она сама раньше покинула, тот на пути к безумию…» Во-первых, он, указав на два Начала, как на две чистые субстанции, – лишил их равноценности, что совершенно недопустимо. Во-вторых, он свои же утверждения, что нет живого субъекта с одним сплошным мужским или женским началом, тут же и забыл, до неестественности мгновенно, и вся его первая книга («Пол и характер») ставит откровенный знак равенства между реальной женщиной и чистой Женственностью (которую он и уничтожает, хотя она находится в Боге). Не было ли это первым шагом его к гибели, опять по его же слову: «Человек может погибнуть только от недостатка религии»? Недаром, когда вышел «Пол и характер», Вейнингер сказал: эта книга несет смерть: или себе – или ее автору.
Но личное несчастие этого удивительного юноши не может лишить значительности его глубоких слов об андрогинизме. Они так просты и ясны, что, как это всегда бывает, кажется, будто их уже давно слышал, давно знал. Пожалуй, оно и так: ведь все дело в нашем внимании и в моменте, когда слова произносятся. Вот их суть.
Таинственный узел, соединяющий два начала, каждый человек уже носит в себе, в своей личности. Как сплетен этот узел? В какой, всегда неравной, мере присутствует – в живом человеческом существе – Мужское и Женское? Эту меру, или неведомую гармонию, нам определять и разгадывать не дано.
Но мы должны признать ее единственной и неповторяющейся, как самую личность. Нет живого субъекта без преобладания в нем того или другого начала; и в ней, – в этой неравномерности, – потенция «перехода за границы своего феноменального бытия» – к другой личности, потенция любви. Не половинка ищет свою половинку, но Муже-женское существо стремится к соединению с другими в соответственно-обратной мере двойным, Жено-мужским. Вот эта соответственно-обратная мера, ее находимость, и создает возможность истинной любви, непременно и всегда единственной (этого Соловьев тоже не договорил). Эрос не ранит одной стрелой – обоих. У Эроса две стрелы. И он строит двойной мост между двумя: от мужественности одного человеческого существа к женственности другого, и от его женственности – к мужественности второго.
Таковы основы андрогинизма. Таково одно из условий идеального соединения, которое в полноте недостижимо, но которого мы всегда ищем и к которому можем, если в воле нашей осмыслим Любовь, – постоянно приближаться.
Соловьев совершенно прав: взятая как факт, как состоянье человека, бывающее и проходящее, любовь-влюбленность – нелепа; она не имеет для себя никаких оснований и ни для чего не нужна. Соображенье, что любовь служит целям рода, с достаточной убедительностью опровергнуто Соловьевым; да и без Соловьева, при малейшем усилии мысли, становится ясно, что для размножения любовь, – та, о которой мы говорим, с непременным «веяньем нездешней радости», – излишняя роскошь, в лучшем случае. Род человеческий не только продолжался бы без нее, но продолжался бы гораздо успешнее. Резюмируем же: любовь или имеет тот смысл и ту цель, о которых мы говорим вместе с Соловьевым, или не имеет решительно ни смысла, ни цели.
II. Любовь и красота
1
Метафизиков и философов, говоривших о любви, можно бы перечесть по пальцам, даже если включить касавшихся этой темы вскользь, между прочим. Зато в области искусства любовь – подлинная царица. Обратимся же к искусству, посмотрим, нет ли среди художников таких, для которых Любовь – приблизительно то же, что для Соловьева, Вейнингера, Платона, Аристотеля и т. д.
Мы, однако, ничего не увидим, если сразу не разделим всех художников несколько необычным разделением.
Общего взгляда Вл. Соловьева на искусство и красоту я пока не буду касаться (хотя очень интересно было бы и тут провести его параллелизм с Вейнингером). Скажу лишь, что для Соловьева, в строгой связи со всем его миросозерцанием, «Красота – лишь ощутительная форма Добра и Истины», и «эстетически прекрасным» он называл «всякое ощутительное изображение предмета или явления с точки зрения его окончательного состояния или в свете будущего мира». Иначе говоря – прекрасно то художественное произведение, которое «ведет к реальному улучшению действительности».
И я предлагаю, хотя бы только в отношении исследуемого вопроса, принять мерку Соловьева об «улучшении» или не улучшении реальной действительности. Другими словами – установить, вне оценки таланта художника, – что такое для него любовь? Какой он ее изображает? Где лежит его воля, какой любви он хочет, в какую верит? Смотрит ли данный художник на любовь «с точки зрения окончательного ее состояния», по-соловьевски, вейнингеровски, т. е. видит ли ее смысл, или же любовь для него смысла не имеет, и он берет ее просто как факт, повторяющееся обычное явление?
В конце концов – говорит ли художник о той любви, которая бывает, или о той, которая должна быть?
Тут важно еще и отношение к «должному»: не как к фантастике, а к потенциальной реальности. «Если бы я считал такую любовь фантастикой, – подчеркивает Вл. Соловьев, – я бы ее, конечно, и не предлагал».
В трактовке любовной темы не все художники резко определенны. Есть смешанные, а, главное, есть эволюционирующие: от любви почти без смысла, почти той, какая «бывает», они доходят постепенно до образов величайшей глубины и совершенства.
Но обычно линия разделения проходит с достаточной ясностью. Иногда совсем маленький, неизвестный писатель вдруг дает нам изображение чудесной, бессмертной любви; а другой, художник и мастер, не желая или не умея вырваться из круга «бывающего», фатально возвращает любовь в смерть.
Да, вот это следует запомнить: везде, где любовь изображается как простой факт и состояние, без смысла, она очень быстро побеждается смертью. Мы так и не привыкли думать, по поводу любви, о смысле, что даже повторяя слова: «Любовь сильнее смерти», мы стали понимать их в обратном значении, приблизительно так: любовь столь сильна, что доводит даже до смерти, т. е., что смерть всегда сильнее самой сильной любви и даже сильную-то вернее побеждает.
Художник, изображающий «простую» любовь (как «бывает»), по-своему прав: «простое» отношение к любви завершается тем окончательным упрощением, которое называют «смертью». Смерть непременно сильнее такой любви и даже, при ней, становится желанной:
Разбей этот кубок,
В нем злая отрава таится!..
2
Неудивительно, что люди и художники, наиболее близкие к понятию «личности», наиболее близки и к понятию истинной любви. Ведь «только обладание „Я“ в высшем смысле ведет и к признанию „Ты“ в другом», как повторяет Вейнингер.
Поэтому Ибсен, с его исключительно острым пониманием «личности», и не мог не дать особенно яркие образы любви в ее совершении, Эроса pontifex'a, строителя мостов.
В Пере Гюнте, однако, лишь начало пути любви. Сольвейг – не дантовская Беатриче, конечно, которая еще вполне объект, символ женской субстанции, лицо без живого лица. Данте сотворил Бог; но не Бог, а Данте творит Беатриче, творит исключительно для себя, чтобы ею, т. е. своей любовью к ней, спастись как личность. Беатриче не действует, и нет нужды в ее действиях; Сольвейг есть гораздо больше, она «есть» уже почти в полноте: это она любит Пера Гюнта, и это ее любовь (истинная, ибо ведущая к бессмертию) – спасает любимого. Сольвейг еще не вполне «живая женщина», в ней еще слишком сквозит облик вечной Женственности, «Жены, облеченной в солнце» Вл. Соловьева; она Дева-Мать не случайно: в чистом, божественном женском начале девственность-материнство соединены.
Ибсен пойдет и дальше: через «Женщину с Моря» – к Ревекке из Росмерсхольма, к любви между нею и Росмером, где уже происходит возрождение обоих, взаимное спасение.
«– Я ли иду за тобою, или ты за мною?» – спрашивает один.
«– На этот вопрос мы и в вечности не найдем ответа…» – да он и не нужен, они идут вместе.
И вот, наконец, последняя вещь Ибсена, последний образ Любви, ее истинный путь – «сквозь тьму ночи и бурю в горах» к солнечному восходу высшей, вечной жизни. Ибсен говорит о совместной жизни мужчины и женщины как о новом таинственном браке, мистической унии, лишенной всякого «эгоизма», – отъединенности от мира, – и всякого неравенства: оба, и муж, и жена, равноценные «личности» в высшем смысле.
Я не знаю, как относился Соловьев к Ибсену: он нигде об Ибсене не упоминает. Но это не важно: «встреча» между двумя мыслителями-поэтами, несомненно, произошла. Вейнингер «встретился» с Ибсеном лицом к лицу. Статьи Вейнингера – самое блестящее, самое проникновенное, что когда-либо писалось о Ибсене. И можно, пожалуй, сказать, что на проблеме любви они «встретились» все трое. Во всяком случае, из художников Ибсен – самый сознательный попутчик Вл. Соловьева.
О любви очень много знал (не по-ибсеновски «сознательно», но чуть ли не глубже) – Гоголь. Знал, не зная; ведь он не догадывался, когда писал «Старосветских помещиков», что за ним, склонясь к его плечу, стоит сам Эрос, что он тихо отнял перо и вложил ему в руку стрелу, выдернутую из колчана. Только стрелой Эроса мог быть начертан образ любви Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, любви, над которой бессильно «всемогущее время».
Достоевский? Толстой? Гете?
Достоевский обладал слишком большим запасом всего, что требует реализации; и, в процессе реализирования, он находился еще в той стадии всеразделения, которая необходима для последующего, подлинного, всесобирания. Он еще разорван и в разорванности обострен. Слишком много знает о смысле реальности, больше, чем о самой реальности, – и сознает свою дисгармоничность. Отсюда его крик: «Любите жизнь раньше смысла ее!» У Достоевского начатки истинной любви не там, где он думает, не в возвышенных девицах и дамах, а в другой стороне, в Грушенькиной «инфернальности», в Грушенькином «мизинчике»; тут он начинает нащупывать «духовно-телесность» любви. Из трех основных понятий, обусловливающих подлинную любовь, Достоевский до последней глубины ощутил и проник в «богочеловечность»; «духовно-телесность» лишь нащупывал, а об «андрогинизме» почти не знал ничего. Только в одном романе Достоевского ясное указание на любовь истинную, полную, должную: любовь Раскольникова и Сони. Но… любовь эта осталась не изображенной, роман – не написанным: он лишь обещан в «Прест. и нак.».
Во всяком случае, Достоевский менее всего изобразитель «данного», «как бывает». Он и реальность-то хочет полюбить для того, чтобы полнее взять ее «с точки зрения окончательного ее состояния и в свете будущего мира», о котором он уже знает, как никто. К изображению просто данного человек масштаба Достоевского не мог иметь и природной склонности.
Ее не имел и Лев Толстой. Но он, «полюбив жизнь раньше смысла ее», слишком долго любил ее вне смысла; оттого с таким страданьем вырывался он, на склоне лет, из кольца обычного, бывающего, данного. Оттого возненавидел, до несправедливости, свои романы и с такой беспорядочной поспешностью бросился искать «смысл жизни». Любовь для него остро стала как проблема; но он не пошел дальше отрицания ее реализма, т. е. дальше «ангельского», по Соловьеву, пути. Других путей, кроме этих двух: дьявольского и ангельского Толстой не признавал.
3
Мне хочется остановиться немного дольше на трех авторах, трех вещах, никакого как будто отношения друг к другу не имеющих. Не потому беру я эти три любовных романа, что нельзя было бы взять другие, но, во-первых, потому, что на общее исследование любви в мировой литературе все равно не хватило бы ничьей жизни, а во-вторых – для моего беглого очерка достаточно характерны и эти три.
Три автора, разной национальности: русский, немец и француз. Три романа, разных времен: один 1925 года, другой 1774-го, а третий… право, не знаю, и не интересуюсь; кажется, современный. Заглавия романов: «Митина любовь», «Страдания молодого Вертера» и «Габи, любовь моя…» Имена авторов: Бунин, Гете и Деренн.
Ну, скажут мне, русского Митю и немецкого Вертера еще кое-как можно сблизить, а французский-то Жак причем? Кто этот Деренн? Почему его надо сравнивать с Гете?
Но я никого не сравниваю! Я не сужу, не разбираю их в плоскости «искусства», чисто художественных достоинств, литературного мастерства, эстетики как эстетики. Я не хочу и не могу «сравнивать» мирового гения с совершенно неизвестным (мне, по крайней мере) французом, книжка которого, попавшаяся мне случайно, ни малейшим мастерством не блещет. Я смотрю не на мастерство, даже не на романы как на таковые, – а на любовь, в них изображенную, на волю художника в этой области.
По ранее принятому делению, в романе Бунина «любовь» берется какой она бывает, в романе Деренна какой должна быть; роман Гете – смешанный.
Sainte-Beuve, в статье о Вертере, очень близко подходит к правде. Он, прежде всего, не берет Вертера исключительно как художественное произведение; он рассматривает его в связи с временем и биографией автора. Оценивает все сразу, правду и выдумку, дань, которую 23-летний Гете отдал толпе своего времени, и верную «волю к жизни» молодого гения. Sainte-Beuve правильно указывает, что конец Вертера вульгарен и фальшив, портит произведение и до такой степени не вяжется с ярким, сознательно-волевым характером Гете-Вертера и его любви, что почти похож на мистификацию.
Поэтому мы, с нашей точки зрения, и должны назвать Вертера «смешанным». Любовь к Шарлотте – не совсем, не вполне то, что «бывает»; в ней очень сквозит «должное». Но у юного автора это должное лишь в ощущениях; поэтому самоубийство Вертера, конец, соответствующий другой любви и другому герою, мог соблазнить неокрепший гений Гете. К Гете же особенно приложимы слова Вейнингера о Личности как «становящемся»: «Человек медленно и постепенно, в течение всей жизни, приобретает ее…». Лишь через многие десятилетия Гете дошел до той удивительной (первой или последней?) встречи Фауста и Маргариты, когда Маргарита ждет, чтобы Фауст узнал ее, и они вместе идут наверх…
Но и в годы Вертера воля Гете не лежала к «данному»; он пламенно любил действительный мир, но не за то, что он «такой», а за то, что из него, такого, «может выйти» (по его выражению).
Именно в несоответствии, в несгармонированности конца Вертера с материей его любви и лежит фальшь романа. Ведь не упрекаем же мы в фальши несчастного Азру (несколько надоевшего), который с самого начала верен себе, и так и заявляет: «Я из рода бедных Азров: полюбив (любовью, смысла не имеющей и смысла не ищущей), мы умираем…», что, как мы видели, чрезвычайно естественно.
Бунинский Митя – прежде всего сам полная противоположность Вертеру. Живой до иллюзии: именно такие «бывают» русские (помещичьего оскуденья), мальчики, полудеревенские птенцы, полоротые, неуклюжие, хорошие. Установим сразу: Бунин – король изобразительности, король «данного»; я не знаю в современности равного ему мастера, такого – не рассказывающего нам о природе, вещах и людях, а прямо показывающего их. Это сила очень серьезного таланта. Соловьев не признает «художественными» произведения, где изображается только «данное», в том виде, в каком оно «есть». Но… для большого творческого таланта это и невозможно. Конечно, талант изобразительный по преимуществу, художник, не склонный к обобщениям и не ищущий смысла явлений, не будет изображать предметы «в свете нового мира» или с точки зрения их окончательного состояния. Он этой точки зрения не имеет, он будет стараться рисовать их просто, какими видит. Но именно большой талант не сможет остановиться на этом, ограничиться этим: какую-то волю свою он проявит, отразит в творческом образе. И я подчеркиваю: если он не желает или не умеет видеть улучшенной действительности, он рискует дать ее ухудшенной.
Такой художник легко соскальзывает с действительности – вниз; его герой, в любовном состоянии, действует еще ужаснее, погибает еще скорее, чем это бывает в жизни, а сама любовь кажется еще безысходнее и обманнее.