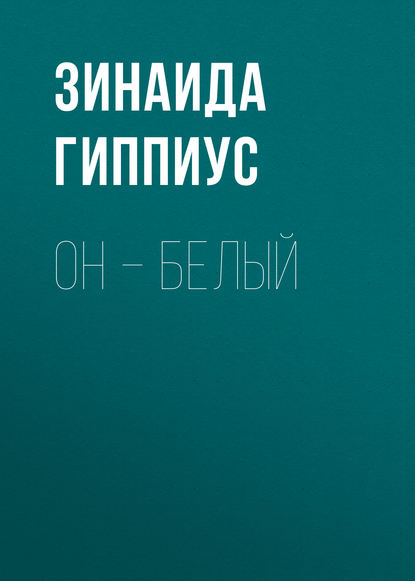По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Он – белый
Год написания книги
1912
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ах, вот что! – сказал Федя. – Знаем, знаем:
«А гордый демон так прекрасен,
Так лучезарен и могуч…»
– Я и умен очень, – заспешил вдруг демон. – Только для этого придется немножко красоты потерять…
И уже нет демона. Уже кривятся злой усмешкой знакомые губы, сдвигаются разлетающиеся брови.
– Мне надоели твои превращения, – устало сказал Федя. – И все я знаю давно…
Мефистофель взглянул на него со строгой презрительностью.
– Эта ваша же история, – произнес он. – Не так уж хорошо ты ее знаешь, как я. Я, сам видишь, на своей шкуре ее переживаю.
Федя подумал:
– Ну ладно, продолжай. Я только хотел сказать, что мне-то все это не страшно. И, кажется, ты еще забыл…
Он хотел указать глазами куда-то, но лампа, заставленная томом Достоевского, была позади изголовья. Дьявол, однако, понял его.
– Не торопись, я ничего не забыл. Это, что ли?
Федя, улыбаясь, глядел на серого, паршивого, но сильного и вертлявого черта, с традиционным «хвостом датской собаки». Черт чихнул.
– Тебя и этим не проберешь, конечно, – сказал он, вытирая ухом нос. – Я так только, на минуточку, чтоб ничего не пропустить. От добросовестности. А ты будь любопытней. Разные ведь вы все.
И он, смеясь, принялся делаться человеком. Большим, стройным, довольно приятным, с белокурыми волосами, откинутыми назад. В лице была уверенная сытость и уверенная властность.
– Это еще что? – с недоумением спросил Федя и в ту же минуту заметил, что человек – крылатый. Крылья у него росли как-то не на плечах, а тянулись из-под рук, угловатые и такие громадные, что тени кинулись на потолок. Правое крыло протянулось над Фединой постелью и, доросши до стены, ударилось о стену с тупым, суховатым стуком. Цвет крыльев – желтый, и похоже было, что они сделаны из прорезиненной материи.
Но все в общем казалось очень недурно: и человек, и крылья.
Федя глядел задумчиво. Он понимал, что этот уверенный и властный человек, – или сверхчеловек, – может быть прельстительнее всякого демона, всякого чертенка с насморком; но сам Федя ему был чужд; не соблазнялся им и не боялся его; а потому и не ненавидел. Все это к тому же чертовы штуки. Превращения, призраки. Он – всякий; значит ли – никакой?
Но вдруг Федя с неизъяснимым томлением приподнялся на подушках. Человек по-прежнему сидел около него. Но уже никаких крыльев не было, а просто сидел пожилой господин в очках, в потертом сюртуке; и весь он был насквозь такой слабый, такие слабые, длинные, обезьяньи висели руки, так гнулась от слабости спина, так на слабой шее висела голова, что, казалось, и минуты он весь не продержится на стуле. И уж, конечно, пальцем не двинет и рта не раскроет. Однако он раскрыл и промямлил:
– Это уж я для тебя. Твой. Только оставьте меня все в полном покое.
С ужасом Федя глядел в лицо дьявола. В лице мелькали странно знакомые черты, и чем дольше глядел Федя, тем они проступали ярче – его, Федины, черты. Сам Федя – только старый, страшный, бездонно-безвольный, с повисшей головой, сидел перед ним.
– Зачем ты меня мучаешь? За что? – простонал Федя. – Всю жизнь я о тебе думал, не знал, какой ты и теперь не знаю, потому что ты мои же все мысли передо мною повторил, больше ничего. И сидишь сейчас слабой обезьяной, таким, каким я тебя всего больше ненавидел и боялся и бороться хотел, да бороться сил не было…
– Не было? – вяло спросила обезьяна.
– Если сила ненависти силу борьбы рождает, так было! Было! – почти закричал Федя. – А потому – ты врешь сейчас, сидя около меня с моим лицом! Ты лгун! Ты призрак, тень! О, всю жизнь думать и мучиться – и ничего не знать о тебе, только ненавидеть! Будь ты проклят!
Черт кивнул головой. И произнес, словно эхо…
– Тень… Тень… Всю жизнь… ничего не знать… Всю…
– Скажи, – взмолился вдруг Федя, – есть ты на самом деле или нет тебя? Если есть – какой же ты? Кто ты? Зачем ты? Зачем я тебя ненавижу? Ведь для чего-нибудь ты пришел ко мне?
Федя неясно теперь видел дьявола. Уже не висели длинные руки и голова; светилось зыбкое пятно, светилось, не исчезало. Была и голова, и тело, но чем оно все делалось, Федя не мог различить. Голубые, странные глаза только видел, на него устремленные.
– Не спеши так, – сказал дьявол тихо. Вдруг наклонился к столику (точно кудри какие-то упали вниз) – и взглянул на Федины часы.
– Что ты делаешь? – закричал Федя.
– Я пришел сказать тебе.
Туманный облик все светлел. Светлел медленно, но непрерывно. Тьма кусками сваливалась с него и пропадала внизу, обнажая светлое ядро.
– Тебя простят? Ты хочешь уверить, что тебя простят? – шептал Федя взволнованно, садясь на постели.
– Нет. Меня не простят. Да если бы и был я прощен… вы, ты, вы все, разве могли бы… простить?
– Нет.
– Видишь. А потому и не будет прощенья. И не надо прощенья.
– Кто ты? Отчего ты сейчас такой? Это ты?
– Да, это я. Слушай.
Федя смотрел, не отрываясь. И на него смотрели тихие, голубые глаза.
– Ты слушаешь? Мы оба – тварь, и я, и ты. Но я был прежде тебя. Создавший создал любовь и свет. Сотворив людей, Он полюбил их. И сказал себе: «Хочу послать им Мой высший дар – хочу дать им свободу. Хочу, чтобы каждый из них был воистину Моим образом и подобием, чтобы сам, вольно, шел ко благу и возрастал к свету, а не был, как раб, покорно принимающий доброе, потому что заблагорассудилось это Господину». И позвал Он нас, светлых, к себе, и сказал: «Кто из вас вольно ляжет тенью на Мою землю, вольно, ради свободы людей и ради Моей любви? Кто хочет быть ненавидимым и гонимым на земле, неузнанным до конца, ради сияния света Моего? Ибо если не ляжет тень на землю, не будет у людей свободы выбирать между светом и тенью. И не будут они, как Мы».
Так Он сказал. И отделился я, и сказал Ему: «Я пойду».
Федя слушал и смотрел неотрывно в светящийся лик. Говоривший продолжал:
«Я пойду, я лягу тенью на Твою землю, я до конца буду лежать, как пес, на дороге, ведущей к Тебе, и пусть каждый из них оттолкнет пса, чтобы войти к Тебе, свободный, как Ты. Всю тяжесть проклятий их я беру на себя. Но, Всемогущий, что я знаю? Ты один знаешь силы человеческие! Если начну я одолевать их?»
– Я смел сказать Ему так, но уже была во мне тень и страданье людей. И Он отпустил мне, твари, первое неверие за первое страдание, и сказал: «Я сам сойду помощником к людям, когда ослабляют силы их. Я сам в Сыне Моем сойду к ним на землю, стану, как один из них, в свободе и любви, и умру, как они, и воскресну, как первый из них. Ты узнаешь Меня, и будешь тенью около Меня. Велико твое страдание, и только Мое и человеческое будет больше твоего. Посылаю тебя, вольно идущего, на землю, в темной одежде. К Моему престолу восходи белым, как ты есть. Но для них – ты темен до дня оправдания, и о дне этом ты не знаешь. Иди».
– И я спал на землю, как молния… Врезался в нее громовой стрелой. Я здесь. Ты меня видишь.
В белой, точно искристый свет одежде, сидел перед Федей печальный ангел. Все в комнате побелело. Чуть сквозили старые желтенькие стены через этот бледный свет. Но еще сквозили, еще были.
И Федя вдруг протянул к ним руки, к этим милым, желтеньким, уходящим стенам.
– Ты сказал мне, ты сказал… – шептал Федя. – Ведь это значит… Зачем сказал ты? Открыл оправданье, сжег мою ненависть… Значит, мне больше не надо жить?
Сияющий дьявол склонил голову на руки и заплакал. Но слезы были лучистые, нежные, радостные.
Остро, как меч, прорезало Федину душу знакомое понятие смерти. И скрестилось с другим мечом, – таким же острым понятием жизни.