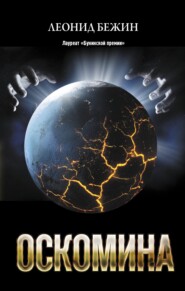По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лель, или Блеск и нищета Саввы Великолепного
Автор
Серия
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лель, или Блеск и нищета Саввы Великолепного
Леонид Евгеньевич Бежин
Городская проза
Казалось бы, что может связывать Репина, Врубеля, Серова, писателей Аксакова и Гоголя, гениального Шаляпина, не менее гениальных Римского-Корсакова и Рахманинова, министра финансов Витте, царя Николая II, революционеров-народников и вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина? Однако, связующее звено меж ними есть. И это – фигура Саввы Мамонтова, последнего хозяина усадьбы Абрамцево, строителя железных дорог по всей России, создателя Абрамцевского кружка и Частной оперы и – хоть и не хочется, но нужно добавить, – узника Таганской тюрьмы. Роман Леонида Бежина – об откровениях, муках, тайнах, причудах, взлетах и падениях этой удивительной личности московского Медичи – Саввы Великолепного.
Леонид Бежин
Лель, или Блеск и нищета Саввы Великолепного
Пролог – не только как вступление к роману, но и как предуведомление к эпилогу
1
Этот пролог я мог бы начать с прокламации. Так было модно когда-то у авторов, подрядившихся на воссоздание романтики революционной борьбы и героического подполья. Подполья, разумеется, не имеющего ничего общего с пресловутым подпольем архискверного (выражение вождя) Достоевского, поселившего там своего, с позволения сказать, героя, жалкого неврастеника и мизантропа.
О, от моего героя все редакторы были бы в восторге! Я думаю, и сам главный, вызвав меня, благосклонно пожал бы мне руку. А может быть, даже дружески взял бы меня за талию, что могло свидетельствовать о неизменном следовании принципу, принятому в высших сферах власти брежневских времен: у нас все просто, но без излишнего демократизма (за излишний демократизм могла быть сочтена рюмка водки или еще какой-нибудь панибратский брудершафт).
Кроме того, меня тотчас включили бы в план и выплатили аванс, тем более что моя прокламация не выдумка, а подлинный документ, извлеченный из архивов и положенный им на стол. Впрочем, я не уверен, что этот документ попал в архивы. Ведь на дворе был 1895 год – время забастовок и рабочих кружков. Тут еще не до архивов. Архивы тучнели лишь в сыскной полиции, в Третьем отделении. Но если бы даже и попал, то его там вполне могли измельчить в крошку мыши. Они ведь на то и мыши, что имеют скверную привычку пожирать все подчистую, кроме приманки в мышеловке.
Словом, не уверен, не уверен, но если все же… то я положил бы и еще припечатал мой документ ладонью. Нате (говоря словом Владимира Владимировича, избави бог, не нынешнего, а тогдашнего)! А тогда ценили подобные документы и носились (тютькались) с ними как с писаной торбой. Правда, и подделывали, и вымарывали целые страницы, но это уж как водится при тоталитарном (демократическом тож) режиме.
Но вернемся к листовке, о коей еще не все сказано. Главное-то я утаил. Вернее, приберег, чтобы моих редакторов сразить наповал. Кем она написана, эта писаная торба (да простится мне этот сомнительный камамбер, то бишь каламбур)? И что она, собственно, собой представляет?
Раскрою карты, но не сразу, а постепенно (для поддержания редакторского интереса), одну за одной. Она представляет собой воззвание к восставшим рабочим Невского завода, написанное… теперь внимание… не кем иным, как молодым Владимиром Ульяновым, будущим вождем мирового пролетариата. В дальнейшем он прославился, помимо всего прочего, еще и тем, что выбросил лозунг (тогда их бросали направо и налево, как сейчас слоганы) и во всеуслышание провозгласил: у рабочих нет отечества.
Того самого отечества, дым которого нам сладок и приятен, но, как на поверку (поверку революционных рядов) вышло, что его-то и нет. Как его ни называй – отечеством, Родиной, русской землей, что, как известно, уже за шеломянем еси. А что же тогда вместо него? Пролетарская солидарность.
Хорошее начало для пролога. Или для некролога о русской земле, которая многим в нынешнем мире опостылела и обрыдла. Обрыдла настолько, что они готовы пуститься в пляски половецкие, лишь бы ее не было. Это и соседушки наши, бывшие дружки по союзу нерушимому, готовые срыть этот самый шеломянь, лишь бы никакой русской земли за ним не проглядывалось. Это и исконная вражья сила, клеймимая автором одноименной оперы (об операх я не случайно заговорил) композитором Серовым, отцом известного художника (и о художниках упомянул тоже не случайно).
Словом, во всех смыслах хорошее начало. Но с таким же успехом мог бы я засвидетельствовать и другой исторический факт. Двадцать второго июля тысяча восемьсот семьдесят восьмого года из ссылки в городе Ялуторовске Тобольской губернии бежала Ольга Спиридоновна Любатович, одна из пяти сестер Любатович, революционерка-народница, сподвижница «Земли и Воли», чью сестру Татьяну называли предшественницей русских демонических женщин, последовательниц немецких титанид и французских жорж-зандисток.
Может, в чем-то это и так – предшественница, хотя истинная демоническая женщина, на мой взгляд, не она, а именно ее ссыльная сестрица Ольга, удостоившаяся о себе такого отзыва Веры Фигнер: «Это тигрица, разъяренная и красивая новой красотой, развернувшейся от материнства». Добавлю о материнстве: своего ребенка Ольга Любатович оставила в Швейцарии на попечении друзей, сама же отправилась на родину вызволять из тюрьмы мужа-революционера Николая Морозова, человека не просто замечательного, но замечательного во всех отношениях.
2
Оный Николай Морозов в числе прочих замечательных личностей, пламенных революционеров готовил покушение на царя-освободителя Александра II. Он же встречался с Марксом, получил от него для перевода на русский язык Манифест коммунистической партии, начинавшийся известной фразой о том, что призрак бродит по Европе.
Словом, сей Морозов заслуживает отдельного упоминания, а может быть, даже целого романа. О нем есть что добавить. Шлиссельбуржец, он отсидел двадцать девять лет в тюрьме, из них – двадцать пять лет непрерывно, без всякой надежды хотя бы урывками побывать на воле, глотнуть свежего воздуха.
Однако за тюремной решеткой времени зря не терял. Выучил одиннадцать языков, написал двадцать шесть томов по астрономии, космологии, физике, химии, математике, геофизике, воздухоплаванию, авиации, истории, философии, политической экономии. Читать все это по большей части невозможно, хотя некоторые идеи заслуживают внимания (например, он первым задумался об устройстве космического скафандра).
Николай Александрович – своеобразный блаженный и мученик от науки. Блаженный и в смысле святого подвижника, и в смысле энтузиаста, упоенного самим процессом мышления, доставлявшим ему неизъяснимое наслаждение независимо от результата. Это, однако, не мешало ему из тюрьмы наставлять жену Ольгу: «Помни, что теперь ты одна представительница терроризма и на тебе лежит обязанность не дать ему заглохнуть». Поясню, что терроризм среди бомбометателей считался гуманным, поскольку убивали, рвали на куски лишь тех, в ком усматривали высшее воплощение зла.
Морозов, освободившись по амнистии тысяча девятьсот пятого года, вступил в партию кадетов (от нее он был избран членом Учредительного собрания) и в масонскую ложу «Полярная звезда». Он дружил с Вернадским и писал стихи, вышедшие книгой и заслужившие уничтожающий отзыв Николая Гумилева, бранившего их за дурной язык и отсутствие вкуса, что, впрочем, автора ничуть не обескуражило.
Николай Александрович отнюдь не приветствовал социалистическую революцию, по его мнению, преждевременную в такой крестьянской, почвеннической стране, как Россия. Но как-то с нею стерпелся, свыкся и примирился. Во всяком случае, благополучно прожил при большевиках. Ему даже не припомнили его кадетство и не превратили в лагерную пыль.
И вот что любопытно и в некотором смысле даже умилительно. В возрасте восьмидесяти пяти лет Морозов окончил снайперские курсы, еще успел повоевать на Волховском фронте и поздравить с победой Сталина, назвав его гениальным вождем и прозорливым стратегом.
Себя же он под конец жизни именовал последним русским помещиком, поскольку как бывший шлиссельбуржец получил от государства пожизненное право собственности на свое наследственное поместье Борок. Умер же Николай Александрович тридцатого июля тысяча девятьсот сорок шестого года, на девяносто третьем году жизни. Его последние слова были: «Прощайте, звезды».
В одном из стихотворений, размышляя о смерти, он написал, возможно относя эти строки к себе:
Ушел он в новый путь,
Он мертв лишь для живых,
Для тех, кого он оставляет.
Невольно согласишься с Михайлой Ломоносовым: кого только не способна российская земля рожать!
3
Однако эти факты для меня все же не так уж много значили бы, если бы не еще один факт.
В тысяча восемьсот сорок первом году у купца первой гильдии Ивана Федоровича Мамонтова родился сын, нареченный Саввой и крещенный под этим именем. И случилось это в том же упомянутом нами городе Ялуторовске, откуда бежала ссыльная Ольга Любатович. С ней Савва Иванович, по-видимому, не встречался, но, конечно же, слышал о пламенной революционерке – и от ее сестры Клавдии, взятой им на службу, и от другой сестры, певицы Татьяны Любатович. Та хоть и уступает Ольге по части демонизма, но тоже тигрица, которую Мамонтов, смертельно влюбившись в нее, так и не смог укротить. Не смог, хотя пожертвовал ради нее семейным благополучием: он был прочно женат и имел пятерых детей, первые буквы имен которых составляли имя САВВА – Сергей, Андрей, Всеволод, Веруша и Александра.
Вот тут-то уже возникает роман, для которого такой пролог вполне сгодился бы. Для романиста связать в один узел нити: молодой Ульянов, Ольга и Татьяна Любатович, шлиссельбуржец Николай Морозов, Савва Мамонтов – весьма соблазнительно. Тем более что в отдалении еще маячат министр финансов Российской империи Витте и прославленный адвокат Плевако, способный затмить своим красноречием римских ораторов.
Об этих людях, конечно, будет рассказано в своем месте, но пролог я все же предпочту другой. И причина этого – доставшаяся мне рукопись. «Ага, – заподозрит читатель, – снова история о рукописи, найденной в выброшенной морскими волнами на берег заплесневелой бутылке. Или того лучше: обнаруженной во вспоротом брюхе огромной зубастой акулы.
4
Но мы, слава богу, не дети капитана Гранта, чтобы морочить нас подобными историями. Я и сам не люблю историй о полуистлевших рукописях, найденных удачливыми авантюристами при загадочных обстоятельствах, и не собираюсь донимать читателя подобной чепухой. Устарело! Скажу сразу, что свою рукопись я обрел не у хироманта и чернокнижника на восточном базаре и наткнулся на нее, не роясь в кованом сундуке умершей одинокой старухи.
И уж, конечно, я не стану уверять, что обнаружил ее в пресловутой заплесневелой, опутанной водорослями, с ожерельем из ракушек бутылке, выброшенной волнами на морской берег. Особенно наскучили мне эти бутылки, которые кому-то не лень запечатывать и бросать в море…
Нет, все гораздо проще и в то же время не лишено некоей интриги, некоего фокуса с монетами, кольцом или колодой карт – того, что когда-то называлось кунштюк.
Лет этак сорок назад, во времена моей юности, я страсть как любил по воскресеньям совершать путешествия по пригородным (подмосковным) монастырям и усадьбам – с тем чтобы рано утром выехать, а поздно вечером вернуться. Дальними путешествиями я себя редко баловал, поскольку очень уж не хотелось отрываться от письменного стола (в Европу и уж тем более за океан тогда и не пускали). А вот ближними увлекался. Конечно, были у меня излюбленные места, где я бывал не по разу, а наведывался туда чуть ли не каждый месяц, особенно осенью, когда праздной публики становилось все меньше и я мог насладиться даже не то чтобы одиночеством, а интимным сближением со стариной, с девятнадцатым веком.
Вообще у меня был культ девятнадцатого, воплощавшего в себе все насущное, потребное душе – в противоположность двадцатому. С ним, этим страшным двадцатым, связывалось все советское, как мне тогда казалось, измерявшееся не веками, а – вечное. Я был уверен, что эта глыба, этот монолит – Советский Союз с его ракетами в подземных шахтах, – продержится и тысячу лет, а то и больше. Недаром союз нерушимый навеки сплотила великая Русь.
А вот вышло-то наоборот: со временем девятнадцатый век стал вечным, двадцатый же ужался, скукожился и уместился в отведенное ему время.
Однако я не об этом. Среди подмосковных усадеб самым любимым местом было для меня Абрамцево – по Ярославской ветке, неподалеку от Троице-Сергиевой лавры. Вот куда меня постоянно тянуло. Для меня было истинным наслаждением сидеть на открытой веранде абрамцевского усадебного дома, воображая, как летним утром, умываясь под ручным умывальником, отфыркиваясь, подбривая бородку, окаймлявшую рот, у открытого окна пробовал голос в итальянских ариях Савва Мамонтов, хозяин усадьбы. И как скульптор Марк Антокольский, не выговаривавший «с», кричал ему из своего распахнутого окна: «Браво, Шавва!»
А по склону холма в это время поднимался с этюдником Илья Репин, считавший подобные утра лучшим временем жизни, и мятежный Врубель победоносно возносил над головой поливные изразцы, изготовленные им для камина абрамцевского дома.
Абрамцевский кружок, в который входила вся тогдашняя артистическая богема: и Серов, и Поленов, и братья Васнецовы, и Левитан, и Нестеров, и многие другие! Содружество художников! Открытая для всех мастерская! Все это так живо являлось моему воображению, что я мечтал написать роман.
Мечтать-то мечтал, но сколько надо прочесть, изучить полотен, рисунков, набросков (один Репин мог окурком из пепельницы за считаные минуты создать гениальный рисунок)! Эта задача и влекла, и страшила. И от этого страха я оттягивал решающий момент, непростительно медлил, внушал себе: вот еще немного – и я возьмусь. Но какое там! Все ограничивалось сладкими грезами, и я лишний раз убеждался в правоте Достоевского, сказавшего, что мечтать о своих будущих произведениях гораздо приятнее, чем их писать.
5
Но в Абрамцево я по-прежнему ездил. Ездил по утрам с Ярославского вокзала, мимо давно знакомых дачных платформ, привычно наблюдая, как реденький, сквозной подмосковный лесок постепенно становится лесом, а там и бором, в сумрачном облике коего уже угадывается нечто северное: ели, сосны, замшелые пни. И вот наконец Абрамцево! Оно стало моей истинной судьбой, обладающей разными свойствами и среди них свойством жизненного магнита – манить и неодолимо притягивать.
Я завел там многие знакомства, поскольку и сам когда-то сидел в музее и знал этот тип людей, милых, причудливых, с сумасшедшинкой, похожих на одного персонажа из «Жизни Арсеньева» Бунина: «Вот я раз ехал в Орел, со мной сидел член елецкого окружного суда, почтенный, серьезный человек, похожий на пикового короля… Долго сидел, читал “Новое время”, потом встал, вышел и пропал. Я даже обеспокоился, тоже вышел и отворил дверь в сени. За грохотом поезда он не слыхал и не видал меня – и что же мне представилось? Он залихватски плясал, выделывал ногами самые отчаянные штуки в лад колесам».
Не то чтобы музейные сидельцы все как на подбор были такие отчаянные плясуны, но по своей причудливости и сумасшедшинке они могли выкинуть любой номер, втянуть меня в любую авантюру.
Леонид Евгеньевич Бежин
Городская проза
Казалось бы, что может связывать Репина, Врубеля, Серова, писателей Аксакова и Гоголя, гениального Шаляпина, не менее гениальных Римского-Корсакова и Рахманинова, министра финансов Витте, царя Николая II, революционеров-народников и вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина? Однако, связующее звено меж ними есть. И это – фигура Саввы Мамонтова, последнего хозяина усадьбы Абрамцево, строителя железных дорог по всей России, создателя Абрамцевского кружка и Частной оперы и – хоть и не хочется, но нужно добавить, – узника Таганской тюрьмы. Роман Леонида Бежина – об откровениях, муках, тайнах, причудах, взлетах и падениях этой удивительной личности московского Медичи – Саввы Великолепного.
Леонид Бежин
Лель, или Блеск и нищета Саввы Великолепного
Пролог – не только как вступление к роману, но и как предуведомление к эпилогу
1
Этот пролог я мог бы начать с прокламации. Так было модно когда-то у авторов, подрядившихся на воссоздание романтики революционной борьбы и героического подполья. Подполья, разумеется, не имеющего ничего общего с пресловутым подпольем архискверного (выражение вождя) Достоевского, поселившего там своего, с позволения сказать, героя, жалкого неврастеника и мизантропа.
О, от моего героя все редакторы были бы в восторге! Я думаю, и сам главный, вызвав меня, благосклонно пожал бы мне руку. А может быть, даже дружески взял бы меня за талию, что могло свидетельствовать о неизменном следовании принципу, принятому в высших сферах власти брежневских времен: у нас все просто, но без излишнего демократизма (за излишний демократизм могла быть сочтена рюмка водки или еще какой-нибудь панибратский брудершафт).
Кроме того, меня тотчас включили бы в план и выплатили аванс, тем более что моя прокламация не выдумка, а подлинный документ, извлеченный из архивов и положенный им на стол. Впрочем, я не уверен, что этот документ попал в архивы. Ведь на дворе был 1895 год – время забастовок и рабочих кружков. Тут еще не до архивов. Архивы тучнели лишь в сыскной полиции, в Третьем отделении. Но если бы даже и попал, то его там вполне могли измельчить в крошку мыши. Они ведь на то и мыши, что имеют скверную привычку пожирать все подчистую, кроме приманки в мышеловке.
Словом, не уверен, не уверен, но если все же… то я положил бы и еще припечатал мой документ ладонью. Нате (говоря словом Владимира Владимировича, избави бог, не нынешнего, а тогдашнего)! А тогда ценили подобные документы и носились (тютькались) с ними как с писаной торбой. Правда, и подделывали, и вымарывали целые страницы, но это уж как водится при тоталитарном (демократическом тож) режиме.
Но вернемся к листовке, о коей еще не все сказано. Главное-то я утаил. Вернее, приберег, чтобы моих редакторов сразить наповал. Кем она написана, эта писаная торба (да простится мне этот сомнительный камамбер, то бишь каламбур)? И что она, собственно, собой представляет?
Раскрою карты, но не сразу, а постепенно (для поддержания редакторского интереса), одну за одной. Она представляет собой воззвание к восставшим рабочим Невского завода, написанное… теперь внимание… не кем иным, как молодым Владимиром Ульяновым, будущим вождем мирового пролетариата. В дальнейшем он прославился, помимо всего прочего, еще и тем, что выбросил лозунг (тогда их бросали направо и налево, как сейчас слоганы) и во всеуслышание провозгласил: у рабочих нет отечества.
Того самого отечества, дым которого нам сладок и приятен, но, как на поверку (поверку революционных рядов) вышло, что его-то и нет. Как его ни называй – отечеством, Родиной, русской землей, что, как известно, уже за шеломянем еси. А что же тогда вместо него? Пролетарская солидарность.
Хорошее начало для пролога. Или для некролога о русской земле, которая многим в нынешнем мире опостылела и обрыдла. Обрыдла настолько, что они готовы пуститься в пляски половецкие, лишь бы ее не было. Это и соседушки наши, бывшие дружки по союзу нерушимому, готовые срыть этот самый шеломянь, лишь бы никакой русской земли за ним не проглядывалось. Это и исконная вражья сила, клеймимая автором одноименной оперы (об операх я не случайно заговорил) композитором Серовым, отцом известного художника (и о художниках упомянул тоже не случайно).
Словом, во всех смыслах хорошее начало. Но с таким же успехом мог бы я засвидетельствовать и другой исторический факт. Двадцать второго июля тысяча восемьсот семьдесят восьмого года из ссылки в городе Ялуторовске Тобольской губернии бежала Ольга Спиридоновна Любатович, одна из пяти сестер Любатович, революционерка-народница, сподвижница «Земли и Воли», чью сестру Татьяну называли предшественницей русских демонических женщин, последовательниц немецких титанид и французских жорж-зандисток.
Может, в чем-то это и так – предшественница, хотя истинная демоническая женщина, на мой взгляд, не она, а именно ее ссыльная сестрица Ольга, удостоившаяся о себе такого отзыва Веры Фигнер: «Это тигрица, разъяренная и красивая новой красотой, развернувшейся от материнства». Добавлю о материнстве: своего ребенка Ольга Любатович оставила в Швейцарии на попечении друзей, сама же отправилась на родину вызволять из тюрьмы мужа-революционера Николая Морозова, человека не просто замечательного, но замечательного во всех отношениях.
2
Оный Николай Морозов в числе прочих замечательных личностей, пламенных революционеров готовил покушение на царя-освободителя Александра II. Он же встречался с Марксом, получил от него для перевода на русский язык Манифест коммунистической партии, начинавшийся известной фразой о том, что призрак бродит по Европе.
Словом, сей Морозов заслуживает отдельного упоминания, а может быть, даже целого романа. О нем есть что добавить. Шлиссельбуржец, он отсидел двадцать девять лет в тюрьме, из них – двадцать пять лет непрерывно, без всякой надежды хотя бы урывками побывать на воле, глотнуть свежего воздуха.
Однако за тюремной решеткой времени зря не терял. Выучил одиннадцать языков, написал двадцать шесть томов по астрономии, космологии, физике, химии, математике, геофизике, воздухоплаванию, авиации, истории, философии, политической экономии. Читать все это по большей части невозможно, хотя некоторые идеи заслуживают внимания (например, он первым задумался об устройстве космического скафандра).
Николай Александрович – своеобразный блаженный и мученик от науки. Блаженный и в смысле святого подвижника, и в смысле энтузиаста, упоенного самим процессом мышления, доставлявшим ему неизъяснимое наслаждение независимо от результата. Это, однако, не мешало ему из тюрьмы наставлять жену Ольгу: «Помни, что теперь ты одна представительница терроризма и на тебе лежит обязанность не дать ему заглохнуть». Поясню, что терроризм среди бомбометателей считался гуманным, поскольку убивали, рвали на куски лишь тех, в ком усматривали высшее воплощение зла.
Морозов, освободившись по амнистии тысяча девятьсот пятого года, вступил в партию кадетов (от нее он был избран членом Учредительного собрания) и в масонскую ложу «Полярная звезда». Он дружил с Вернадским и писал стихи, вышедшие книгой и заслужившие уничтожающий отзыв Николая Гумилева, бранившего их за дурной язык и отсутствие вкуса, что, впрочем, автора ничуть не обескуражило.
Николай Александрович отнюдь не приветствовал социалистическую революцию, по его мнению, преждевременную в такой крестьянской, почвеннической стране, как Россия. Но как-то с нею стерпелся, свыкся и примирился. Во всяком случае, благополучно прожил при большевиках. Ему даже не припомнили его кадетство и не превратили в лагерную пыль.
И вот что любопытно и в некотором смысле даже умилительно. В возрасте восьмидесяти пяти лет Морозов окончил снайперские курсы, еще успел повоевать на Волховском фронте и поздравить с победой Сталина, назвав его гениальным вождем и прозорливым стратегом.
Себя же он под конец жизни именовал последним русским помещиком, поскольку как бывший шлиссельбуржец получил от государства пожизненное право собственности на свое наследственное поместье Борок. Умер же Николай Александрович тридцатого июля тысяча девятьсот сорок шестого года, на девяносто третьем году жизни. Его последние слова были: «Прощайте, звезды».
В одном из стихотворений, размышляя о смерти, он написал, возможно относя эти строки к себе:
Ушел он в новый путь,
Он мертв лишь для живых,
Для тех, кого он оставляет.
Невольно согласишься с Михайлой Ломоносовым: кого только не способна российская земля рожать!
3
Однако эти факты для меня все же не так уж много значили бы, если бы не еще один факт.
В тысяча восемьсот сорок первом году у купца первой гильдии Ивана Федоровича Мамонтова родился сын, нареченный Саввой и крещенный под этим именем. И случилось это в том же упомянутом нами городе Ялуторовске, откуда бежала ссыльная Ольга Любатович. С ней Савва Иванович, по-видимому, не встречался, но, конечно же, слышал о пламенной революционерке – и от ее сестры Клавдии, взятой им на службу, и от другой сестры, певицы Татьяны Любатович. Та хоть и уступает Ольге по части демонизма, но тоже тигрица, которую Мамонтов, смертельно влюбившись в нее, так и не смог укротить. Не смог, хотя пожертвовал ради нее семейным благополучием: он был прочно женат и имел пятерых детей, первые буквы имен которых составляли имя САВВА – Сергей, Андрей, Всеволод, Веруша и Александра.
Вот тут-то уже возникает роман, для которого такой пролог вполне сгодился бы. Для романиста связать в один узел нити: молодой Ульянов, Ольга и Татьяна Любатович, шлиссельбуржец Николай Морозов, Савва Мамонтов – весьма соблазнительно. Тем более что в отдалении еще маячат министр финансов Российской империи Витте и прославленный адвокат Плевако, способный затмить своим красноречием римских ораторов.
Об этих людях, конечно, будет рассказано в своем месте, но пролог я все же предпочту другой. И причина этого – доставшаяся мне рукопись. «Ага, – заподозрит читатель, – снова история о рукописи, найденной в выброшенной морскими волнами на берег заплесневелой бутылке. Или того лучше: обнаруженной во вспоротом брюхе огромной зубастой акулы.
4
Но мы, слава богу, не дети капитана Гранта, чтобы морочить нас подобными историями. Я и сам не люблю историй о полуистлевших рукописях, найденных удачливыми авантюристами при загадочных обстоятельствах, и не собираюсь донимать читателя подобной чепухой. Устарело! Скажу сразу, что свою рукопись я обрел не у хироманта и чернокнижника на восточном базаре и наткнулся на нее, не роясь в кованом сундуке умершей одинокой старухи.
И уж, конечно, я не стану уверять, что обнаружил ее в пресловутой заплесневелой, опутанной водорослями, с ожерельем из ракушек бутылке, выброшенной волнами на морской берег. Особенно наскучили мне эти бутылки, которые кому-то не лень запечатывать и бросать в море…
Нет, все гораздо проще и в то же время не лишено некоей интриги, некоего фокуса с монетами, кольцом или колодой карт – того, что когда-то называлось кунштюк.
Лет этак сорок назад, во времена моей юности, я страсть как любил по воскресеньям совершать путешествия по пригородным (подмосковным) монастырям и усадьбам – с тем чтобы рано утром выехать, а поздно вечером вернуться. Дальними путешествиями я себя редко баловал, поскольку очень уж не хотелось отрываться от письменного стола (в Европу и уж тем более за океан тогда и не пускали). А вот ближними увлекался. Конечно, были у меня излюбленные места, где я бывал не по разу, а наведывался туда чуть ли не каждый месяц, особенно осенью, когда праздной публики становилось все меньше и я мог насладиться даже не то чтобы одиночеством, а интимным сближением со стариной, с девятнадцатым веком.
Вообще у меня был культ девятнадцатого, воплощавшего в себе все насущное, потребное душе – в противоположность двадцатому. С ним, этим страшным двадцатым, связывалось все советское, как мне тогда казалось, измерявшееся не веками, а – вечное. Я был уверен, что эта глыба, этот монолит – Советский Союз с его ракетами в подземных шахтах, – продержится и тысячу лет, а то и больше. Недаром союз нерушимый навеки сплотила великая Русь.
А вот вышло-то наоборот: со временем девятнадцатый век стал вечным, двадцатый же ужался, скукожился и уместился в отведенное ему время.
Однако я не об этом. Среди подмосковных усадеб самым любимым местом было для меня Абрамцево – по Ярославской ветке, неподалеку от Троице-Сергиевой лавры. Вот куда меня постоянно тянуло. Для меня было истинным наслаждением сидеть на открытой веранде абрамцевского усадебного дома, воображая, как летним утром, умываясь под ручным умывальником, отфыркиваясь, подбривая бородку, окаймлявшую рот, у открытого окна пробовал голос в итальянских ариях Савва Мамонтов, хозяин усадьбы. И как скульптор Марк Антокольский, не выговаривавший «с», кричал ему из своего распахнутого окна: «Браво, Шавва!»
А по склону холма в это время поднимался с этюдником Илья Репин, считавший подобные утра лучшим временем жизни, и мятежный Врубель победоносно возносил над головой поливные изразцы, изготовленные им для камина абрамцевского дома.
Абрамцевский кружок, в который входила вся тогдашняя артистическая богема: и Серов, и Поленов, и братья Васнецовы, и Левитан, и Нестеров, и многие другие! Содружество художников! Открытая для всех мастерская! Все это так живо являлось моему воображению, что я мечтал написать роман.
Мечтать-то мечтал, но сколько надо прочесть, изучить полотен, рисунков, набросков (один Репин мог окурком из пепельницы за считаные минуты создать гениальный рисунок)! Эта задача и влекла, и страшила. И от этого страха я оттягивал решающий момент, непростительно медлил, внушал себе: вот еще немного – и я возьмусь. Но какое там! Все ограничивалось сладкими грезами, и я лишний раз убеждался в правоте Достоевского, сказавшего, что мечтать о своих будущих произведениях гораздо приятнее, чем их писать.
5
Но в Абрамцево я по-прежнему ездил. Ездил по утрам с Ярославского вокзала, мимо давно знакомых дачных платформ, привычно наблюдая, как реденький, сквозной подмосковный лесок постепенно становится лесом, а там и бором, в сумрачном облике коего уже угадывается нечто северное: ели, сосны, замшелые пни. И вот наконец Абрамцево! Оно стало моей истинной судьбой, обладающей разными свойствами и среди них свойством жизненного магнита – манить и неодолимо притягивать.
Я завел там многие знакомства, поскольку и сам когда-то сидел в музее и знал этот тип людей, милых, причудливых, с сумасшедшинкой, похожих на одного персонажа из «Жизни Арсеньева» Бунина: «Вот я раз ехал в Орел, со мной сидел член елецкого окружного суда, почтенный, серьезный человек, похожий на пикового короля… Долго сидел, читал “Новое время”, потом встал, вышел и пропал. Я даже обеспокоился, тоже вышел и отворил дверь в сени. За грохотом поезда он не слыхал и не видал меня – и что же мне представилось? Он залихватски плясал, выделывал ногами самые отчаянные штуки в лад колесам».
Не то чтобы музейные сидельцы все как на подбор были такие отчаянные плясуны, но по своей причудливости и сумасшедшинке они могли выкинуть любой номер, втянуть меня в любую авантюру.