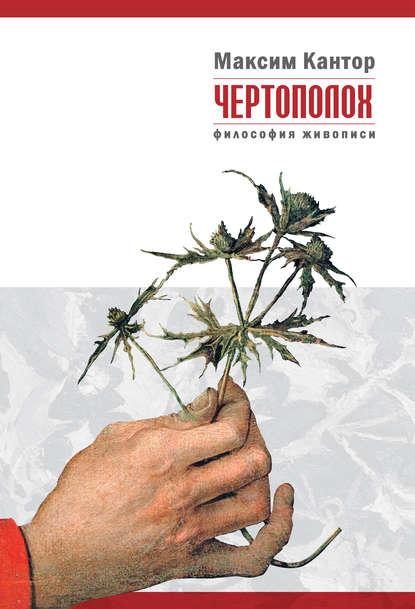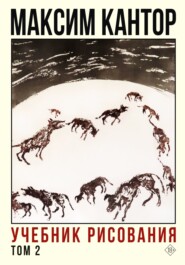По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Чертополох. Философия живописи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Декоративно-манипулятивное искусство (иногда его называют авангардом) вытеснило личное высказывание и портрет; то, что происходит возвращение к имперской концепции от республиканской – слишком очевидно.
Внутри этого спора аббата Сюжера и цистерцианца Бернара Клервоского можно рассмотреть динамику развития европейской масляной живописи.
6
В диалоге «Софист» Платон предлагает разделять человеческую деятельность на подражательную и производительную. Вообще говоря, Платон не считал искусство самостоятельной дисциплиной; но в «Софисте» он применил критерий «производительная и подражательная» по отношению ко всему: и гимнастика, и медицина, и софистика, и поэзия, и живопись – должны быть осознаны и различаются внутри самих себя как «подражательные» и «производительные» (ср. высказывание Велимира Хлебникова, который предложил делить людей на «изобретателей» и «приобретателей»).
В той мере, в какой живопись масляными красками обособилась от канона и стала воплощением персональной судьбы – она перешла из разряда подражательных искусств в разряд производительных. Рассуждая об изобразительном искусстве сегодня, следует применить платоновские дефиниции, чтобы учесть особенности идеологической практики. Уместно делить искусство на «рефлективное» и «декоративное». Понятие «декоративное» следует толковать расширительно: речь идет не просто об украшении жилища, но об украшении идеологической программы. Социалистический реализм, иконопись, монументальное искусство Третьего рейха, искусство Вавилона, дворцовая живопись эпохи рококо – явления сугубо разные, их роднит лишь одно: это декоративная продукция, это символическое искусство, то есть, искусство не-диалогическое. Мы различаем стили и конфессии, но невозможно сказать, чем убеждения одного социалистического реалиста отличаются от убеждений другого соцреалиста, чем идеалы одного рокайльного мастера отличаются от идеалов другого.
Есть показательный пример из истории XX века, который легко проецировать на Проторенессанс, чтобы осознать разницу между рефлективным и декоративным творчеством. Так, Надежда Мандельштам оставила детальные мемуары о своем времени, вспомнив мельчайшие детали и имена второго плана, но в ее воспоминаниях нет ни единого художника; она художников просто не заметила. И это в ту пору, когда авангард властно заявлял о себе на каждом углу, и так ярко, что не заметить художников было нельзя. Проблема была в том, что художники, окружавшие Мандельштама, были мастерами знаково-декоративного, идеологического искусства (и сам авангард в принципе является декоративно-манипулятивной деятельностью), а поэт Мандельштам соотносил себя с индивидуальным и рефлективным высказыванием.
Говорить о живописных пристрастиях Данте Алигьери сложно – здесь, как и в случае с Мандельштамом, слишком очевидна разница между рефлективным, метафизическим творчеством поэта (описавшим подробно восхождение от бытового и частного – к общему и метафизическому) – и декоративно-религиозным изобразительным искусством того времени. Среди друзей Данте был знаменитый живописец Джотто, которого Данте выделял, а Боккаччо, например, называл Джотто лучшим живописцем в мире. Однако личная привязанность не отменяла того факта, что религиозный пафос Джотто не соответствовал характеру веры Данте. Счесть картины Джотто иллюстрациями к «Комедии» невозможно, в них отсутствует второй и третий уровень прочтения. Вера Алигьери была особого рода, это была рефлективная вера, заставляющая вспомнить Абеляра.
Пьер Абеляр не принимал Священное писание, если утверждения Завета не подтверждены доказательствами разума; Абеляр полагал, что «и апостолы не были чужды ошибок»; Абеляр считал и писал, что «кое-что из того, что они (пророки. – М. К.) произносили – ложно». Художников, способных изобразить этот субстанциональный кризис, рядом с Данте не было.
Единственное косвенное упоминание художников находится в Х Песни «Чистилища», куда Данте поместил гордецов; там же пребывает некий скульптор, имени которого флорентиец не называет. По описанию скульптуры («Благовещение») это мог быть, например, Никколо Пизано, что, впрочем, неважно. Важно то, что Данте приравнивает истовую религиозность искусства к гордыне; смирение, по Данте, есть смирение перед любовью, которая равно касается и универсальных общих категорий – и живых теплых людей.
Способность осознанно любить создает иной уровень дискурса – это уже не религиозное искусство; хотя это искусство, говорящее с Богом. Так возник общеевропейский визуальный язык, универсальная диалектическая система рассуждений – живопись. Диалектическая живопись вполне могла найти понимание Абеляра; художники Ренессанса занимались тем, что сами себе доказывали основание своей веры.
Именно живопись маслом явилась квинтэссенцией Ренессанса.
Рембрандта и Ван Гога, Гойю и Мантенью мы различаем именно на уровне персональном, на уровне судьбы. Суть сделанного Ван Гогом и Гой-ей в том, что эти мастера принесли личную любовь в историю. Подражателей стиля Ван Гога, представителей школ экспрессионизма и фовизма, можно отличить друг от друга по качеству исполнения приемов школы. Но персонального присутствия в истории они добиться не могут. Тем самым, мы приходим к тому, что есть художники, которые воплощают уникальную жизнь души – и есть иные художники, которые идею декорируют. Это два принципиально разных творческих процесса.
Манипулятивные и декоративные искусства составляют подавляющее большинство известных нам образцов творчества. То, что общество считает за образчик прекрасного, связано с украшением общественно вмененных истин; как правило, мастер обслуживает принципы, принятые в той среде, на верность которой он присягнул.
Великая масляная живопись – искусство, ломающее этот стереотип. Три астролога, изображенные Джорджоне, и живопись, понятая как философия диалога – дело личности, долг одного. Соответственно, рассуждать об искусстве масляной живописи следует в терминах трагедии, как о персональном подвиге.
7
Дата возникновения масляной живописи условна – приблизительно 40-е годы XV века. Братья ван Эйки, как рассказывают, не изобрели масляную живопись, а лишь усовершенствовали метод, точно так, как Гуттенберг был лишь одним из тех, кто нашел себя в книгопечатании. Говоря о середине XV века, мы имеем в виду также даты рождения Мантеньи, Леонардо, Микеланджело – главных рефлективных художников Возрождения. Середина XV века – точка схода европейской перспективы: это время расцвета двора Медичи, это полдень Бургундского герцогства, это изощренное творчество городов Южной Германии.
Автономная масляная живопись есть воплощенная трагедия, не присущая изобразительному искусству в широком его понимании. Пластика сама по себе – не трагедийна; то, что основано на гармонии и равновесии, не может породить катарсис.
Трагедия в европейском искусстве – это богоборчество. Даже там, где речь не о Боге, но о неодолимых обстоятельствах (как у экзистенциалистов, например), восставший субъект вступает в противоборство с каноном, идеологией, традицией и со стилем, внутри которого существует. Стиль как идеология и массовое убеждение есть первое, с чем вступает в конфликт автономная масляная живопись. Именно в преодолении импрессионизма состоялся Сезанн, в преодолении «малых голландцев» состоялся Рембрандт.
Автономное рефлективное искусство живописи содержит в себе пафос трагедии вовсе не на тех основаниях, что предложил Ницше (см. «Рождение трагедии из духа музыки»). Европейская трагедия рождается не в противопоставлении дионисийского и аполлоновского начал; отнюдь не равновесие темного мистического и светлой гармонии делает событие культуры трагедией. Не осознание мистического (поставьте рядом с термином Ницше слово «декоративное», «знаковое», «символическое», и значение слова «мистическое» лишь усилится), как необходимого опыта, но преодоление мистического и декоративного ради обреченной недолговечной гармонии – в этом именно и состоит суть европейской трагедии. Недолгая история европейской живописи это показывает буквально.
Нет ничего удивительного в том, что трагическое искусство не в чести в наше время, когда массовые убийства и манипуляции массовым сознанием нивелировали понятие трагедии до неразличимости с катаклизмом. Живопись ушла столь же закономерно, как и появилась.
В шестидесятые годы прошлого столетия, когда европейская живопись была отодвинута в сторону американской культурой, последняя присвоила себе (возможно, заслуженно) первенство в изобразительном искусстве – и это в первую очередь связано с манипулятивным, декоративным, монументальным творчеством. Сегодняшнее изобразительное искусство не имеет ничего общего с рефлективной европейской живописью.
В отношении рефлективного искусства масляной живописи, создающей автономные образы, вступающие в диалог, следует сказать с максимальной определенностью: масляная живопись возникала как оппозиция идеологическому искусству. Масляная живопись есть противодействие моральной слепоте – неизбежной при постоянном созерцании искусства манипулятивного. Каноническое (символическое) использование цвета делает суждения предсказуемыми, людьми легко манипулировать. Видимо, человеческое зрение нуждается в плакатных цветах, как ухо в маршевых мелодиях. Декоративное, идеологическое искусство пользуется этой особенностью. Символ и знак подменяют знание и понимание. Простые схемы бытия, которые предлагает толпе тиран, не нуждаются в масляной живописи. Живопись призвана научить видеть – подобно тому, как Дон Кихот обучал видеть истинную суть обыденных вещей сквозь декорации.
8
Алонсо Кихано, принявший имя Дон Кихот, не был безумцем. Он был высокообразованным человеком, книга о его приключениях на две трети наполнена рассуждениями Дон Кихота: это компендиум знаний о мире, по разнообразию сопоставимый с произведениями Рабле или Монтеня.
Безумного в Дон Кихоте немного – лишь то, что он полагает рыцарский долг актуальным. Он убежден в простой вещи: чтобы устранить несправедливость, существует институт странствующего рыцарства, задача которого – защищать обиженных. Время рыцарей миновало за двести лет до описываемых событий. Но Дон Кихот считает рыцарские романы, с их явными художественными преувеличениями, буквальным изложением истины. Долг перед человечеством – неотменим, рыцарь должен не государству, не королю, не армии – но всем обиженным; его долг персонифицирован в служение прекрасной Даме, то есть, истине. Такая любовь требует невероятных подвигов: «с простынь, бессонницей рваных, срываться, ревнуя к Копернику».
Проблема, с которой сталкивается Дон Кихот – несоответствие идеального мира и мира реального. Новый рыцарь окружен трактирщиками и купцами, сборщиками налогов и уголовниками. Несправедливость заурядна: герою указывают на то, что враги, с которыми он бьется, не великаны, а мельницы. И Прекрасная Дама на самом деле трактирщица, и замок – постоялый двор, и шлем – тазик для бритья. Дон Кихот сталкивается с основным философским вопросом: несоответствие явления и сущности. С этим же вопросом в своих беседах сталкивался и Сократ: явление называется не так, как следовало бы. Сократу приходилось освобождать явление от ложных названий. Рациональность Сократа ставил ему в вину Ницше: апеллируя к логике, Сократ убил дионисийское стихийное начало. Все объяснить – это значит, по Ницше, разрушить существенную дихотомию бытия, которая зависит и от хаоса. Но Сократ, как странствующий рыцарь, не признает хаоса – ни в явлении, ни в суждении.
Как и Сократ, Дон Кихот непримирим: объявляет окружающий мир, в котором соглашательство стало нормой, неподлинным. Дон Кихот решает расколдовать мир: он считает, что сознанием людей манипулируют злые волшебники (читателям Оруэлла и сегодняшних газет это понятно). Странствующих рыцарей Дон Кихот полагает наиболее действенным институтом в мире: экономика, дипломатия и даже религия – не помогут; Дон Кихот принимает эстафету рыцарства, провозглашает себя, связующим звеном времен.
Дон Кихот не может смириться с тем, что все прочие довольны обманом. Он бы мог повторить вслед за датским принцем: «Мне кажется? Нет, есть. Я не хочу Того, что кажется». Такого не прощают; Дон Кихота, как и Чацкого, как и Чаадаева, как и Гамлета, называют умалишенным. Оруженосец Санчо Панса находит более точную формулировку: «Он не безумен, он дерзновенен».
Именно дерзновенность и есть то качество, которым должен обладать человек, решивший стать живописцем. Кисть – меч, палитра – щит, и если ты дерзнешь встать на путь живописца, тебе придется встретиться с чудовищами. Имя им слепота, мода, невежество, рынок, интеллектуальная трусость, моральная неполноценность, безверие.
Одинокое служение странствующего рыцаря присуще живописи, так сказать, по происхождению, par exellence.
9
Рыцарский роман и масляная живопись имеют единую точку схода – Брюгге. Иных доказательств, помимо пластики героев Дирка Боутса, истовости героев ван дер Вейдена, не требуется. Но, как часто бывает, умозаключение общего порядка находит подтверждение в характерной детали. Кретьен де Труа, основоположник рыцарского романа, провозгласил символом рыцарства сосуд, наполненный кровью Христовой, собранной Иосифом Аримафейским. Священный сосуд доставила в Брюгге супруга Балдуина III, в Брюгге писатель Кретьен и увидел реликвию, отождествив этот сосуд с Граалем. Спустя двести лет Ганс Мемлинг из Брюгге, вдохновленный этой же реликвией, написал несколько картин, сделав наглядным слияние рыцарского подвига – куртуазного романа – масляной живописи. Масляная живопись (техника, изобретенная в Бургундии учителями Мемлинга) оказалась сюжетно зависимой от рыцарского романа.
Живопись, как искусство выявления сущностей, выполняет то же действие, что и странствующий рыцарь, срывающий покровы с околдованной действительности.
Что должно произойти в сознании человека, чтобы он вообразил себя художником? Отнюдь не желание производить красивые вещи заставило банковского клерка Гогена бросить благополучную жизнь и стать изгоем. Старик Мантенья писал свои «Триумфы Цезаря» не на заказ; Ван Гог, поздний Рембрандт, Гойя эпохи Наполеоновских войн, Модильяни, Сутин, Сезанн – работали наперекор моде, против рынка. Их никто не просил так писать, более того, все утверждали, что писать так им не следует. Эти мастера служили чему-то более властному, нежели искусство, признаваемое за таковое в обществе. Занимались они, конечно, рисованием, как и их коллеги, пишущие красивые декоративные вещи, но цель была иной.
Однажды случается так, что человек (причем безразлично, получил он художественное образование или нет; Ван Гог и Гоген – самоучки) решает изменить мир посредством живописи. Тогда он повторяет вслед за Дон Кихотом: «Да будет тебе известно, Санчо, что я по воле небес родился в наш железный век, дабы воскресить золотой». Декоратор обслуживает существующий порядок вещей, живописец служит субстанциональному единству вещей, порядку Божественному. Живописец, меняющий мир, как и рыцарь, как и философ сократического типа, исходит из того, что мир един; явленные нам вещи образованы из единого вещества, из общего эйдоса, из единой для всех философской ртути. Алхимик убежден, а странствующий рыцарь знает наверняка, что, меняя один элемент мироздания (например, вступая в бой с драконом), ты бросаешь вызов всему порядку вещей, общей несправедливости. По сути дела, живописец – это тот, кто хочет выявить связующую материю мира, – найдя таковую, он может мир изменить.
10
Масляная живопись вот уже более ста лет как объявлена анахронизмом; считается, что это ремесло навсегда устарело, как связь посредством почтовых голубей. Сложный цвет более никто не ищет, как никто не ищет философский камень. Изобразительное искусство в новом времени представлено инсталляциями, фотографией, видеоартом; живопись по сравнению с новыми технологиями манипулирования кажется ненужной. Это столь же нелепое занятие, как деятельность Амадиса Гальского или беседы Сократа. Обществу требуется тот, кто обслуживает интересы существующего порядка. А философия и живопись ищут основания порядка нового.
С упрямством Дон Кихота живописцы принимали упрек в безумии – и платили обывателям презрением. «Все мои сограждане – тупицы по сравнению со мной» – это мог бы сказать Дон Кихот, но сказал Сезанн. Снова и снова – мазок к мазку – на холсте возникает нечто иное, не то, чего ожидает обыватель, привыкший к модной продукции.
Случайно или нет, но палитра и кисть в руках художника напоминают шит и меч, они похожи на рыцарское оружие. У Делакруа в дневнике есть фраза: «При одном только виде своей палитры, как воин при виде своего оружия, художник обретает уверенность и мужество». Вооруженный палитрой и кистью, живописец ведет себя как воин в поединке – его поза перед холстом напоминает позицию фехтовальщика, работа кистью похожа на выпады, шаги к холсту и от холста напоминают танец дуэлянта. Движения при работе с палитрой (подбежать к холсту, отступить от холста, присесть, откинуть голову и т. п.) схожи с разнообразием фехтовальных стоек. Рубящие удары широкой плоской кистью и кропотливая работа кистью тонкой и круглой отличаются так же, как техника владения мечом от обращения со шпагой. И сама осанка живописца восходит к традициям рыцарского сословия – картины пишут только с прямой спиной. Левой рукой живописец должен ощущать тяжесть нагруженной красками палитры. Профессионал всегда держит палитру на локте: чем тяжелее палитра, тем лучше работается – надо понимать, сколько краски взвешено в мазке, какую тяжесть кладешь на холст. Кисть – шпага, и, когда выходишь один на один с белым холстом, знаешь: ты вышел против небытия.
Когда идешь в бой, не следует рассчитывать на победу. Живописец сражается не потому, что хочет победить. Он вступает в бой, защищая бренное бытие тех, кто ему дорог. Отменить смерть живописец не может, но пока живет, сражается.
Леонардо да Винчи
1
В укоренившемся представлении Леонардо да Винчи предстает человеком многих профессий: архитектором, живописцем, скульптором, анатомом, инженером, писателем.
Его приглашали в Милан как архитектора, в Романью как инженера; он проектировал купол Миланского собора и занимался гидравликой. Лодовико Моро заказывал ему гигантскую бронзовую статую, флорентийцы – огромную роспись «Битва при Ангигари» (и то, и другое не осуществлено, бросил на полдороге); в церкви Санта Мария делла Грацие в Милане он выполнил фреску «Тайная вечеря», грунт которой потек (правда, от другой напасти фреска была избавлена – уцелела под английскими бомбами Второй мировой). Он был первым художником в Италии, освоившим масляную живопись. Первым называют сицилийца Антонелло, привезшего рецепт из Бургундии; однако Леонардо пришел к масляной живописи своими путями, параллельно, его техника отлична от техники Антонелло да Мессина. Леонардо занимался («для себя», как сказали бы сегодня) масляной живописью на досках; проводил эксперименты с красками, изобрел технику сфумато, технические аспекты которой неизвестны. Рассказывают, что доску с «Моной Лизой» возил повсюду с собой – настолько любил добавлять к сделанному еще мазок, еще одно легкое касание. Картин написал немного, и все они загадочны, все требуют расшифровки. Он был также химиком, его оригинальные масляные краски свидетельствуют об успехе опытов по изготовлению масляной краски из минералов – это ведь химия. Впрочем, следует отметить, что эти краски, примененные для флорентийской стенной живописи, его подвели – растеклись. Его инженерные выдумки находят подтверждение в современной механике, то есть пятьсот лет спустя. При жизни автора воплощения не нашла ни одна из его выдумок. Впрочем, двойная спираль лестницы замка Франциска I в Шамборе может считаться первой иллюстрацией ДНК и небывалой конструкцией лестницы в принципе. Леонардо наметил – ни много ни мало – написать сто двадцать книг; ни одной книги не написал, оставил рукописи и фрагменты. Был хорошим анатомом – принимал участие во вскрытиях, описывал внутренние органы; но врачом не стал. Впрочем, совершил несколько медицинских открытий: например, первым заметил феномен сужающихся от старости сосудов, что приводит к замедлению кровотока в сердце; называл известняковый слой, откладывающийся на стенках сосудов (атеросклеротические бляшки, говоря современным языком) – «порошком старения». Врачом не стал, но пунктуальное знание человеческого тела пригодилось в его рисунках и живописи. Он собирался построить летательный аппарат, изучал птиц. Но аппарат построили (похожий на его чертежи) только через пятьсот лет; причем и Татлин, и американские инженеры прошли его путем, повторяя его схемы. Его работам свойственна недосказанность, он оставлял вещи незавершенными, бросал дело (даже оформленный заказ) легко. Вопиющие случаи – как, например, с бронзовой конной статуей в Милане или с большой масляной картиной на тему поклонения волхвов, заказанной монастырем Сан Донато во Флоренции, провоцировали недобрую славу. Леонардо легко оставил во Флоренции незавершенный шедевр, огромную доску, квадрат в два с половиной метра по стороне. Приготовить под живопись доску такого размера – это само по себе гигантский труд; выполненная уже работа – она совершенна и прекрасна. Оставалось совсем немного, чтобы довести картину до завершения; но неожиданно Леонардо уехал в Милан, повез сконструированную им модель лиры, на которой один он умел играть. Договор на картину формально был составлен на два с половиной года (с 1481 по 1483), Леонардо мог бы и вернуться к работе – но вернулся он во Флоренцию через восемнадцать лет. Монахи были оскорблены. Неумение довести работу до завершения – то был распространенный упрек Леонардо. Переходя из города в город (а фактически из государства в государство), Леонардо оставлял после себя великие проекты – и мало реально сделанного, доведенного до конца. Говорят, что Микеланджело именно этими словами упрекнул старика-соперника (Леонардо был старше годами). Иные считают, что разбросанность в занятиях, неумение сосредоточиться на одном предмете не позволили Леонардо состояться ни в одном из занятий полностью. Другие, напротив, уверены в том, что гений – гений во всем; феномен Леонардо стал обозначать интерес ко всем явлениям мира, когда предмет конкретного занятия гения уже значения не имеет.
С этим положением (как в негативном, так и в позитивном его смысле) трудно согласиться. Леонардо вовсе не был эклектиком и профессию имел вполне определенную: он был живописцем. Продукты профессионального труда налицо, их легко перечислить: «Джоконда», «Мадонна Бенуа», «Мадонна Литта», «Иоанн Креститель», «Бахус», «Дама с горностаем», «Благовещение», «Святой Иероним», «Поклонение волхвов», «Анна и Мария», «Тайная вечеря», «Мадонна в гроте». Картин не очень много, но они многодельные. Пит Мондриан или Морис Вламинк написали количественно больше картин, чем Леонардо да Винчи, но, согласитесь, затраченный мастерами труд неравноценен. Существуют художники, наследие которых в количественном отношении скромно. И у Яна Вермеера, и у Питера Брейгеля, и у Маттиаса Грюневальда тоже немного картин.
Леонардо да Винчи отнюдь не смешивал профессии, и это необходимо отчетливо обозначить. Профессия была одна-единственная – живопись; и он настаивал на преимуществах живописи перед прочими занятиями. Он занимался живописью – а все остальные его занятия являлись подготовительными работами для живописного труда. Просто живопись он рассматривал в ее идеальной ипостаси – как царицу всех искусств и ремесел. Чтобы качественно заниматься живописью, необходимо быть инженером и музыкантом – что же здесь непонятно?
Для нас уже не является откровением то, что Сезанн соединил две дисциплины в одну: живопись и рисунок стали для Сезанна единым процессом (для восемнадцатого века такое соединение двух начал в одно – невозможное кощунство); нам понятна фраза Сезанна «по мере того, как пишешь, – рисуешь» – фраза, которую представитель болонской школы понять бы не смог. Сезанн имел в виду то, что сам процесс нанесения цвета на изображаемый предмет может стать не раскрашиванием формы, но ее созданием, то есть рисованием. Теперь вообразите, что точно так же, как Сезанн соединил в одно целое процесс живописи и рисования, Леонардо объединил в одну дисциплину живопись, скульптуру, занятия анатомией, инженерное дело и архитектуру. Дать определение дисциплине, образованной объединением этих несхожих занятий, трудно – но Леонардо да Винчи считал, что конечным продуктом является живопись, масляная картина.
Нелишним будет вопрос: почему именно Леонардо снискал славу мирового гения, превосходящего всех, почему именно его картины считаются непревзойденными шедеврами, хотя одновременно с ним работают мастера, вряд ли уступающие ему пластическим или колористическим даром? Гуго ван дер Гус, Рогир ван дер Вейден, Альбрехт Дюрер, Сандро Боттичелли, Ян ван Эйк – это все живописцы, несомненно, гениальные, и живописное наследие их, между прочим, значительно обширнее, нежели наследие Леонардо. Однако имя Леонардо стоит неизмеримо выше любого из перечисленных мастеров. Имеется некий секрет – вероятно, простой и легко угадываемый; но понять его необходимо.
Картина – по Леонардо – не украшение жилища; он не стремился увидеть картину на стене. В Санта Мария делла Грацие – сложилось удачно, написал фреску; а из Флоренции уехал, не закончив работу. Картина также не есть свидетельство веры (и не может таковым быть, поскольку цель картины – анализ, а научный анализ противоречит вере). Картина пишется для себя самого – в процессе письма познается мир. Картина есть своего рода проект общежития, даже проект идеального государства (наподобие платоновского), конгломерат человеческих усилий.
Перефразируя Сезанна, в отношении метода Леонардо следует сказать: пока занимаешься инженерными работами – рисуешь, пока строишь здание – рисуешь, пока изучаешь анатомию – рисуешь, пока льешь бронзу, пока чертишь чертежи, пока пишешь трактаты, пока читаешь проповеди – ты рисуешь красками; ты постигаешь мир с разных сторон. Это все суммируется в рисование красками, это все вместе и есть – живопись.
Внутри этого спора аббата Сюжера и цистерцианца Бернара Клервоского можно рассмотреть динамику развития европейской масляной живописи.
6
В диалоге «Софист» Платон предлагает разделять человеческую деятельность на подражательную и производительную. Вообще говоря, Платон не считал искусство самостоятельной дисциплиной; но в «Софисте» он применил критерий «производительная и подражательная» по отношению ко всему: и гимнастика, и медицина, и софистика, и поэзия, и живопись – должны быть осознаны и различаются внутри самих себя как «подражательные» и «производительные» (ср. высказывание Велимира Хлебникова, который предложил делить людей на «изобретателей» и «приобретателей»).
В той мере, в какой живопись масляными красками обособилась от канона и стала воплощением персональной судьбы – она перешла из разряда подражательных искусств в разряд производительных. Рассуждая об изобразительном искусстве сегодня, следует применить платоновские дефиниции, чтобы учесть особенности идеологической практики. Уместно делить искусство на «рефлективное» и «декоративное». Понятие «декоративное» следует толковать расширительно: речь идет не просто об украшении жилища, но об украшении идеологической программы. Социалистический реализм, иконопись, монументальное искусство Третьего рейха, искусство Вавилона, дворцовая живопись эпохи рококо – явления сугубо разные, их роднит лишь одно: это декоративная продукция, это символическое искусство, то есть, искусство не-диалогическое. Мы различаем стили и конфессии, но невозможно сказать, чем убеждения одного социалистического реалиста отличаются от убеждений другого соцреалиста, чем идеалы одного рокайльного мастера отличаются от идеалов другого.
Есть показательный пример из истории XX века, который легко проецировать на Проторенессанс, чтобы осознать разницу между рефлективным и декоративным творчеством. Так, Надежда Мандельштам оставила детальные мемуары о своем времени, вспомнив мельчайшие детали и имена второго плана, но в ее воспоминаниях нет ни единого художника; она художников просто не заметила. И это в ту пору, когда авангард властно заявлял о себе на каждом углу, и так ярко, что не заметить художников было нельзя. Проблема была в том, что художники, окружавшие Мандельштама, были мастерами знаково-декоративного, идеологического искусства (и сам авангард в принципе является декоративно-манипулятивной деятельностью), а поэт Мандельштам соотносил себя с индивидуальным и рефлективным высказыванием.
Говорить о живописных пристрастиях Данте Алигьери сложно – здесь, как и в случае с Мандельштамом, слишком очевидна разница между рефлективным, метафизическим творчеством поэта (описавшим подробно восхождение от бытового и частного – к общему и метафизическому) – и декоративно-религиозным изобразительным искусством того времени. Среди друзей Данте был знаменитый живописец Джотто, которого Данте выделял, а Боккаччо, например, называл Джотто лучшим живописцем в мире. Однако личная привязанность не отменяла того факта, что религиозный пафос Джотто не соответствовал характеру веры Данте. Счесть картины Джотто иллюстрациями к «Комедии» невозможно, в них отсутствует второй и третий уровень прочтения. Вера Алигьери была особого рода, это была рефлективная вера, заставляющая вспомнить Абеляра.
Пьер Абеляр не принимал Священное писание, если утверждения Завета не подтверждены доказательствами разума; Абеляр полагал, что «и апостолы не были чужды ошибок»; Абеляр считал и писал, что «кое-что из того, что они (пророки. – М. К.) произносили – ложно». Художников, способных изобразить этот субстанциональный кризис, рядом с Данте не было.
Единственное косвенное упоминание художников находится в Х Песни «Чистилища», куда Данте поместил гордецов; там же пребывает некий скульптор, имени которого флорентиец не называет. По описанию скульптуры («Благовещение») это мог быть, например, Никколо Пизано, что, впрочем, неважно. Важно то, что Данте приравнивает истовую религиозность искусства к гордыне; смирение, по Данте, есть смирение перед любовью, которая равно касается и универсальных общих категорий – и живых теплых людей.
Способность осознанно любить создает иной уровень дискурса – это уже не религиозное искусство; хотя это искусство, говорящее с Богом. Так возник общеевропейский визуальный язык, универсальная диалектическая система рассуждений – живопись. Диалектическая живопись вполне могла найти понимание Абеляра; художники Ренессанса занимались тем, что сами себе доказывали основание своей веры.
Именно живопись маслом явилась квинтэссенцией Ренессанса.
Рембрандта и Ван Гога, Гойю и Мантенью мы различаем именно на уровне персональном, на уровне судьбы. Суть сделанного Ван Гогом и Гой-ей в том, что эти мастера принесли личную любовь в историю. Подражателей стиля Ван Гога, представителей школ экспрессионизма и фовизма, можно отличить друг от друга по качеству исполнения приемов школы. Но персонального присутствия в истории они добиться не могут. Тем самым, мы приходим к тому, что есть художники, которые воплощают уникальную жизнь души – и есть иные художники, которые идею декорируют. Это два принципиально разных творческих процесса.
Манипулятивные и декоративные искусства составляют подавляющее большинство известных нам образцов творчества. То, что общество считает за образчик прекрасного, связано с украшением общественно вмененных истин; как правило, мастер обслуживает принципы, принятые в той среде, на верность которой он присягнул.
Великая масляная живопись – искусство, ломающее этот стереотип. Три астролога, изображенные Джорджоне, и живопись, понятая как философия диалога – дело личности, долг одного. Соответственно, рассуждать об искусстве масляной живописи следует в терминах трагедии, как о персональном подвиге.
7
Дата возникновения масляной живописи условна – приблизительно 40-е годы XV века. Братья ван Эйки, как рассказывают, не изобрели масляную живопись, а лишь усовершенствовали метод, точно так, как Гуттенберг был лишь одним из тех, кто нашел себя в книгопечатании. Говоря о середине XV века, мы имеем в виду также даты рождения Мантеньи, Леонардо, Микеланджело – главных рефлективных художников Возрождения. Середина XV века – точка схода европейской перспективы: это время расцвета двора Медичи, это полдень Бургундского герцогства, это изощренное творчество городов Южной Германии.
Автономная масляная живопись есть воплощенная трагедия, не присущая изобразительному искусству в широком его понимании. Пластика сама по себе – не трагедийна; то, что основано на гармонии и равновесии, не может породить катарсис.
Трагедия в европейском искусстве – это богоборчество. Даже там, где речь не о Боге, но о неодолимых обстоятельствах (как у экзистенциалистов, например), восставший субъект вступает в противоборство с каноном, идеологией, традицией и со стилем, внутри которого существует. Стиль как идеология и массовое убеждение есть первое, с чем вступает в конфликт автономная масляная живопись. Именно в преодолении импрессионизма состоялся Сезанн, в преодолении «малых голландцев» состоялся Рембрандт.
Автономное рефлективное искусство живописи содержит в себе пафос трагедии вовсе не на тех основаниях, что предложил Ницше (см. «Рождение трагедии из духа музыки»). Европейская трагедия рождается не в противопоставлении дионисийского и аполлоновского начал; отнюдь не равновесие темного мистического и светлой гармонии делает событие культуры трагедией. Не осознание мистического (поставьте рядом с термином Ницше слово «декоративное», «знаковое», «символическое», и значение слова «мистическое» лишь усилится), как необходимого опыта, но преодоление мистического и декоративного ради обреченной недолговечной гармонии – в этом именно и состоит суть европейской трагедии. Недолгая история европейской живописи это показывает буквально.
Нет ничего удивительного в том, что трагическое искусство не в чести в наше время, когда массовые убийства и манипуляции массовым сознанием нивелировали понятие трагедии до неразличимости с катаклизмом. Живопись ушла столь же закономерно, как и появилась.
В шестидесятые годы прошлого столетия, когда европейская живопись была отодвинута в сторону американской культурой, последняя присвоила себе (возможно, заслуженно) первенство в изобразительном искусстве – и это в первую очередь связано с манипулятивным, декоративным, монументальным творчеством. Сегодняшнее изобразительное искусство не имеет ничего общего с рефлективной европейской живописью.
В отношении рефлективного искусства масляной живописи, создающей автономные образы, вступающие в диалог, следует сказать с максимальной определенностью: масляная живопись возникала как оппозиция идеологическому искусству. Масляная живопись есть противодействие моральной слепоте – неизбежной при постоянном созерцании искусства манипулятивного. Каноническое (символическое) использование цвета делает суждения предсказуемыми, людьми легко манипулировать. Видимо, человеческое зрение нуждается в плакатных цветах, как ухо в маршевых мелодиях. Декоративное, идеологическое искусство пользуется этой особенностью. Символ и знак подменяют знание и понимание. Простые схемы бытия, которые предлагает толпе тиран, не нуждаются в масляной живописи. Живопись призвана научить видеть – подобно тому, как Дон Кихот обучал видеть истинную суть обыденных вещей сквозь декорации.
8
Алонсо Кихано, принявший имя Дон Кихот, не был безумцем. Он был высокообразованным человеком, книга о его приключениях на две трети наполнена рассуждениями Дон Кихота: это компендиум знаний о мире, по разнообразию сопоставимый с произведениями Рабле или Монтеня.
Безумного в Дон Кихоте немного – лишь то, что он полагает рыцарский долг актуальным. Он убежден в простой вещи: чтобы устранить несправедливость, существует институт странствующего рыцарства, задача которого – защищать обиженных. Время рыцарей миновало за двести лет до описываемых событий. Но Дон Кихот считает рыцарские романы, с их явными художественными преувеличениями, буквальным изложением истины. Долг перед человечеством – неотменим, рыцарь должен не государству, не королю, не армии – но всем обиженным; его долг персонифицирован в служение прекрасной Даме, то есть, истине. Такая любовь требует невероятных подвигов: «с простынь, бессонницей рваных, срываться, ревнуя к Копернику».
Проблема, с которой сталкивается Дон Кихот – несоответствие идеального мира и мира реального. Новый рыцарь окружен трактирщиками и купцами, сборщиками налогов и уголовниками. Несправедливость заурядна: герою указывают на то, что враги, с которыми он бьется, не великаны, а мельницы. И Прекрасная Дама на самом деле трактирщица, и замок – постоялый двор, и шлем – тазик для бритья. Дон Кихот сталкивается с основным философским вопросом: несоответствие явления и сущности. С этим же вопросом в своих беседах сталкивался и Сократ: явление называется не так, как следовало бы. Сократу приходилось освобождать явление от ложных названий. Рациональность Сократа ставил ему в вину Ницше: апеллируя к логике, Сократ убил дионисийское стихийное начало. Все объяснить – это значит, по Ницше, разрушить существенную дихотомию бытия, которая зависит и от хаоса. Но Сократ, как странствующий рыцарь, не признает хаоса – ни в явлении, ни в суждении.
Как и Сократ, Дон Кихот непримирим: объявляет окружающий мир, в котором соглашательство стало нормой, неподлинным. Дон Кихот решает расколдовать мир: он считает, что сознанием людей манипулируют злые волшебники (читателям Оруэлла и сегодняшних газет это понятно). Странствующих рыцарей Дон Кихот полагает наиболее действенным институтом в мире: экономика, дипломатия и даже религия – не помогут; Дон Кихот принимает эстафету рыцарства, провозглашает себя, связующим звеном времен.
Дон Кихот не может смириться с тем, что все прочие довольны обманом. Он бы мог повторить вслед за датским принцем: «Мне кажется? Нет, есть. Я не хочу Того, что кажется». Такого не прощают; Дон Кихота, как и Чацкого, как и Чаадаева, как и Гамлета, называют умалишенным. Оруженосец Санчо Панса находит более точную формулировку: «Он не безумен, он дерзновенен».
Именно дерзновенность и есть то качество, которым должен обладать человек, решивший стать живописцем. Кисть – меч, палитра – щит, и если ты дерзнешь встать на путь живописца, тебе придется встретиться с чудовищами. Имя им слепота, мода, невежество, рынок, интеллектуальная трусость, моральная неполноценность, безверие.
Одинокое служение странствующего рыцаря присуще живописи, так сказать, по происхождению, par exellence.
9
Рыцарский роман и масляная живопись имеют единую точку схода – Брюгге. Иных доказательств, помимо пластики героев Дирка Боутса, истовости героев ван дер Вейдена, не требуется. Но, как часто бывает, умозаключение общего порядка находит подтверждение в характерной детали. Кретьен де Труа, основоположник рыцарского романа, провозгласил символом рыцарства сосуд, наполненный кровью Христовой, собранной Иосифом Аримафейским. Священный сосуд доставила в Брюгге супруга Балдуина III, в Брюгге писатель Кретьен и увидел реликвию, отождествив этот сосуд с Граалем. Спустя двести лет Ганс Мемлинг из Брюгге, вдохновленный этой же реликвией, написал несколько картин, сделав наглядным слияние рыцарского подвига – куртуазного романа – масляной живописи. Масляная живопись (техника, изобретенная в Бургундии учителями Мемлинга) оказалась сюжетно зависимой от рыцарского романа.
Живопись, как искусство выявления сущностей, выполняет то же действие, что и странствующий рыцарь, срывающий покровы с околдованной действительности.
Что должно произойти в сознании человека, чтобы он вообразил себя художником? Отнюдь не желание производить красивые вещи заставило банковского клерка Гогена бросить благополучную жизнь и стать изгоем. Старик Мантенья писал свои «Триумфы Цезаря» не на заказ; Ван Гог, поздний Рембрандт, Гойя эпохи Наполеоновских войн, Модильяни, Сутин, Сезанн – работали наперекор моде, против рынка. Их никто не просил так писать, более того, все утверждали, что писать так им не следует. Эти мастера служили чему-то более властному, нежели искусство, признаваемое за таковое в обществе. Занимались они, конечно, рисованием, как и их коллеги, пишущие красивые декоративные вещи, но цель была иной.
Однажды случается так, что человек (причем безразлично, получил он художественное образование или нет; Ван Гог и Гоген – самоучки) решает изменить мир посредством живописи. Тогда он повторяет вслед за Дон Кихотом: «Да будет тебе известно, Санчо, что я по воле небес родился в наш железный век, дабы воскресить золотой». Декоратор обслуживает существующий порядок вещей, живописец служит субстанциональному единству вещей, порядку Божественному. Живописец, меняющий мир, как и рыцарь, как и философ сократического типа, исходит из того, что мир един; явленные нам вещи образованы из единого вещества, из общего эйдоса, из единой для всех философской ртути. Алхимик убежден, а странствующий рыцарь знает наверняка, что, меняя один элемент мироздания (например, вступая в бой с драконом), ты бросаешь вызов всему порядку вещей, общей несправедливости. По сути дела, живописец – это тот, кто хочет выявить связующую материю мира, – найдя таковую, он может мир изменить.
10
Масляная живопись вот уже более ста лет как объявлена анахронизмом; считается, что это ремесло навсегда устарело, как связь посредством почтовых голубей. Сложный цвет более никто не ищет, как никто не ищет философский камень. Изобразительное искусство в новом времени представлено инсталляциями, фотографией, видеоартом; живопись по сравнению с новыми технологиями манипулирования кажется ненужной. Это столь же нелепое занятие, как деятельность Амадиса Гальского или беседы Сократа. Обществу требуется тот, кто обслуживает интересы существующего порядка. А философия и живопись ищут основания порядка нового.
С упрямством Дон Кихота живописцы принимали упрек в безумии – и платили обывателям презрением. «Все мои сограждане – тупицы по сравнению со мной» – это мог бы сказать Дон Кихот, но сказал Сезанн. Снова и снова – мазок к мазку – на холсте возникает нечто иное, не то, чего ожидает обыватель, привыкший к модной продукции.
Случайно или нет, но палитра и кисть в руках художника напоминают шит и меч, они похожи на рыцарское оружие. У Делакруа в дневнике есть фраза: «При одном только виде своей палитры, как воин при виде своего оружия, художник обретает уверенность и мужество». Вооруженный палитрой и кистью, живописец ведет себя как воин в поединке – его поза перед холстом напоминает позицию фехтовальщика, работа кистью похожа на выпады, шаги к холсту и от холста напоминают танец дуэлянта. Движения при работе с палитрой (подбежать к холсту, отступить от холста, присесть, откинуть голову и т. п.) схожи с разнообразием фехтовальных стоек. Рубящие удары широкой плоской кистью и кропотливая работа кистью тонкой и круглой отличаются так же, как техника владения мечом от обращения со шпагой. И сама осанка живописца восходит к традициям рыцарского сословия – картины пишут только с прямой спиной. Левой рукой живописец должен ощущать тяжесть нагруженной красками палитры. Профессионал всегда держит палитру на локте: чем тяжелее палитра, тем лучше работается – надо понимать, сколько краски взвешено в мазке, какую тяжесть кладешь на холст. Кисть – шпага, и, когда выходишь один на один с белым холстом, знаешь: ты вышел против небытия.
Когда идешь в бой, не следует рассчитывать на победу. Живописец сражается не потому, что хочет победить. Он вступает в бой, защищая бренное бытие тех, кто ему дорог. Отменить смерть живописец не может, но пока живет, сражается.
Леонардо да Винчи
1
В укоренившемся представлении Леонардо да Винчи предстает человеком многих профессий: архитектором, живописцем, скульптором, анатомом, инженером, писателем.
Его приглашали в Милан как архитектора, в Романью как инженера; он проектировал купол Миланского собора и занимался гидравликой. Лодовико Моро заказывал ему гигантскую бронзовую статую, флорентийцы – огромную роспись «Битва при Ангигари» (и то, и другое не осуществлено, бросил на полдороге); в церкви Санта Мария делла Грацие в Милане он выполнил фреску «Тайная вечеря», грунт которой потек (правда, от другой напасти фреска была избавлена – уцелела под английскими бомбами Второй мировой). Он был первым художником в Италии, освоившим масляную живопись. Первым называют сицилийца Антонелло, привезшего рецепт из Бургундии; однако Леонардо пришел к масляной живописи своими путями, параллельно, его техника отлична от техники Антонелло да Мессина. Леонардо занимался («для себя», как сказали бы сегодня) масляной живописью на досках; проводил эксперименты с красками, изобрел технику сфумато, технические аспекты которой неизвестны. Рассказывают, что доску с «Моной Лизой» возил повсюду с собой – настолько любил добавлять к сделанному еще мазок, еще одно легкое касание. Картин написал немного, и все они загадочны, все требуют расшифровки. Он был также химиком, его оригинальные масляные краски свидетельствуют об успехе опытов по изготовлению масляной краски из минералов – это ведь химия. Впрочем, следует отметить, что эти краски, примененные для флорентийской стенной живописи, его подвели – растеклись. Его инженерные выдумки находят подтверждение в современной механике, то есть пятьсот лет спустя. При жизни автора воплощения не нашла ни одна из его выдумок. Впрочем, двойная спираль лестницы замка Франциска I в Шамборе может считаться первой иллюстрацией ДНК и небывалой конструкцией лестницы в принципе. Леонардо наметил – ни много ни мало – написать сто двадцать книг; ни одной книги не написал, оставил рукописи и фрагменты. Был хорошим анатомом – принимал участие во вскрытиях, описывал внутренние органы; но врачом не стал. Впрочем, совершил несколько медицинских открытий: например, первым заметил феномен сужающихся от старости сосудов, что приводит к замедлению кровотока в сердце; называл известняковый слой, откладывающийся на стенках сосудов (атеросклеротические бляшки, говоря современным языком) – «порошком старения». Врачом не стал, но пунктуальное знание человеческого тела пригодилось в его рисунках и живописи. Он собирался построить летательный аппарат, изучал птиц. Но аппарат построили (похожий на его чертежи) только через пятьсот лет; причем и Татлин, и американские инженеры прошли его путем, повторяя его схемы. Его работам свойственна недосказанность, он оставлял вещи незавершенными, бросал дело (даже оформленный заказ) легко. Вопиющие случаи – как, например, с бронзовой конной статуей в Милане или с большой масляной картиной на тему поклонения волхвов, заказанной монастырем Сан Донато во Флоренции, провоцировали недобрую славу. Леонардо легко оставил во Флоренции незавершенный шедевр, огромную доску, квадрат в два с половиной метра по стороне. Приготовить под живопись доску такого размера – это само по себе гигантский труд; выполненная уже работа – она совершенна и прекрасна. Оставалось совсем немного, чтобы довести картину до завершения; но неожиданно Леонардо уехал в Милан, повез сконструированную им модель лиры, на которой один он умел играть. Договор на картину формально был составлен на два с половиной года (с 1481 по 1483), Леонардо мог бы и вернуться к работе – но вернулся он во Флоренцию через восемнадцать лет. Монахи были оскорблены. Неумение довести работу до завершения – то был распространенный упрек Леонардо. Переходя из города в город (а фактически из государства в государство), Леонардо оставлял после себя великие проекты – и мало реально сделанного, доведенного до конца. Говорят, что Микеланджело именно этими словами упрекнул старика-соперника (Леонардо был старше годами). Иные считают, что разбросанность в занятиях, неумение сосредоточиться на одном предмете не позволили Леонардо состояться ни в одном из занятий полностью. Другие, напротив, уверены в том, что гений – гений во всем; феномен Леонардо стал обозначать интерес ко всем явлениям мира, когда предмет конкретного занятия гения уже значения не имеет.
С этим положением (как в негативном, так и в позитивном его смысле) трудно согласиться. Леонардо вовсе не был эклектиком и профессию имел вполне определенную: он был живописцем. Продукты профессионального труда налицо, их легко перечислить: «Джоконда», «Мадонна Бенуа», «Мадонна Литта», «Иоанн Креститель», «Бахус», «Дама с горностаем», «Благовещение», «Святой Иероним», «Поклонение волхвов», «Анна и Мария», «Тайная вечеря», «Мадонна в гроте». Картин не очень много, но они многодельные. Пит Мондриан или Морис Вламинк написали количественно больше картин, чем Леонардо да Винчи, но, согласитесь, затраченный мастерами труд неравноценен. Существуют художники, наследие которых в количественном отношении скромно. И у Яна Вермеера, и у Питера Брейгеля, и у Маттиаса Грюневальда тоже немного картин.
Леонардо да Винчи отнюдь не смешивал профессии, и это необходимо отчетливо обозначить. Профессия была одна-единственная – живопись; и он настаивал на преимуществах живописи перед прочими занятиями. Он занимался живописью – а все остальные его занятия являлись подготовительными работами для живописного труда. Просто живопись он рассматривал в ее идеальной ипостаси – как царицу всех искусств и ремесел. Чтобы качественно заниматься живописью, необходимо быть инженером и музыкантом – что же здесь непонятно?
Для нас уже не является откровением то, что Сезанн соединил две дисциплины в одну: живопись и рисунок стали для Сезанна единым процессом (для восемнадцатого века такое соединение двух начал в одно – невозможное кощунство); нам понятна фраза Сезанна «по мере того, как пишешь, – рисуешь» – фраза, которую представитель болонской школы понять бы не смог. Сезанн имел в виду то, что сам процесс нанесения цвета на изображаемый предмет может стать не раскрашиванием формы, но ее созданием, то есть рисованием. Теперь вообразите, что точно так же, как Сезанн соединил в одно целое процесс живописи и рисования, Леонардо объединил в одну дисциплину живопись, скульптуру, занятия анатомией, инженерное дело и архитектуру. Дать определение дисциплине, образованной объединением этих несхожих занятий, трудно – но Леонардо да Винчи считал, что конечным продуктом является живопись, масляная картина.
Нелишним будет вопрос: почему именно Леонардо снискал славу мирового гения, превосходящего всех, почему именно его картины считаются непревзойденными шедеврами, хотя одновременно с ним работают мастера, вряд ли уступающие ему пластическим или колористическим даром? Гуго ван дер Гус, Рогир ван дер Вейден, Альбрехт Дюрер, Сандро Боттичелли, Ян ван Эйк – это все живописцы, несомненно, гениальные, и живописное наследие их, между прочим, значительно обширнее, нежели наследие Леонардо. Однако имя Леонардо стоит неизмеримо выше любого из перечисленных мастеров. Имеется некий секрет – вероятно, простой и легко угадываемый; но понять его необходимо.
Картина – по Леонардо – не украшение жилища; он не стремился увидеть картину на стене. В Санта Мария делла Грацие – сложилось удачно, написал фреску; а из Флоренции уехал, не закончив работу. Картина также не есть свидетельство веры (и не может таковым быть, поскольку цель картины – анализ, а научный анализ противоречит вере). Картина пишется для себя самого – в процессе письма познается мир. Картина есть своего рода проект общежития, даже проект идеального государства (наподобие платоновского), конгломерат человеческих усилий.
Перефразируя Сезанна, в отношении метода Леонардо следует сказать: пока занимаешься инженерными работами – рисуешь, пока строишь здание – рисуешь, пока изучаешь анатомию – рисуешь, пока льешь бронзу, пока чертишь чертежи, пока пишешь трактаты, пока читаешь проповеди – ты рисуешь красками; ты постигаешь мир с разных сторон. Это все суммируется в рисование красками, это все вместе и есть – живопись.