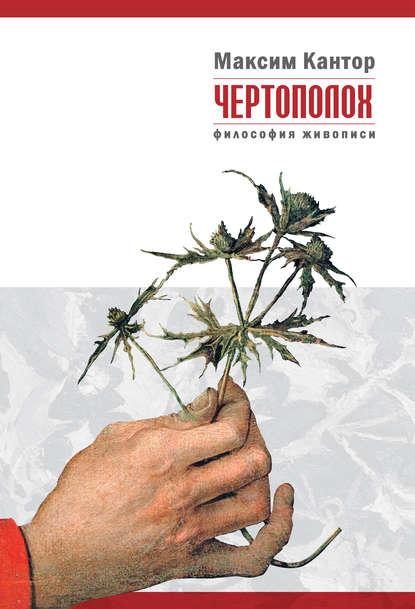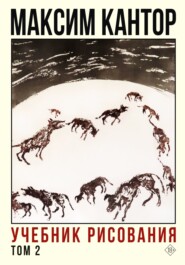По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Чертополох. Философия живописи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В скульптурах итальянца XX века (швейцарского художника) образ нагой женщины не содержит вообще никакой эротики. Женские тела Джакометти лепит так, словно эти женщины бесполы, фигуры настолько бесплотны, что даже странно, что требуется искусство скульптора (все же скульптура – это предмет), чтобы о них рассказать. Тонкие, высохшие, устремленные вверх готические тела намекают на человеческую природу; но эта природа не знает присущих человеку эмоций. Экстатическая, почти религиозная страсть присутствует: изваяния являют страсть стойкости, страсть сопротивления небытию; но независимость и стойкость, важные в скульптурах Джакометти, редуцируют женское начало. Искусство Джакометти принято связывать с философией экзистенциализма, и, если изображение нагой женщины выполнено так, чтобы убрать ощущение наготы и женской прелести – следует понимать, что это утверждение обдуманно. Женское начало, по мысли Джакометти, лишь декорирует сущность. Сущность героя Джакометти – в вертикальном сопротивлении горизонтальной реальности; таким человеком невозможно «обладать». Человек Джакометти существует вопреки среде; его существование – неудобная для мира вещь, жизнь остра как игла; человек – гвоздь, вбитый в чуждое ему пространство. Ради этого сопротивления среде человек, по мысли автора, должен пожертвовать всем; и чувственным началом жертвуют в первую очередь.
Но искусство зависит от чувственного начала: именно способность зрителя переживать тварный, цветной мир используется художниками. Парадокс творчества Джакометти в том, что он, привлекая наши чувства, рассказывает о бесчувственном.
Зрителю, разумеется, и в голову не придет мысль об обладании подобной бестелесной дамой, хотя, глядя на скульптуры Майоля или Родена, на полотна Ренуара или Тициана, Рубенса и даже целомудренного Рембрандта, эта мысль не кажется неуместной. И в такой мысли – желании присвоить себе красоту – нет греха. Собственно, нагих женщин изображают для того, чтобы зрителя искусить; а как же иначе? Красота – это вообще искушение, прельщение, и лишь от нравственного чувства созерцателя красоты зависит, насколько он может контролировать свои порывы. Нам нравится созерцать море, но мы не можем его купить и обладать им. Женское начало традиционно провоцирует и возбуждает – и художники всех времен изображают нагих женщин именно затем, чтобы рассказать о прелести чувственного мира. Обладать прелестями моделей Энгра или Джорджоне так же невозможно, как приобрести Атлантический океан, но именно страсть к недостижимой красоте и делает возможной победу Пигмалиона над неживой материей. Мы присваиваем – и оживляем своим желанием – красоту (о чем и повествует легенда о Галатее); мы одухотворяем мир, персонализируя объект, через свою страсть к нему.
Творчество есть одухотворение красоты, вот какой урок дает нам изображение нагого тела. «Скажи мне что-нибудь, чтобы я мог тебя увидеть», – говорит Сократ красавцу Критобулу. Красота притягивает нас, еще не осмысливших феномен притяжения; но переживание и осмысление чувства притяжения превращает красоту – в прекрасное. Мы влюблены в формы, но осмысление того, насколько красота воплощает любовь и насколько возможно обладание красотой, переводит чувственное восприятие в разряд эстетической, то есть, нравственной мысли. В данной связи уместно вспомнить картины Модильяни, еще одного «двойника» Боттичелли из XX века – Модильяни часто избирал своими моделями женщин нецеломудренных, но картины его чисты; процесс живописи для Модильяни (как и для Боттичелли) заключался в преодолении того первого импульса, который я рискну определить как «первоначальная чувственность». Модильяни любовался не нежностью форм, но чистотой цвета – переводя созерцание нагой женщины в чувственное наслаждение совсем иного рода: зритель хочет прикоснуться к цвету и свету, а не к телу.
Боттичелли написал десятки картин, сюжеты которых надо разобрать; но в каждой появляется изображение одной и той же красивой женщины. Этот образ в центре любой композиции – вне зависимости от качества и замысла работы. В отличие от Джакометти и Модильяни, художников ровных, творивших без ощутимых взлетов, но и без и провалов, Боттичелли оставил неравноценное наследство. Его картины после смерти приписывали разным авторам, собрали вместе под одним именем сравнительно недавно; подписаны мастером лишь две вещи, одна из них – рисунок к «Раю» Данте, другая «Положение во гроб». И если авторство во всем цикле иллюстраций к «Божественной комедии» несомненно, то авторство отдельных масляных произведений сомнения вызывает. Если смотреть не только избранные великие картины, но все наследие мастера, картину за картиной подряд, неизбежно возникает чувство, что перед нами несколько художников – столь разителен контраст великих замыслов и решений плоских; картин с изысканным колоритом и вещей ходульных, приторных. В целом, упрек Боттичелли в слащавости – справедлив; его многие в этом упрекали. В некоторых (особенно в поздних) картинах Боттичелли слащав той наивной аляповатой умильностью, какая встречается в примитивах и в признаниях наивных верующих людей. Возможно, так проявлялась набожность, которая, как рассказывают, охватила художника после проповедей Савонаролы. Как бы то ни было, с определенного момента картины стали умильными, неглубокими; слово «пошлость» не вполне уместно, но то, что – помимо Джакометти и Модильяни – Боттичелли дал импульс огромному количеству карамельной продукции, очевидно. Однако даже в слащавых работах, несмотря на всю их неубедительность, Боттичелли оставался верен одному, раз и навсегда найденному образу прекрасной женщины, – и характерной черте этого образа – бесчувственной красоте. Собственно говоря, слащавость Боттичелли искупается тем, что его приторная красота – не липкая, не мажорная, не чувственная. Стоит произнести имя Сандро Боттичелли – и перед глазами встает образ нагой, но целомудренно нагой женщины, с удлиненными пропорциями тела, с нежным овалом щек, пухлыми губами, с прозрачными пальцами, с голубыми кроткими глазами.
Именно бесчувственная красота спасает картины Боттичелли от превращения в китч, в пошлую конфетную упаковку. Женщина прекрасна, но плоть ее бесплотна.
Эта женщина зовется то Венерой, то Мадонной, то Весной, то Истиной; но это всегда одна и та же женщина. В упорном, из раза в раз, изображении одного и того же героя нет необычного. Сезанн сотни раз писал гору Сент-Виктуар, которая воплощала его представление о восхождении на путях веры – что же удивительного в том, что Боттичелли пишет одно и то же лицо, одно и то же тело, которое воплощает его представление о прекрасном.
Женщина, изображенная Боттичелли, ни на кого не похожа, но, в то же время, черты ее подаются обобщенно; кажется, что это идеал, а не реальная дама; хочется знать, выдумана она или это портрет. Указывают в качестве прототипа на Симонетту Веспуччи, умершую до того, как были написаны картины – в таком случае, история написания произведений весьма напоминает дантовскую. Говорят также, что Боттичелли изображал внучатую племянницу философа Марсилио Фичино, в которую был влюблен платонически. В любом случае (речь ведь не о сплетне, но о соотношении реальности и образа) слова «платоническая любовь», применимо к образу, созданному Боттичелли, чрезвычайно уместны: Боттичелли не стремился к обладанию; Боттичелли был неоплатоником. Образ его героини является портретом ровно в той степени, в какой идеальное государство Платона является моделью для сборки реального социума – такого государства в природе никогда не было и не могло бы быть (что бы ни говорил Поппер), а Платон лишь намечал контуры идеального рассуждения о справедливости. Это не портрет с натуры – это портрет идеальной натуры.
Строй мысли Боттичелли и строй его картин связаны с философией Платона. С Платоном мастер был знаком через философию Марсилио Фичино, придворного флорентийского философа. Влияние философа Фичино было колоссальным – оказывая влияние на эстетику Флоренции, он влиял и на политическую мысль. Основатель Флорентийской Академии Платона (дед Лоренцо Великолепного, Козимо Медичи, подарил философу виллу, ставшую центром бесед и встреч гуманистов), Марсилио Фичино был идеологом (слово «идеолог» грубое, но точнее не скажешь) флорентийского двора. Он воспитал семью Медичи, через нее – двор; поскольку круг семьи Медичи формировал круг гуманистов Флоренции, семья покровительствовала, дружила и принимала в себя выдающихся людей – не будет преувеличением сказать, что Фичино воспитал Флоренцию. Политика влияла на эстетику, или наоборот, сказать затруднительно – в нашей сегодняшней жизни мы наблюдаем, как идеи, внедренные в элиту как целеполагание, мимикрируют, приспосабливаясь к особенностям элиты. Однако философия неоплатонизма была, если так можно выразиться, государственной религией флорентийской синьории. Медичи был и тираном, и школяром одновременно; Флоренция управлялась банкирским домом (что может быть материальнее?), но банкир и тиран был адептом философской доктрины чистого идеала. Дела государственные не всегда связаны с областью духа; придет время, и фра Савонарола сформулирует упреки и обвинения в адрес Лоренцо Медичи, перечислит его преступления. Но, даже если дела государственные и были не вполне нравственными (разграбление соседней Вольтерры), то фразеология, окружавшая дела – была исключительной. Этого недостаточно, скажем мы сегодня, указывая на разницу в теории и практике коммунизма (например). Верно, этого недостаточно. Но, когда речь идет об идеологии государства, это значит немало: Флорентийская синьория призвала философов, дабы обосновать строй, который выглядел единственно справедливым. Служа государству Флоренция, граждане служили платоновской философии – случай в истории уникальный, небывалый. Пожалуй, это можно сопоставить с первыми годами русской революции, когда политики полагали, что не просто занимаются экспроприацией, но и исполняют заветы Маркса. И в том и в другом случае реальность оказалась сильнее идеала; но краткий миг Флоренции, когда, согласно заветам Платона, государством управляли философы, вдохновил многих творцов. Фичино, разумеется, не управлял. Но он был настолько близок ко двору Медичи и оказывал столь заметное влияние на интеллектуалов двора, что это породило тончайшую интригу.
В некий момент возникла иллюзия – обманчивое чувство, но оно длилось два десятка лет, – что наступил Золотой век, так разумно были сбалансированы многие интересы страт, и так показательно было служение высоким идеалам. Даже восстания «чомпи» (цеха сукновалов – от производства шерсти и сукна зависело благосостояние Флоренции) улеглись. Это было зыбким благополучием, не державшимся ни на чем существенном – лишь на обаянии личности Лоренцо (банкира и сатрапа, но поэта и мецената, человека исключительного таланта и такта), на успехе торговли квасцами и сукном, на займах государствам-соседям, которые до поры долги отдавали. Эпоха Флоренции и время свободных итальянских городов-государств уже были на краю гибели. Но последние дни горели ярко.
Внучка Марсилио Фичино (если это и впрямь она) – вот подходящий объект любви неоплатоника и государственного художника Флоренции. Она – сама любовь, но любовь, понятая через философию неоплатонизма. Иными словами, это любовь отнюдь не отвергающая чувственность, но переводящая чувственное в разряд духовного, нравственного переживания. Боттичелли не случайно изображает Истину нагой (аллегорией Истины на картине «Клевета» выступает все та же обнаженная женщина) – истинное не прикрыто ничем, истинное лишено декораций; трудно представить себе (причем, в самом платоническом рассуждении) форму, более соответствующую образу истины, нежели нагая женщина.
В этом пункте Боттичелли, разумеется, не похож ни на одного из традиционных художников. Прекрасное, показанное через формы и пропорции нагой женщины – в трактовке тысяч художников – зрителя соблазняет, и традиция Средневековья (господствовавшая несколько столетий в Европе до Боттичелли) обнаженное женское тело не приветствовала. Художники Ренессанса вернулись к изображению нагой женщины – и многим авторам казалось, что ничего прекраснее природа не создавала; живописуя прелести своих избранниц, художники всякий раз опровергали средневековый иконописный канон смирения плоти. Мастера школы Фонтенбло или тосканские живописцы, не говоря уже о фривольном XVIII веке, оставили такое количество искусительной нагой натуры, что святому Антонию было бы непросто в иных залах музеев.
2
Возвращаясь к Сандро Боттичелли, надо сказать, что женский образ, созданный им, являет собой наиболее сложный случай трактовки красоты. Это – абсолютно чувственная и, одновременно, совершенно бесчувственная, целомудренно-бесстрастная натура. Линии, обтекающие женскую фигуру, нежны, но – надо разглядеть их характер – не трепетны, как например, у Ренуара, Тициана или Энгра. Боттичелли ведет линию по контуру бедра, не чувствуя тепла и нежности ноги, лишь любуясь ее изгибом; и не изгибом даже он увлечен, но пропорцией, то есть, увлечен геометрией гармонии. Это абсолютно платоновское отношение к красоте и к бытию вообще, не страстное, но внимательно-созерцающее. Страсть – в познании и идее, совсем не в обладании. Впрочем, это касается всей флорентийской живописи, того феномена сухой страсти, не-плотской любви – иными словами, платонизма в красках, который воплощает Флоренция. Не забудем двух великих флорентийцев – Данте и Микеланджело, что явили нам прецедент бесстрастного, рассудочного экстаза. Кстати сказать, Сандро Боттичелли – автор наиболее адекватных иллюстраций к «Комедии» Данте. Сухие графичные листы, выполненные без светотени, без игры красок (лишь несколько листов расцвечены), без нагнетания кошмаров (а, казалось бы, иллюстрируя дантовский триптих, надо прибегнуть к экспрессионистической манере, к аффектированному жесту – ведь в поэме описан огонь, муки, стенания) – именно передают рассудочно-напряженный дантовский слог. Голос Данте, как и голос Боттичелли, негромок. Флорентийцы вообще не кричат, но говорят с ровной, неумолимой силой. Это – от стилистики Платона, от неумолимости сократовской логики; от твердого утверждения Сократа, что истину невозможно опровергнуть, от декларации, по преданию помещенной над входом в Платоновскую академию – «Не геометр да не войдет». Сила утверждения в логике и в гармонии утверждения, и неумолимая сила эта явлена в дантовском замысле структуры мира, а Боттичелли подтвердил своей бесстрастной линией правоту старшего товарища-флорентийца.
В автопортрете Боттичелли (в «Поклонении волхвов» он изобразил и семейство Медичи и, согласно традиции, также поместил свой портрет) мы видим молодого, но уже весьма самоуверенного человека, бросающего на зрителя взгляд, который можно трактовать как презрительный. Он стоит с показательно прямой спиной (хотя принимает участие в поклонении волхвов, то есть, буквально в церемонии преклонения и сгибания шеи), а осанка стоящего неподалеку Джулиано Медичи, брата Лоренцо, в которого была влюблена Флоренция (того Джулиано, что пал от кинжалов заговора Пацци) – это вообще нечто поразительное: он изображен надменным, как павлин. Уж если перед лицом Богоматери и младенца они не могут склонить головы – ни Боттичелли, ни семья Медичи, то вообразите, каково их отношение к смирению вообще.
Напротив Боттичелли (тот стоит справа от Святого семейства, вместе с гуманистом Джованни Агриуполо), в левой группе поклоняющихся Деве, собран философский цветник молодого медичийского двора – тут и гордый Джулиано, и сам Лоренцо, и Пико делла Мирандола, и Анджело Полициано. Философы медичийского двора ведут диспут: Пико излагает свои взгляды. Он в ту пору совсем еще молод, впрочем, Пико и умер молодым, успев совершить переворот в умах.
Разумеется, это не первая картина, включающая портреты семьи Медичи и их круга в сцену поклонения волхвов. Фреска в палаццо Риккарди, охватывающая три стены, работы Беноццо Гоццоли (выполнена за шестнадцать лет до Боттичелли, в 1459 году), изображает не саму сцену поклонения младенцу, но путешествие волхвов к хлеву роженицы – Гоццоли нарисовал бесконечную процессию, состоящую из персонажей флорентийского общества. На фреске Гоццоли подробно изображены все герои общества, даны портретные характеристики двора Медичи, и до сих пор, желая дать портрет того или иного гуманиста, обращаются к Гоццоли как к документалисту. Однако «Поклонение» Боттичелли – первая картина, в которой интеллектуалы собрались у хлева с новорожденным не для того, чтобы глядеть на младенца, но чтобы обсудить его божественное происхождение; поклоняющиеся не смотрят на Святое семейство – они ведут философский диспут. Это неслыханная, невозможная вольность, тем более что разговор они ведут еретический. Несложно представить, что именно говорит Пико, ставший в ту пору оппонентом церкви. Суд инквизиции над ним не состоялся (папа Иннокентий VIII объявил 900 тезисов Пико ересью и поручил инквизиции осудить философа, но Лоренцо помешал процессу), так что у Пико не было случая публично произнести речь, написанную в свое оправдание. То знаменитая «Речь о достоинстве человека». Вне всяких сомнений, именно ее положения излагает Пико своим друзьям в присутствии Мадонны.
В своей «Речи» Пико делла Мирандола опирался на античные идеи: человек-микрокосм, человек – мера всех вещей (см. Протагор). То, что Платон в полемике с Протагором опроверг, поставив меру вещей в зависимость от эйдоса и общего понятия «блага», Пико связал с христианским учением – тем самым выведя аргументацию на уровень веры.
В христианской концепции о сотворении человека Пико отказался от главной посылки: человек создан по образу и подобию Бога. Пико утверждает, что человек – свободный творец собственной природы, что именно человек должен оценить величие мироздания – божественного творения – в известной мере, человеческое сознание выступает судьей Творца, а не наоборот. Это (еретическое, с точки зрения церкви – фактически вариант пелагианства, осужденного еще в IV веке) утверждение Пико обосновывает собственной волей Бога, который не желал создать раба. «Но, закончив творение, пожелал мастер, чтобы был кто-то, кто оценил бы смысл такой большой работы, любил бы ее красоту, восхищался ее размахом». Интерпретируя Завет, Пико пишет: «Не даем мы тебе, о, Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанности ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире».
До какой степени флорентийские гуманисты были стихийными пелагианцами, судить трудно, но, в числе прочего, и пелагианство поставил им в вину Савонарола спустя двадцать лет.
Неумеренная гордыня, самомнение, желание особенной судьбы, выбранной согласно собственной воле. У нас есть все основания считать, что именно на эту тему рассуждает Пико перед лицом младенца Иисуса.
Вот о чем написана боттичеллевская картина «Поклонение волхвов», которая оборачивается не прославлением рожденного Спасителя человечества, но утверждением, что каждый является творцом и избавителем.
Обратите внимание, что родоначальник династии Медичи – старик Козимо – преклонил колени перед Девой, в то время как Джулиано (последнего флорентийский свет чтил едва ли не более Лоренцо, он представлялся идеальным кавалером; кстати, Симонетта Веспуччи – если прообраз героини Боттичелли именно она – была возлюбленной Джулиано) гордо выпятил грудь и о поклонах не помышляет. Тройная рифма: Пико делла Мирандола – Джулиано Медичи – Сандро Боттичелли – крайне важна для композиционного строя картины. Традиционное поклонение Святому семейству становится в равной мере прославлением земного семейства Медичи и их круга, прославлением человеческого достоинства и ответственности за собственную судьбу, за вверенный человеку мир.
Портрет Джулиано Медичи, каковой можно счесть подготовкой к «Поклонению волхвов», Боттичелли выполнил трижды, упорно повторяя эти небывалые по надменности черты и невероятную по анатомической способности откинуть голову назад осанку. (Один из оригиналов в Берлине, другой в Бергамо, третий в Вашингтоне – все они идентичны, что наводит на мысль о том, что для Боттичелли утверждение этой невероятной осанки принципиально важно; такой не встретишь в истории живописи – разве что портрет Д’Эсте кисти Рогира ван дер Вейдена, десятью годами позже, или пизанелловский Лионелло д’Эсте, пятью годами раньше.) Эта же павлиньи гордая, почти пренебрежительная к окружающим осанка Джулиано повторена Боттичелли в образе святого Себастьяна. Себастьян, кстати, и чертами лица напоминает Джулиано. Святой, в трактовке Боттичелли, не просто «не замечает» страданий – таким стоиком иногда его изображали бургундцы, – он вызывает стрелы на себя, он провоцирует убийц надменностью. Флорентийцам свойственна надменность – вы не найдете этой характерной флорентийской осанки ни у сиенцев, ни у венецианцев, ни у феррарцев. Те могут быть и яростными (как Тинторетто), и гордыми (как Симоне Мартини), и стоическими (как Косме Тура), но вот этой дантовской спокойной, повелительной надменности, присущей и Микеланджело, и Леонардо, и Боттичелли, нигде кроме Флоренции не найдете. Сандро Боттичелли – адепт флорентийского платонизма, его манера говорить выстроена на фундаменте долгих диспутов платоновской академии, его синтаксис отполирован Марсилио Фичино, Анджело Полициано и Пико Ми-рандолой.
Спокойная уверенность в том, что мир следует понимать, и мир доступен пониманию умного человека – объясняет неумолимо-бестрепетный характер линий Боттичелли. Лица героев Боттичелли (и, прежде всего, его главной героини, конечно же) поразительны сочетанием кротости и неприступности; это и сияющая чистота – но и недостижимая высота; и, как следствие, – своего рода равнодушие. Вполне ли эту черту можно расценить как «равнодушие», твердо сказать нельзя; скорее изображено свойство натуры, присущее увлеченным интеллектуалам – они настолько погружены в проблему, что иногда (часто) не слышат, как к ним обращаются. Это своего рода надменность, но не надменность в вельможном значении слова. Это – превосходство над бренным миром; это – превосходство над буднями. Превосходство не властное, а онтологическое: духовного над материальным.
3
Вообще, портреты гуманистов, оставленные эпохой Возрождения, это особый жанр, требующий отдельного исследования; здесь ограничусь абзацем. Стратификация общества, то есть, деление на стражей и поэтов (а от читателей Платона мы вправе этого ожидать) – в портретном искусстве Возрождения размыто. Среди исследователей эпохи итальянского Возрождения, французского и северного Ренессанса (прежде всего, Бургундии) принято положение о тождественности образа кондотьера и гуманиста. Портрет Федериго да Монтефельтро (властителя и кондотьера, но и собирателя античных редкостей) кисти Пьеро делла Франческа, а также портреты Джулиано Медичи кисти Боттичелли, некоторые вещи Антонелло да Мессины – как бы смещают границу между социальными типами. Зрителю предъявляют прежде всего волю как доминантную черту героя; а насколько данная «воля» рознится у гуманиста и кондотьера – не объясняют. Помимо того, что кондотьеры часто увлекались гуманитарными дисциплинами, меценатством и собиранием библиотек, помимо этого отмечают схожую черту – жажду деятельности, осваивающей мир. Марко Поло пересекает моря, Леонардо изучает анатомию, Фичино переводит Платона, Гаттамелата покоряет города, Гвиччардини исследует общество – и все это характеры открывателей, первопроходцев. Соответственно, их черты носят общий для всех характер волевой порывистости.
Данное утверждение соблазнительно принять на веру, но мне оно представляется неубедительным. Разница сущностей кондотьера и гуманиста – колоссальна. Гуманист – отнюдь не кондотьер, и, когда Лосев соотносит моральный облик философа Пико с кондотьерством (Пико делла Мирандола отбил у соперника даму сердца, приняв участие в схватке и защитив свою любовь вооруженной рукой) – то в этом уподоблении Лосев производит важную подмену понятий. Пико следует традициям рыцарства, отнюдь не кондотьерства. Средневековая традиция странствующего рыцарства, служения прекрасной даме, провансальская поэзия трубадуров, которые одновременно (как Бернарт де Вентадорн, например), участвовали в Крестовых походах – действительно может (и должна!) быть рассмотрена в связи с гуманизмом Возрождения. Вполне уместно упомянуть в данной связи, что первая рыцарская поэма Италии «Морганте» возникла именно при дворе Медичи, вдохновленная матерью Лоренцо – Лукрецией Торнабуоне, поэтессой и покровительницей поэтов. Полициано, классический философ, первый по приближенности ко двору Лоренцо, был одновременно и сочинителем песен. Собственно, связи гуманистического путешествия в незнаемое с трубадурами не скрывал и Данте, поместив трубадура, участника похода против альбигойцев, в Рай. Дантовская «La Vita Nuova» имеет прямое родство с провансальской поэзией, и об этом многажды говорено. Что же касается «Божественной комедии» флорентийца, то до того, как спуститься в Ад и предпринять космические путешествия, Данте совершает обычный для странствующего рыцаря маршрут: служа Прекрасной Даме, Беатриче, он входит в зачарованный лес, и так далее, вплоть до встречи со львом, волчицей и пантерой. Это традиционный зачин средневекового рыцарского романа. Но странствующий рыцарь – совсем не кондотьер! Мало того, эпоха Возрождения оставила нам достаточно образов именно рыцарей – героев, вступающих в единоборство с чудищами, а не с мятежными крестьянами и соседними городами.
Посмотрите на рыцарей, написанных Паоло Учелло (лондонская «Битва Георгия с драконом»), на рыцарей Пизанелло (вот идеальный рыцарский художник, и его «Видение святого Евстахия», въезжающего в зачарованный лес, могло бы стать лучшим сопровождением Артуровскому циклу), и – как вершину рыцарского искусства – на Георгия, выполненного феррарским живописцем Косме Тура (хранится в соборе Феррары). В рыцарской картине Тура, в мистических вещах Пизанелло, в сказочном рыцаре Учелло нет и следа социальной коллизии. Любопытно, что все три классические «Битвы при Сан Романо» Учелло (одна картина в Лувре, другая в Лондонской национальной галерее, третья в Уффици) – выполнены в жанре рыцарского турнира; это не битва в том понимании кровавого события, которое рисовал, скажем, Леонардо; это сказочный турнир, наподобие «Турнира» Пизанелло из палаццо Дукале в Мантуе.
Луиджи Пульчи, сочинитель первых рыцарских поэм, не прославлял наемничества. Странствующий рыцарь – не наемник; странствующий рыцарь не мог бы разграбить Вольтерру.
Именно эту подмену и произвел Джироламо Савонарола (а православный мыслитель А. Лосев следует Савонароле в этой подмене понятий). Действуя, полагаю, намеренно, Савонарола смешал доктрину гуманистического подвига (а странствующий рыцарь именно эту миссию и выполняет, как и собиратель библиотеки) – с активностью кондотьера, знание спутал с обладанием, а защиту с приобретением. Любопытно, что сам Лоренцо, коему был брошен упрек в кондотьерстве, данной логики не принял; а поздние исследователи это сопоставление приняли и на подмену понятий не обратили внимания.
Иное дело, что черты кондотьеров их хронисты сознательно приукрашивали, а скульпторы и живописцы облагораживали; склонность вельмож к некоторым интеллектуальным штудиям преувеличивали; так появился образ воителя Гаттамелаты, превращенного флорентийским скульптором Донателло в рефлексирующего, погруженного в размышления человека. То, что сильные и властные желают одновременно казаться умными и образованными – известно; наше время, которое карикатурно отражает Возрождение, дало десятки характеров богачей и властителей, ищущих признания в качестве творческих натур. Так было и в те времена; но это отнюдь не означает того, что облик гуманиста и облик кондотьера родственны.
В частности, творчество Боттичелли – одно из доказательств того, что сила не является привлекательной для гуманиста чертой. Это еще у Сенеки было высокомерно сказано: «Сколько бы ни удалось тебе накопить жиру и нарастить мышц, все равно ты не сравняешься ни весом, ни силой с откормленным быком», и сколько же здесь презрения к воинской славе и спортивным свершениям – а гуманисты Возрождения Сенеку любили цитировать. Менее всего портреты гуманистов эпохи Возрождения напоминают образы героев тоталитарных режимов XX века, атлетов Третьего рейха и солдат советского строя. Искусство тоталитарных режимов, воспевая именно воспитание кондотьеров на службе у Родины, ссылалось на наследие античной гармонии и через Античность, будто бы, роднилось с Ренессансом. Это, разумеется, обман. Возрождение училось у Античности, и тоталитарные режимы XX века поглядывали в сторону Античности; это верно. Но герой Возрождения, сколь бы он ни был увлечен греческой философией и культом прекрасного тела, прежде всего – христианин. Гуманисту претит любование мышцами – Микеланджело всю свою энергию потратил на то, чтобы наполнить тела античных атлетов христианским духом. Все эти тупые спортсмены Дейнеки и Брекера не имеют никакого отношения к эстетике Ренессанса, но представляют именно описанных Сенекой откормленных быков, приходящих в неистовство при звуке трубы или охотничьего рожка. Искусство тоталитарных эпох, нерефлексирующее искусство, кондотьерское искусство – никак не связано с гуманизмом; это анти-гуманизм.
Образы героев Боттичелли надменны – нарочно использую этот крайний эпитет, – но они не демонстрируют силы и власти, совсем нет. Это кроткая, неопасная надменность, это даже слабость, но такая обезоруживающая слабость, которая была очевидно явлена в Иисусе.
У Боттичелли даже Марс (см. картину «Венера и Марс») изображен спящим и не особенно могучим. Любовь и интеллектуальное переживание не связаны в представлении Боттичелли с физической силой, а его характерные клубящиеся складки не скрывают мощных тел; это скорее метафора вечно подвижного сознания.
Между подвигом интеллектуальным и подвигом на поле брани – огромная разница. Гуманисты потому и чтили Лоренцо Великолепного (и были влюблены по той же причине в Джулиано), что тот выбрал интеллектуальный подвиг, перевел все свои амбиции властелина в одну-единственную амбицию – быть собеседником философов. Согласно рассказам, даже смертельно больной, правитель Флоренции отходил в мир иной, не прерывая философских дискуссий.
Легкая надломленность, особая хрупкость образов Боттичелли помогает нам ассоциировать эту сухую экстатическую страсть с нашими собственными переживаниями. И то сказать, Боттичелли пришлось пережить самый трагический момент истории Флоренции, осознать хрупкость этого уникального острова гуманизма. Чтобы представить в полной мере самоощущение флорентийского гуманиста, следует вспомнить «Декамерон» Боккаччо: веселые новеллы приятели рассказывают друг другу на вилле, окруженной чумой. Рассказчики закрыты в доме, вокруг которого смерть и спасения нет – и вот, почти лишенные надежды на спасение, они шутят, выстраивают забавные парадоксальные истории, заняты игрой ума. Эта метафора верна для всего флорентийского гуманизма в целом; и, если быть последовательным, верна для определения гуманизма как такового вообще.
Боттичелли повезло (или не повезло, смотря как относиться к испытаниям, выпадающим на долю художника) узнать всю хрупкость флорентийской конструкции: на глазах у него здание зашаталось – и рухнуло. Причем крушение флорентийской синьории не просто описывало обстоятельства жизни мастера, но буквально означало крушение его идеалов. Участник ученых бесед, и если не собеседник, то внимательный слушатель Пико и Фичино, то есть убежденный платоник, художник Сандро Боттичелли подпал под обаяние страстных проповедей феррарского доминиканца Джироламо Савонаролы, ставшего аббатом монастыря Святого Марка во Флоренции. Нет надобности говорить, что доктрина Савонаролы была противоположна фичиновской (неоплатоновской) философии. Джироламо Савонарола был своего рода прото-Лютером; за сто лет до виттенбергского бунтаря он ставил под сомнение авторитет Рима, обличал корыстное духовенство, но основные претензии его были даже не к институту папства – а к искусству, обслуживающему этот институт, этот образ мышления. Савонарола шел дальше – он обличал образ веры гуманизма, самый гуманизм, потеснивший конфессиональную веру и (здесь Савонарола был, разумеется, прав) ставший своего рода новой религией, но не вполне той религией, что называлась христианством вчера. Подобно многим моралистам, Савонарола апеллировал к правильному вчерашнему дню и опровергал модернизации; противником Савонаролы был не папа, не Лоренцо, даже не коррупция и непотизм, не формализм католичества – противником Савонаролы был гуманизм. Монах прозорливо вычленил во флорентийском обществе главное – красоту, которой поклонялись как духовной категории. В эстетике неоплатонизма – красота есть истина, то есть эстетика является и нравственной дисциплиной в том числе. Для канонического христианства это положение немыслимо. В доктрине сурового христианства Савонаролы, прельстительная красота – противоположна духу, противна вере. Идеология неоплатонизма, то, чем дышал и жил двор Флоренции времен Лоренцо, – строилась на понятии «прекрасного» как основе социальной деятельности. Платоновский «Пир» был настольной книгой гуманистов, и ежедневные (это надо представить: именно ежедневные) дискуссии художников и философов создали ту специальную вязкую среду, в которой красивое, правдивое, справедливое и должное – составляло как бы единое целое. Этот платоновский эйдос представить как основу социальной конструкции затруднительно – самому Платону потребовалось для этого нарисовать проект казарменной республики, а как удержать связь красоты и истины в живом и страстном обществе? Конечно, подобная социальная конструкция весьма непрочна: достаточно указать на скотские условия жизни «чомпи» (в ту пору им стало несколько легче), на мизерабельное положение пополанов, увидеть какой ценой добываются богатства синьории – достаточно потянуть за эту нитку, и размотается весь клубок несоответствий. Савонарола именно так и сделал. Монах самым жестоким, хирургическим образом вскрыл противоречие единого флорентийского эйдоса, и разумный мир Лоренцо, в который верил Боттичелли, накренился и рухнул.
Важно здесь то, что Савонарола получил место аббата во Флоренции именно от Лоренцо Великолепного, внявшего рекомендациям философа Пико делла Мирандола, известного своими противоречивыми взглядами. Пико был мастер по части поисков антитез к собственным тезисам – его привлек страстный обличитель роскоши, к которой сам Пико испытывал простительную (как он считал) слабость. Пико был платоником, который расширил понятие эйдоса до включения в изначальную идею творца и доктрины иудаизма, и каббалу, и мистику; спустя век его бы сочли алхимиком. Страсть приезжего аббата показалась ему необходимым компонентом для его смеси – тигель Флоренции, считал Пико, выдержит эту смесь. Приезжий монах был диковинкой, бунтарем против здравого смысла, но бунтарем неопасным – кто опровергнет Платона? Савонарола стал аббатом монастыря Святого Марка; толпы флорентийцев шли на проповеди нового аббата, обличавшие роскошь знати и преступления правителя Лоренцо (таковые имели место – Лоренцо, скажем, растратил деньги сиротского приюта – хотя по меркам Италии тех лет, не говоря уж про современность, эти преступления были незначительными). Проповеди Савонаролы стали своего рода светской модой – богатые умеют сделать модными даже обличения своего богатства. Савонарола говорил с яростью библейского пророка Иезекииля, и для Пико, чтившего Ветхий Завет, его обличающий пафос стал определяющим: светский философ почувствовал бесстрашие пророка. Слова из проповеди Савонаролы «Господь позволил богатому впасть в грех, чтобы тот познал, что он животное» сравнимы по ярости со словами Иезекииля.
Одним из риторических приемов монаха стала подмена понятия «прекрасное» понятием «суета». Прежде во Флоренции беспрестанно использовали слово «красота»; Савонарола поставил на это место слово «суета», и дикость происходящего с маленькой страной, окруженной враждебным миром, не думающей про завтрашний день, стала понятна многим. Флорентийцы и впрямь жили как герои Боккаччо – на горе, отгороженные от чумы непрочной стеной. Савонарола сумел эту стену пробить – жизнь и история хлынули в брешь и затопили Флоренцию.
И вот, именно проповеди Савонаролы сделали противоречия эстетической системы Боттичелли столь болезненно-яркими.
Остается загадкой, почему платоники, облеченные властью, не пресекли разрушительную работу Савонаролы. Макиавелли относил к особенностям характера Лоренцо интерес последнего к язвительным насмешкам в свой адрес; необычное для правителя свойство. Томас Манн в пьесе «Фьоренца» трактует Флоренцию как возлюбленную и Медичи, и Савонаролы, изображает коллизию между Савонаролой и Медичи как соревнование любовников прекрасной дамы, в котором применение власти некорректно. Возможно также, что неоплатоники полагались на заявленное Плотином свойство блага, которое должно отторгнуть внешнее зло – просто по своей природе. Так, Порфирий в биографии Плотина описывает, как умышлявший на Плотина его соперник философ Олимпий испытывал неприятности всякий раз, как плел интригу – зло попросту отторгалось от Плотина, не оказывая вреда, и возвращалось к пославшему его. Возможно, что последователь Плотина флорентиец Фичино, да и Пико с Лоренцо, придерживались этого же соображения.
Исторические события подтвердили плотиновскую идею: Савонарола сам пал жертвой своего натиска; но синьорию Медичи он успел погубить.
4
Важно представить себе, в какой момент интеллектуальной биографии Боттичелли он почувствовал, что здание платонизма шатается.
Сказать о бесстрастной страсти, о чувственной бесчувственности, о целомудренной прельстительности женского образа Боттичелли надо прежде всего потому, что это противоречие описывает глубинное противоречие неоплатонизма: соединение христианства с греческим язычеством. Начало духовное и начало чувственное сплавлены неоплатонизмом воедино – но как быть с образом, долженствующим это слияние воплощать? Сплав язычества и христианской веры в картинах Боттичелли дан столь наглядно, как, вероятно, нигде более. Его идеальная героиня – Мадонна и Венера одновременно; это Венера, которая стала Мадонной – данное утверждение совсем не кажется кощунством, если речь о Боттичелли. Фактически две наиболее христианские его картины, два манифеста христианской веры: «Рождение Венеры» и «Весна» – суть изображение языческих богинь и языческого мировоззрения. Что заставляет нас считать данные картины христианскими, а не языческими? Причиной тому – беззащитность и хрупкость образа, не свойственные античной мифологии; культ античного божества не знает ни страдания, ни, тем более, сострадания и жалости. В Венере (Афродите) нет жалости к малым сим, нет снисхождения к жертвам страстей – и ее сын Эрос тоже не знает жалости. Венера Боттичелли, подобно христианским мученикам, поражает своей уязвимостью, беззащитностью – и одновременно милосердием облика. То, как бережно ступают героини Боттичелли по земле (а они почти парят), это ведь не только характеристика их невесомой, божественной природы – это своего рода деликатность в прикосновении ко всему сущему. Венера движется так аккуратно, чтобы никого не поранить – словно опасаясь неосторожностью своей навредить. Ни смятого цветка, ни потревоженной души – Античность такой образ создать не могла. Эта деликатность образа имеет исключительно христианскую природу; античный мастер не смог бы так написать. Поскольку Марсилио Фичино рекомендовал воспринимать античную богиню Венеру как воплощение категории гуманности, у нас нет даже возможности прочесть картину Боттичелли иначе, чем как иллюстрацию неоплатонизма. Сандро Боттичелли изобразил именно прорастание образа Мадонны (сострадания к миру) из образа языческой любви. Не будет ни в коем случае преувеличением сказать, что это утверждение – кульминационный пункт всего Кватроченто, всего итальянского Возрождения. Боттичелли писал чистыми локальными цветами, не зная ни лессировок сиенской школы (сиенцы славились умением написать тень на розовом лице прозрачной зеленой краской), ни мрачных полутонов венецианцев. Иными словами, его утверждения – говори мы не о живописи, а о философии, мы бы употребили слово «предикаты», а Боттичелли – такой же философ, как и Пико – лапидарны и не допускают двойных толкований. Это не смутные намеки: мол, Венера в чем-то еще и Мадонна. Нет, это совершенно осознанное утверждение – Венера и Мадонна суть одна и та же сущность. Осмелиться на такое заявление могли бы немногие.
Впрочем, Боттичелли пошел дальше.
Его «Весна» (одна из самых сложных картин в истории живописи, наряду с «Менинами» Веласкеса и «Расстрелом» Гойи) выполнена в 1482 году, за десять лет до иллюстраций к «Комедии» Данте. Сказать «самая сложная» – вовсе не означает сказать «не поддающаяся прочтению». Напротив, картина взывает к прочтению, нет такого произведения человеческой мысли, которое нельзя было бы понять. Картина и была многократно трактована, причем как в метафизическом ключе, как и в сугубо социальном (можно узнавать героев: Джулиано Медичи в Меркурии и т. д.). Ниже я предлагаю трактовку, связанную с текстами Платона и Данте, поскольку уверен, что Боттичелли вступил в диалог с ними при создании своей «Примаверы».
На протяжении всего своего творчества флорентийский мастер Боттичелли рассыпал по картинам достаточно много деталей, позволяющих ассоциировать его идеальную платоническую возлюбленную, Венеру и Мадонну в одном лице, с дантовской Беатриче – недостижимой и воплощающей небесную любовь, чистую идею любви.
В картине «Весна» героинь две. Которая из них Весна, сказать с первого взгляда трудно. Собственно языческая богиня Флора (девушка в платье из цветов и трав) изображена как двойник центральной героини, определить которую толкователи затрудняются. Женщины эти схожи лицами до неразличимости – но зритель Боттичелли к этому привык, его героини все имеют одно лицо.
Но искусство зависит от чувственного начала: именно способность зрителя переживать тварный, цветной мир используется художниками. Парадокс творчества Джакометти в том, что он, привлекая наши чувства, рассказывает о бесчувственном.
Зрителю, разумеется, и в голову не придет мысль об обладании подобной бестелесной дамой, хотя, глядя на скульптуры Майоля или Родена, на полотна Ренуара или Тициана, Рубенса и даже целомудренного Рембрандта, эта мысль не кажется неуместной. И в такой мысли – желании присвоить себе красоту – нет греха. Собственно, нагих женщин изображают для того, чтобы зрителя искусить; а как же иначе? Красота – это вообще искушение, прельщение, и лишь от нравственного чувства созерцателя красоты зависит, насколько он может контролировать свои порывы. Нам нравится созерцать море, но мы не можем его купить и обладать им. Женское начало традиционно провоцирует и возбуждает – и художники всех времен изображают нагих женщин именно затем, чтобы рассказать о прелести чувственного мира. Обладать прелестями моделей Энгра или Джорджоне так же невозможно, как приобрести Атлантический океан, но именно страсть к недостижимой красоте и делает возможной победу Пигмалиона над неживой материей. Мы присваиваем – и оживляем своим желанием – красоту (о чем и повествует легенда о Галатее); мы одухотворяем мир, персонализируя объект, через свою страсть к нему.
Творчество есть одухотворение красоты, вот какой урок дает нам изображение нагого тела. «Скажи мне что-нибудь, чтобы я мог тебя увидеть», – говорит Сократ красавцу Критобулу. Красота притягивает нас, еще не осмысливших феномен притяжения; но переживание и осмысление чувства притяжения превращает красоту – в прекрасное. Мы влюблены в формы, но осмысление того, насколько красота воплощает любовь и насколько возможно обладание красотой, переводит чувственное восприятие в разряд эстетической, то есть, нравственной мысли. В данной связи уместно вспомнить картины Модильяни, еще одного «двойника» Боттичелли из XX века – Модильяни часто избирал своими моделями женщин нецеломудренных, но картины его чисты; процесс живописи для Модильяни (как и для Боттичелли) заключался в преодолении того первого импульса, который я рискну определить как «первоначальная чувственность». Модильяни любовался не нежностью форм, но чистотой цвета – переводя созерцание нагой женщины в чувственное наслаждение совсем иного рода: зритель хочет прикоснуться к цвету и свету, а не к телу.
Боттичелли написал десятки картин, сюжеты которых надо разобрать; но в каждой появляется изображение одной и той же красивой женщины. Этот образ в центре любой композиции – вне зависимости от качества и замысла работы. В отличие от Джакометти и Модильяни, художников ровных, творивших без ощутимых взлетов, но и без и провалов, Боттичелли оставил неравноценное наследство. Его картины после смерти приписывали разным авторам, собрали вместе под одним именем сравнительно недавно; подписаны мастером лишь две вещи, одна из них – рисунок к «Раю» Данте, другая «Положение во гроб». И если авторство во всем цикле иллюстраций к «Божественной комедии» несомненно, то авторство отдельных масляных произведений сомнения вызывает. Если смотреть не только избранные великие картины, но все наследие мастера, картину за картиной подряд, неизбежно возникает чувство, что перед нами несколько художников – столь разителен контраст великих замыслов и решений плоских; картин с изысканным колоритом и вещей ходульных, приторных. В целом, упрек Боттичелли в слащавости – справедлив; его многие в этом упрекали. В некоторых (особенно в поздних) картинах Боттичелли слащав той наивной аляповатой умильностью, какая встречается в примитивах и в признаниях наивных верующих людей. Возможно, так проявлялась набожность, которая, как рассказывают, охватила художника после проповедей Савонаролы. Как бы то ни было, с определенного момента картины стали умильными, неглубокими; слово «пошлость» не вполне уместно, но то, что – помимо Джакометти и Модильяни – Боттичелли дал импульс огромному количеству карамельной продукции, очевидно. Однако даже в слащавых работах, несмотря на всю их неубедительность, Боттичелли оставался верен одному, раз и навсегда найденному образу прекрасной женщины, – и характерной черте этого образа – бесчувственной красоте. Собственно говоря, слащавость Боттичелли искупается тем, что его приторная красота – не липкая, не мажорная, не чувственная. Стоит произнести имя Сандро Боттичелли – и перед глазами встает образ нагой, но целомудренно нагой женщины, с удлиненными пропорциями тела, с нежным овалом щек, пухлыми губами, с прозрачными пальцами, с голубыми кроткими глазами.
Именно бесчувственная красота спасает картины Боттичелли от превращения в китч, в пошлую конфетную упаковку. Женщина прекрасна, но плоть ее бесплотна.
Эта женщина зовется то Венерой, то Мадонной, то Весной, то Истиной; но это всегда одна и та же женщина. В упорном, из раза в раз, изображении одного и того же героя нет необычного. Сезанн сотни раз писал гору Сент-Виктуар, которая воплощала его представление о восхождении на путях веры – что же удивительного в том, что Боттичелли пишет одно и то же лицо, одно и то же тело, которое воплощает его представление о прекрасном.
Женщина, изображенная Боттичелли, ни на кого не похожа, но, в то же время, черты ее подаются обобщенно; кажется, что это идеал, а не реальная дама; хочется знать, выдумана она или это портрет. Указывают в качестве прототипа на Симонетту Веспуччи, умершую до того, как были написаны картины – в таком случае, история написания произведений весьма напоминает дантовскую. Говорят также, что Боттичелли изображал внучатую племянницу философа Марсилио Фичино, в которую был влюблен платонически. В любом случае (речь ведь не о сплетне, но о соотношении реальности и образа) слова «платоническая любовь», применимо к образу, созданному Боттичелли, чрезвычайно уместны: Боттичелли не стремился к обладанию; Боттичелли был неоплатоником. Образ его героини является портретом ровно в той степени, в какой идеальное государство Платона является моделью для сборки реального социума – такого государства в природе никогда не было и не могло бы быть (что бы ни говорил Поппер), а Платон лишь намечал контуры идеального рассуждения о справедливости. Это не портрет с натуры – это портрет идеальной натуры.
Строй мысли Боттичелли и строй его картин связаны с философией Платона. С Платоном мастер был знаком через философию Марсилио Фичино, придворного флорентийского философа. Влияние философа Фичино было колоссальным – оказывая влияние на эстетику Флоренции, он влиял и на политическую мысль. Основатель Флорентийской Академии Платона (дед Лоренцо Великолепного, Козимо Медичи, подарил философу виллу, ставшую центром бесед и встреч гуманистов), Марсилио Фичино был идеологом (слово «идеолог» грубое, но точнее не скажешь) флорентийского двора. Он воспитал семью Медичи, через нее – двор; поскольку круг семьи Медичи формировал круг гуманистов Флоренции, семья покровительствовала, дружила и принимала в себя выдающихся людей – не будет преувеличением сказать, что Фичино воспитал Флоренцию. Политика влияла на эстетику, или наоборот, сказать затруднительно – в нашей сегодняшней жизни мы наблюдаем, как идеи, внедренные в элиту как целеполагание, мимикрируют, приспосабливаясь к особенностям элиты. Однако философия неоплатонизма была, если так можно выразиться, государственной религией флорентийской синьории. Медичи был и тираном, и школяром одновременно; Флоренция управлялась банкирским домом (что может быть материальнее?), но банкир и тиран был адептом философской доктрины чистого идеала. Дела государственные не всегда связаны с областью духа; придет время, и фра Савонарола сформулирует упреки и обвинения в адрес Лоренцо Медичи, перечислит его преступления. Но, даже если дела государственные и были не вполне нравственными (разграбление соседней Вольтерры), то фразеология, окружавшая дела – была исключительной. Этого недостаточно, скажем мы сегодня, указывая на разницу в теории и практике коммунизма (например). Верно, этого недостаточно. Но, когда речь идет об идеологии государства, это значит немало: Флорентийская синьория призвала философов, дабы обосновать строй, который выглядел единственно справедливым. Служа государству Флоренция, граждане служили платоновской философии – случай в истории уникальный, небывалый. Пожалуй, это можно сопоставить с первыми годами русской революции, когда политики полагали, что не просто занимаются экспроприацией, но и исполняют заветы Маркса. И в том и в другом случае реальность оказалась сильнее идеала; но краткий миг Флоренции, когда, согласно заветам Платона, государством управляли философы, вдохновил многих творцов. Фичино, разумеется, не управлял. Но он был настолько близок ко двору Медичи и оказывал столь заметное влияние на интеллектуалов двора, что это породило тончайшую интригу.
В некий момент возникла иллюзия – обманчивое чувство, но оно длилось два десятка лет, – что наступил Золотой век, так разумно были сбалансированы многие интересы страт, и так показательно было служение высоким идеалам. Даже восстания «чомпи» (цеха сукновалов – от производства шерсти и сукна зависело благосостояние Флоренции) улеглись. Это было зыбким благополучием, не державшимся ни на чем существенном – лишь на обаянии личности Лоренцо (банкира и сатрапа, но поэта и мецената, человека исключительного таланта и такта), на успехе торговли квасцами и сукном, на займах государствам-соседям, которые до поры долги отдавали. Эпоха Флоренции и время свободных итальянских городов-государств уже были на краю гибели. Но последние дни горели ярко.
Внучка Марсилио Фичино (если это и впрямь она) – вот подходящий объект любви неоплатоника и государственного художника Флоренции. Она – сама любовь, но любовь, понятая через философию неоплатонизма. Иными словами, это любовь отнюдь не отвергающая чувственность, но переводящая чувственное в разряд духовного, нравственного переживания. Боттичелли не случайно изображает Истину нагой (аллегорией Истины на картине «Клевета» выступает все та же обнаженная женщина) – истинное не прикрыто ничем, истинное лишено декораций; трудно представить себе (причем, в самом платоническом рассуждении) форму, более соответствующую образу истины, нежели нагая женщина.
В этом пункте Боттичелли, разумеется, не похож ни на одного из традиционных художников. Прекрасное, показанное через формы и пропорции нагой женщины – в трактовке тысяч художников – зрителя соблазняет, и традиция Средневековья (господствовавшая несколько столетий в Европе до Боттичелли) обнаженное женское тело не приветствовала. Художники Ренессанса вернулись к изображению нагой женщины – и многим авторам казалось, что ничего прекраснее природа не создавала; живописуя прелести своих избранниц, художники всякий раз опровергали средневековый иконописный канон смирения плоти. Мастера школы Фонтенбло или тосканские живописцы, не говоря уже о фривольном XVIII веке, оставили такое количество искусительной нагой натуры, что святому Антонию было бы непросто в иных залах музеев.
2
Возвращаясь к Сандро Боттичелли, надо сказать, что женский образ, созданный им, являет собой наиболее сложный случай трактовки красоты. Это – абсолютно чувственная и, одновременно, совершенно бесчувственная, целомудренно-бесстрастная натура. Линии, обтекающие женскую фигуру, нежны, но – надо разглядеть их характер – не трепетны, как например, у Ренуара, Тициана или Энгра. Боттичелли ведет линию по контуру бедра, не чувствуя тепла и нежности ноги, лишь любуясь ее изгибом; и не изгибом даже он увлечен, но пропорцией, то есть, увлечен геометрией гармонии. Это абсолютно платоновское отношение к красоте и к бытию вообще, не страстное, но внимательно-созерцающее. Страсть – в познании и идее, совсем не в обладании. Впрочем, это касается всей флорентийской живописи, того феномена сухой страсти, не-плотской любви – иными словами, платонизма в красках, который воплощает Флоренция. Не забудем двух великих флорентийцев – Данте и Микеланджело, что явили нам прецедент бесстрастного, рассудочного экстаза. Кстати сказать, Сандро Боттичелли – автор наиболее адекватных иллюстраций к «Комедии» Данте. Сухие графичные листы, выполненные без светотени, без игры красок (лишь несколько листов расцвечены), без нагнетания кошмаров (а, казалось бы, иллюстрируя дантовский триптих, надо прибегнуть к экспрессионистической манере, к аффектированному жесту – ведь в поэме описан огонь, муки, стенания) – именно передают рассудочно-напряженный дантовский слог. Голос Данте, как и голос Боттичелли, негромок. Флорентийцы вообще не кричат, но говорят с ровной, неумолимой силой. Это – от стилистики Платона, от неумолимости сократовской логики; от твердого утверждения Сократа, что истину невозможно опровергнуть, от декларации, по преданию помещенной над входом в Платоновскую академию – «Не геометр да не войдет». Сила утверждения в логике и в гармонии утверждения, и неумолимая сила эта явлена в дантовском замысле структуры мира, а Боттичелли подтвердил своей бесстрастной линией правоту старшего товарища-флорентийца.
В автопортрете Боттичелли (в «Поклонении волхвов» он изобразил и семейство Медичи и, согласно традиции, также поместил свой портрет) мы видим молодого, но уже весьма самоуверенного человека, бросающего на зрителя взгляд, который можно трактовать как презрительный. Он стоит с показательно прямой спиной (хотя принимает участие в поклонении волхвов, то есть, буквально в церемонии преклонения и сгибания шеи), а осанка стоящего неподалеку Джулиано Медичи, брата Лоренцо, в которого была влюблена Флоренция (того Джулиано, что пал от кинжалов заговора Пацци) – это вообще нечто поразительное: он изображен надменным, как павлин. Уж если перед лицом Богоматери и младенца они не могут склонить головы – ни Боттичелли, ни семья Медичи, то вообразите, каково их отношение к смирению вообще.
Напротив Боттичелли (тот стоит справа от Святого семейства, вместе с гуманистом Джованни Агриуполо), в левой группе поклоняющихся Деве, собран философский цветник молодого медичийского двора – тут и гордый Джулиано, и сам Лоренцо, и Пико делла Мирандола, и Анджело Полициано. Философы медичийского двора ведут диспут: Пико излагает свои взгляды. Он в ту пору совсем еще молод, впрочем, Пико и умер молодым, успев совершить переворот в умах.
Разумеется, это не первая картина, включающая портреты семьи Медичи и их круга в сцену поклонения волхвов. Фреска в палаццо Риккарди, охватывающая три стены, работы Беноццо Гоццоли (выполнена за шестнадцать лет до Боттичелли, в 1459 году), изображает не саму сцену поклонения младенцу, но путешествие волхвов к хлеву роженицы – Гоццоли нарисовал бесконечную процессию, состоящую из персонажей флорентийского общества. На фреске Гоццоли подробно изображены все герои общества, даны портретные характеристики двора Медичи, и до сих пор, желая дать портрет того или иного гуманиста, обращаются к Гоццоли как к документалисту. Однако «Поклонение» Боттичелли – первая картина, в которой интеллектуалы собрались у хлева с новорожденным не для того, чтобы глядеть на младенца, но чтобы обсудить его божественное происхождение; поклоняющиеся не смотрят на Святое семейство – они ведут философский диспут. Это неслыханная, невозможная вольность, тем более что разговор они ведут еретический. Несложно представить, что именно говорит Пико, ставший в ту пору оппонентом церкви. Суд инквизиции над ним не состоялся (папа Иннокентий VIII объявил 900 тезисов Пико ересью и поручил инквизиции осудить философа, но Лоренцо помешал процессу), так что у Пико не было случая публично произнести речь, написанную в свое оправдание. То знаменитая «Речь о достоинстве человека». Вне всяких сомнений, именно ее положения излагает Пико своим друзьям в присутствии Мадонны.
В своей «Речи» Пико делла Мирандола опирался на античные идеи: человек-микрокосм, человек – мера всех вещей (см. Протагор). То, что Платон в полемике с Протагором опроверг, поставив меру вещей в зависимость от эйдоса и общего понятия «блага», Пико связал с христианским учением – тем самым выведя аргументацию на уровень веры.
В христианской концепции о сотворении человека Пико отказался от главной посылки: человек создан по образу и подобию Бога. Пико утверждает, что человек – свободный творец собственной природы, что именно человек должен оценить величие мироздания – божественного творения – в известной мере, человеческое сознание выступает судьей Творца, а не наоборот. Это (еретическое, с точки зрения церкви – фактически вариант пелагианства, осужденного еще в IV веке) утверждение Пико обосновывает собственной волей Бога, который не желал создать раба. «Но, закончив творение, пожелал мастер, чтобы был кто-то, кто оценил бы смысл такой большой работы, любил бы ее красоту, восхищался ее размахом». Интерпретируя Завет, Пико пишет: «Не даем мы тебе, о, Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанности ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире».
До какой степени флорентийские гуманисты были стихийными пелагианцами, судить трудно, но, в числе прочего, и пелагианство поставил им в вину Савонарола спустя двадцать лет.
Неумеренная гордыня, самомнение, желание особенной судьбы, выбранной согласно собственной воле. У нас есть все основания считать, что именно на эту тему рассуждает Пико перед лицом младенца Иисуса.
Вот о чем написана боттичеллевская картина «Поклонение волхвов», которая оборачивается не прославлением рожденного Спасителя человечества, но утверждением, что каждый является творцом и избавителем.
Обратите внимание, что родоначальник династии Медичи – старик Козимо – преклонил колени перед Девой, в то время как Джулиано (последнего флорентийский свет чтил едва ли не более Лоренцо, он представлялся идеальным кавалером; кстати, Симонетта Веспуччи – если прообраз героини Боттичелли именно она – была возлюбленной Джулиано) гордо выпятил грудь и о поклонах не помышляет. Тройная рифма: Пико делла Мирандола – Джулиано Медичи – Сандро Боттичелли – крайне важна для композиционного строя картины. Традиционное поклонение Святому семейству становится в равной мере прославлением земного семейства Медичи и их круга, прославлением человеческого достоинства и ответственности за собственную судьбу, за вверенный человеку мир.
Портрет Джулиано Медичи, каковой можно счесть подготовкой к «Поклонению волхвов», Боттичелли выполнил трижды, упорно повторяя эти небывалые по надменности черты и невероятную по анатомической способности откинуть голову назад осанку. (Один из оригиналов в Берлине, другой в Бергамо, третий в Вашингтоне – все они идентичны, что наводит на мысль о том, что для Боттичелли утверждение этой невероятной осанки принципиально важно; такой не встретишь в истории живописи – разве что портрет Д’Эсте кисти Рогира ван дер Вейдена, десятью годами позже, или пизанелловский Лионелло д’Эсте, пятью годами раньше.) Эта же павлиньи гордая, почти пренебрежительная к окружающим осанка Джулиано повторена Боттичелли в образе святого Себастьяна. Себастьян, кстати, и чертами лица напоминает Джулиано. Святой, в трактовке Боттичелли, не просто «не замечает» страданий – таким стоиком иногда его изображали бургундцы, – он вызывает стрелы на себя, он провоцирует убийц надменностью. Флорентийцам свойственна надменность – вы не найдете этой характерной флорентийской осанки ни у сиенцев, ни у венецианцев, ни у феррарцев. Те могут быть и яростными (как Тинторетто), и гордыми (как Симоне Мартини), и стоическими (как Косме Тура), но вот этой дантовской спокойной, повелительной надменности, присущей и Микеланджело, и Леонардо, и Боттичелли, нигде кроме Флоренции не найдете. Сандро Боттичелли – адепт флорентийского платонизма, его манера говорить выстроена на фундаменте долгих диспутов платоновской академии, его синтаксис отполирован Марсилио Фичино, Анджело Полициано и Пико Ми-рандолой.
Спокойная уверенность в том, что мир следует понимать, и мир доступен пониманию умного человека – объясняет неумолимо-бестрепетный характер линий Боттичелли. Лица героев Боттичелли (и, прежде всего, его главной героини, конечно же) поразительны сочетанием кротости и неприступности; это и сияющая чистота – но и недостижимая высота; и, как следствие, – своего рода равнодушие. Вполне ли эту черту можно расценить как «равнодушие», твердо сказать нельзя; скорее изображено свойство натуры, присущее увлеченным интеллектуалам – они настолько погружены в проблему, что иногда (часто) не слышат, как к ним обращаются. Это своего рода надменность, но не надменность в вельможном значении слова. Это – превосходство над бренным миром; это – превосходство над буднями. Превосходство не властное, а онтологическое: духовного над материальным.
3
Вообще, портреты гуманистов, оставленные эпохой Возрождения, это особый жанр, требующий отдельного исследования; здесь ограничусь абзацем. Стратификация общества, то есть, деление на стражей и поэтов (а от читателей Платона мы вправе этого ожидать) – в портретном искусстве Возрождения размыто. Среди исследователей эпохи итальянского Возрождения, французского и северного Ренессанса (прежде всего, Бургундии) принято положение о тождественности образа кондотьера и гуманиста. Портрет Федериго да Монтефельтро (властителя и кондотьера, но и собирателя античных редкостей) кисти Пьеро делла Франческа, а также портреты Джулиано Медичи кисти Боттичелли, некоторые вещи Антонелло да Мессины – как бы смещают границу между социальными типами. Зрителю предъявляют прежде всего волю как доминантную черту героя; а насколько данная «воля» рознится у гуманиста и кондотьера – не объясняют. Помимо того, что кондотьеры часто увлекались гуманитарными дисциплинами, меценатством и собиранием библиотек, помимо этого отмечают схожую черту – жажду деятельности, осваивающей мир. Марко Поло пересекает моря, Леонардо изучает анатомию, Фичино переводит Платона, Гаттамелата покоряет города, Гвиччардини исследует общество – и все это характеры открывателей, первопроходцев. Соответственно, их черты носят общий для всех характер волевой порывистости.
Данное утверждение соблазнительно принять на веру, но мне оно представляется неубедительным. Разница сущностей кондотьера и гуманиста – колоссальна. Гуманист – отнюдь не кондотьер, и, когда Лосев соотносит моральный облик философа Пико с кондотьерством (Пико делла Мирандола отбил у соперника даму сердца, приняв участие в схватке и защитив свою любовь вооруженной рукой) – то в этом уподоблении Лосев производит важную подмену понятий. Пико следует традициям рыцарства, отнюдь не кондотьерства. Средневековая традиция странствующего рыцарства, служения прекрасной даме, провансальская поэзия трубадуров, которые одновременно (как Бернарт де Вентадорн, например), участвовали в Крестовых походах – действительно может (и должна!) быть рассмотрена в связи с гуманизмом Возрождения. Вполне уместно упомянуть в данной связи, что первая рыцарская поэма Италии «Морганте» возникла именно при дворе Медичи, вдохновленная матерью Лоренцо – Лукрецией Торнабуоне, поэтессой и покровительницей поэтов. Полициано, классический философ, первый по приближенности ко двору Лоренцо, был одновременно и сочинителем песен. Собственно, связи гуманистического путешествия в незнаемое с трубадурами не скрывал и Данте, поместив трубадура, участника похода против альбигойцев, в Рай. Дантовская «La Vita Nuova» имеет прямое родство с провансальской поэзией, и об этом многажды говорено. Что же касается «Божественной комедии» флорентийца, то до того, как спуститься в Ад и предпринять космические путешествия, Данте совершает обычный для странствующего рыцаря маршрут: служа Прекрасной Даме, Беатриче, он входит в зачарованный лес, и так далее, вплоть до встречи со львом, волчицей и пантерой. Это традиционный зачин средневекового рыцарского романа. Но странствующий рыцарь – совсем не кондотьер! Мало того, эпоха Возрождения оставила нам достаточно образов именно рыцарей – героев, вступающих в единоборство с чудищами, а не с мятежными крестьянами и соседними городами.
Посмотрите на рыцарей, написанных Паоло Учелло (лондонская «Битва Георгия с драконом»), на рыцарей Пизанелло (вот идеальный рыцарский художник, и его «Видение святого Евстахия», въезжающего в зачарованный лес, могло бы стать лучшим сопровождением Артуровскому циклу), и – как вершину рыцарского искусства – на Георгия, выполненного феррарским живописцем Косме Тура (хранится в соборе Феррары). В рыцарской картине Тура, в мистических вещах Пизанелло, в сказочном рыцаре Учелло нет и следа социальной коллизии. Любопытно, что все три классические «Битвы при Сан Романо» Учелло (одна картина в Лувре, другая в Лондонской национальной галерее, третья в Уффици) – выполнены в жанре рыцарского турнира; это не битва в том понимании кровавого события, которое рисовал, скажем, Леонардо; это сказочный турнир, наподобие «Турнира» Пизанелло из палаццо Дукале в Мантуе.
Луиджи Пульчи, сочинитель первых рыцарских поэм, не прославлял наемничества. Странствующий рыцарь – не наемник; странствующий рыцарь не мог бы разграбить Вольтерру.
Именно эту подмену и произвел Джироламо Савонарола (а православный мыслитель А. Лосев следует Савонароле в этой подмене понятий). Действуя, полагаю, намеренно, Савонарола смешал доктрину гуманистического подвига (а странствующий рыцарь именно эту миссию и выполняет, как и собиратель библиотеки) – с активностью кондотьера, знание спутал с обладанием, а защиту с приобретением. Любопытно, что сам Лоренцо, коему был брошен упрек в кондотьерстве, данной логики не принял; а поздние исследователи это сопоставление приняли и на подмену понятий не обратили внимания.
Иное дело, что черты кондотьеров их хронисты сознательно приукрашивали, а скульпторы и живописцы облагораживали; склонность вельмож к некоторым интеллектуальным штудиям преувеличивали; так появился образ воителя Гаттамелаты, превращенного флорентийским скульптором Донателло в рефлексирующего, погруженного в размышления человека. То, что сильные и властные желают одновременно казаться умными и образованными – известно; наше время, которое карикатурно отражает Возрождение, дало десятки характеров богачей и властителей, ищущих признания в качестве творческих натур. Так было и в те времена; но это отнюдь не означает того, что облик гуманиста и облик кондотьера родственны.
В частности, творчество Боттичелли – одно из доказательств того, что сила не является привлекательной для гуманиста чертой. Это еще у Сенеки было высокомерно сказано: «Сколько бы ни удалось тебе накопить жиру и нарастить мышц, все равно ты не сравняешься ни весом, ни силой с откормленным быком», и сколько же здесь презрения к воинской славе и спортивным свершениям – а гуманисты Возрождения Сенеку любили цитировать. Менее всего портреты гуманистов эпохи Возрождения напоминают образы героев тоталитарных режимов XX века, атлетов Третьего рейха и солдат советского строя. Искусство тоталитарных режимов, воспевая именно воспитание кондотьеров на службе у Родины, ссылалось на наследие античной гармонии и через Античность, будто бы, роднилось с Ренессансом. Это, разумеется, обман. Возрождение училось у Античности, и тоталитарные режимы XX века поглядывали в сторону Античности; это верно. Но герой Возрождения, сколь бы он ни был увлечен греческой философией и культом прекрасного тела, прежде всего – христианин. Гуманисту претит любование мышцами – Микеланджело всю свою энергию потратил на то, чтобы наполнить тела античных атлетов христианским духом. Все эти тупые спортсмены Дейнеки и Брекера не имеют никакого отношения к эстетике Ренессанса, но представляют именно описанных Сенекой откормленных быков, приходящих в неистовство при звуке трубы или охотничьего рожка. Искусство тоталитарных эпох, нерефлексирующее искусство, кондотьерское искусство – никак не связано с гуманизмом; это анти-гуманизм.
Образы героев Боттичелли надменны – нарочно использую этот крайний эпитет, – но они не демонстрируют силы и власти, совсем нет. Это кроткая, неопасная надменность, это даже слабость, но такая обезоруживающая слабость, которая была очевидно явлена в Иисусе.
У Боттичелли даже Марс (см. картину «Венера и Марс») изображен спящим и не особенно могучим. Любовь и интеллектуальное переживание не связаны в представлении Боттичелли с физической силой, а его характерные клубящиеся складки не скрывают мощных тел; это скорее метафора вечно подвижного сознания.
Между подвигом интеллектуальным и подвигом на поле брани – огромная разница. Гуманисты потому и чтили Лоренцо Великолепного (и были влюблены по той же причине в Джулиано), что тот выбрал интеллектуальный подвиг, перевел все свои амбиции властелина в одну-единственную амбицию – быть собеседником философов. Согласно рассказам, даже смертельно больной, правитель Флоренции отходил в мир иной, не прерывая философских дискуссий.
Легкая надломленность, особая хрупкость образов Боттичелли помогает нам ассоциировать эту сухую экстатическую страсть с нашими собственными переживаниями. И то сказать, Боттичелли пришлось пережить самый трагический момент истории Флоренции, осознать хрупкость этого уникального острова гуманизма. Чтобы представить в полной мере самоощущение флорентийского гуманиста, следует вспомнить «Декамерон» Боккаччо: веселые новеллы приятели рассказывают друг другу на вилле, окруженной чумой. Рассказчики закрыты в доме, вокруг которого смерть и спасения нет – и вот, почти лишенные надежды на спасение, они шутят, выстраивают забавные парадоксальные истории, заняты игрой ума. Эта метафора верна для всего флорентийского гуманизма в целом; и, если быть последовательным, верна для определения гуманизма как такового вообще.
Боттичелли повезло (или не повезло, смотря как относиться к испытаниям, выпадающим на долю художника) узнать всю хрупкость флорентийской конструкции: на глазах у него здание зашаталось – и рухнуло. Причем крушение флорентийской синьории не просто описывало обстоятельства жизни мастера, но буквально означало крушение его идеалов. Участник ученых бесед, и если не собеседник, то внимательный слушатель Пико и Фичино, то есть убежденный платоник, художник Сандро Боттичелли подпал под обаяние страстных проповедей феррарского доминиканца Джироламо Савонаролы, ставшего аббатом монастыря Святого Марка во Флоренции. Нет надобности говорить, что доктрина Савонаролы была противоположна фичиновской (неоплатоновской) философии. Джироламо Савонарола был своего рода прото-Лютером; за сто лет до виттенбергского бунтаря он ставил под сомнение авторитет Рима, обличал корыстное духовенство, но основные претензии его были даже не к институту папства – а к искусству, обслуживающему этот институт, этот образ мышления. Савонарола шел дальше – он обличал образ веры гуманизма, самый гуманизм, потеснивший конфессиональную веру и (здесь Савонарола был, разумеется, прав) ставший своего рода новой религией, но не вполне той религией, что называлась христианством вчера. Подобно многим моралистам, Савонарола апеллировал к правильному вчерашнему дню и опровергал модернизации; противником Савонаролы был не папа, не Лоренцо, даже не коррупция и непотизм, не формализм католичества – противником Савонаролы был гуманизм. Монах прозорливо вычленил во флорентийском обществе главное – красоту, которой поклонялись как духовной категории. В эстетике неоплатонизма – красота есть истина, то есть эстетика является и нравственной дисциплиной в том числе. Для канонического христианства это положение немыслимо. В доктрине сурового христианства Савонаролы, прельстительная красота – противоположна духу, противна вере. Идеология неоплатонизма, то, чем дышал и жил двор Флоренции времен Лоренцо, – строилась на понятии «прекрасного» как основе социальной деятельности. Платоновский «Пир» был настольной книгой гуманистов, и ежедневные (это надо представить: именно ежедневные) дискуссии художников и философов создали ту специальную вязкую среду, в которой красивое, правдивое, справедливое и должное – составляло как бы единое целое. Этот платоновский эйдос представить как основу социальной конструкции затруднительно – самому Платону потребовалось для этого нарисовать проект казарменной республики, а как удержать связь красоты и истины в живом и страстном обществе? Конечно, подобная социальная конструкция весьма непрочна: достаточно указать на скотские условия жизни «чомпи» (в ту пору им стало несколько легче), на мизерабельное положение пополанов, увидеть какой ценой добываются богатства синьории – достаточно потянуть за эту нитку, и размотается весь клубок несоответствий. Савонарола именно так и сделал. Монах самым жестоким, хирургическим образом вскрыл противоречие единого флорентийского эйдоса, и разумный мир Лоренцо, в который верил Боттичелли, накренился и рухнул.
Важно здесь то, что Савонарола получил место аббата во Флоренции именно от Лоренцо Великолепного, внявшего рекомендациям философа Пико делла Мирандола, известного своими противоречивыми взглядами. Пико был мастер по части поисков антитез к собственным тезисам – его привлек страстный обличитель роскоши, к которой сам Пико испытывал простительную (как он считал) слабость. Пико был платоником, который расширил понятие эйдоса до включения в изначальную идею творца и доктрины иудаизма, и каббалу, и мистику; спустя век его бы сочли алхимиком. Страсть приезжего аббата показалась ему необходимым компонентом для его смеси – тигель Флоренции, считал Пико, выдержит эту смесь. Приезжий монах был диковинкой, бунтарем против здравого смысла, но бунтарем неопасным – кто опровергнет Платона? Савонарола стал аббатом монастыря Святого Марка; толпы флорентийцев шли на проповеди нового аббата, обличавшие роскошь знати и преступления правителя Лоренцо (таковые имели место – Лоренцо, скажем, растратил деньги сиротского приюта – хотя по меркам Италии тех лет, не говоря уж про современность, эти преступления были незначительными). Проповеди Савонаролы стали своего рода светской модой – богатые умеют сделать модными даже обличения своего богатства. Савонарола говорил с яростью библейского пророка Иезекииля, и для Пико, чтившего Ветхий Завет, его обличающий пафос стал определяющим: светский философ почувствовал бесстрашие пророка. Слова из проповеди Савонаролы «Господь позволил богатому впасть в грех, чтобы тот познал, что он животное» сравнимы по ярости со словами Иезекииля.
Одним из риторических приемов монаха стала подмена понятия «прекрасное» понятием «суета». Прежде во Флоренции беспрестанно использовали слово «красота»; Савонарола поставил на это место слово «суета», и дикость происходящего с маленькой страной, окруженной враждебным миром, не думающей про завтрашний день, стала понятна многим. Флорентийцы и впрямь жили как герои Боккаччо – на горе, отгороженные от чумы непрочной стеной. Савонарола сумел эту стену пробить – жизнь и история хлынули в брешь и затопили Флоренцию.
И вот, именно проповеди Савонаролы сделали противоречия эстетической системы Боттичелли столь болезненно-яркими.
Остается загадкой, почему платоники, облеченные властью, не пресекли разрушительную работу Савонаролы. Макиавелли относил к особенностям характера Лоренцо интерес последнего к язвительным насмешкам в свой адрес; необычное для правителя свойство. Томас Манн в пьесе «Фьоренца» трактует Флоренцию как возлюбленную и Медичи, и Савонаролы, изображает коллизию между Савонаролой и Медичи как соревнование любовников прекрасной дамы, в котором применение власти некорректно. Возможно также, что неоплатоники полагались на заявленное Плотином свойство блага, которое должно отторгнуть внешнее зло – просто по своей природе. Так, Порфирий в биографии Плотина описывает, как умышлявший на Плотина его соперник философ Олимпий испытывал неприятности всякий раз, как плел интригу – зло попросту отторгалось от Плотина, не оказывая вреда, и возвращалось к пославшему его. Возможно, что последователь Плотина флорентиец Фичино, да и Пико с Лоренцо, придерживались этого же соображения.
Исторические события подтвердили плотиновскую идею: Савонарола сам пал жертвой своего натиска; но синьорию Медичи он успел погубить.
4
Важно представить себе, в какой момент интеллектуальной биографии Боттичелли он почувствовал, что здание платонизма шатается.
Сказать о бесстрастной страсти, о чувственной бесчувственности, о целомудренной прельстительности женского образа Боттичелли надо прежде всего потому, что это противоречие описывает глубинное противоречие неоплатонизма: соединение христианства с греческим язычеством. Начало духовное и начало чувственное сплавлены неоплатонизмом воедино – но как быть с образом, долженствующим это слияние воплощать? Сплав язычества и христианской веры в картинах Боттичелли дан столь наглядно, как, вероятно, нигде более. Его идеальная героиня – Мадонна и Венера одновременно; это Венера, которая стала Мадонной – данное утверждение совсем не кажется кощунством, если речь о Боттичелли. Фактически две наиболее христианские его картины, два манифеста христианской веры: «Рождение Венеры» и «Весна» – суть изображение языческих богинь и языческого мировоззрения. Что заставляет нас считать данные картины христианскими, а не языческими? Причиной тому – беззащитность и хрупкость образа, не свойственные античной мифологии; культ античного божества не знает ни страдания, ни, тем более, сострадания и жалости. В Венере (Афродите) нет жалости к малым сим, нет снисхождения к жертвам страстей – и ее сын Эрос тоже не знает жалости. Венера Боттичелли, подобно христианским мученикам, поражает своей уязвимостью, беззащитностью – и одновременно милосердием облика. То, как бережно ступают героини Боттичелли по земле (а они почти парят), это ведь не только характеристика их невесомой, божественной природы – это своего рода деликатность в прикосновении ко всему сущему. Венера движется так аккуратно, чтобы никого не поранить – словно опасаясь неосторожностью своей навредить. Ни смятого цветка, ни потревоженной души – Античность такой образ создать не могла. Эта деликатность образа имеет исключительно христианскую природу; античный мастер не смог бы так написать. Поскольку Марсилио Фичино рекомендовал воспринимать античную богиню Венеру как воплощение категории гуманности, у нас нет даже возможности прочесть картину Боттичелли иначе, чем как иллюстрацию неоплатонизма. Сандро Боттичелли изобразил именно прорастание образа Мадонны (сострадания к миру) из образа языческой любви. Не будет ни в коем случае преувеличением сказать, что это утверждение – кульминационный пункт всего Кватроченто, всего итальянского Возрождения. Боттичелли писал чистыми локальными цветами, не зная ни лессировок сиенской школы (сиенцы славились умением написать тень на розовом лице прозрачной зеленой краской), ни мрачных полутонов венецианцев. Иными словами, его утверждения – говори мы не о живописи, а о философии, мы бы употребили слово «предикаты», а Боттичелли – такой же философ, как и Пико – лапидарны и не допускают двойных толкований. Это не смутные намеки: мол, Венера в чем-то еще и Мадонна. Нет, это совершенно осознанное утверждение – Венера и Мадонна суть одна и та же сущность. Осмелиться на такое заявление могли бы немногие.
Впрочем, Боттичелли пошел дальше.
Его «Весна» (одна из самых сложных картин в истории живописи, наряду с «Менинами» Веласкеса и «Расстрелом» Гойи) выполнена в 1482 году, за десять лет до иллюстраций к «Комедии» Данте. Сказать «самая сложная» – вовсе не означает сказать «не поддающаяся прочтению». Напротив, картина взывает к прочтению, нет такого произведения человеческой мысли, которое нельзя было бы понять. Картина и была многократно трактована, причем как в метафизическом ключе, как и в сугубо социальном (можно узнавать героев: Джулиано Медичи в Меркурии и т. д.). Ниже я предлагаю трактовку, связанную с текстами Платона и Данте, поскольку уверен, что Боттичелли вступил в диалог с ними при создании своей «Примаверы».
На протяжении всего своего творчества флорентийский мастер Боттичелли рассыпал по картинам достаточно много деталей, позволяющих ассоциировать его идеальную платоническую возлюбленную, Венеру и Мадонну в одном лице, с дантовской Беатриче – недостижимой и воплощающей небесную любовь, чистую идею любви.
В картине «Весна» героинь две. Которая из них Весна, сказать с первого взгляда трудно. Собственно языческая богиня Флора (девушка в платье из цветов и трав) изображена как двойник центральной героини, определить которую толкователи затрудняются. Женщины эти схожи лицами до неразличимости – но зритель Боттичелли к этому привык, его героини все имеют одно лицо.