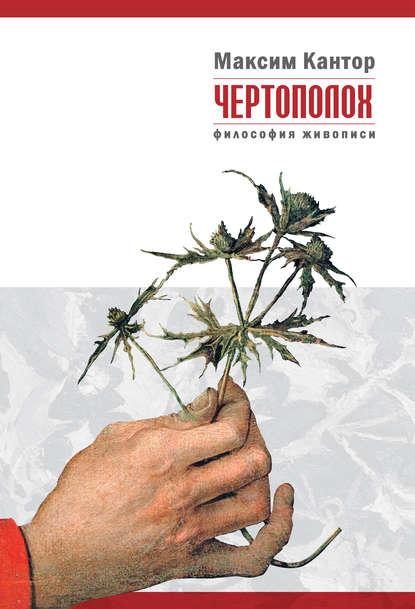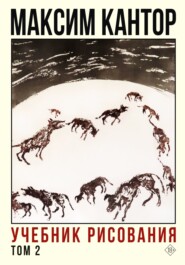По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Чертополох. Философия живописи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Роль семьи играли картины, с которыми мастер не расставался – возил их с собой в багаже, постоянно совершенствуя. Точнее сказать так: поскольку живопись – открытый в будущее бесконечный проект, поскольку занятие живописца суть бесконечное проектирование – то логично продолжать совершенствовать изображение бесконечно. Проектирование остановить нельзя.
В этом смысле чрезвычайно важен леонардовский образ Иоанна Крестителя, женоподобного красавца, который словно заманивает зрителя в проект христианства. Лукавое лицо, почти лицо искусителя, не обещает в будущем ничего хорошего – и, тем не менее, уклониться от христианства не получится. Леонардо изображает всю неотвратимость соблазна христианством; мы уже пошли по этому пути.
Важно то, что в мире, созданном Леонардо да Винчи, в мире, не знающем теней и пронизанном вечным светом, всякий проект ценен. В споре Оксфорда и Сорбонны, в споре номиналистов и реалистов (то есть в противопоставлении фактографии и общего замысла), Леонардо занял совершенно особенное положение – он утвердил решительно всякий факт бытия как проект всего целого. Будь то летательный аппарат, батискаф, рисунок человеческого сердца, портрет Мадонны, принятие христианской доктрины или конструкция дворцовой лестницы – любой из этих ноуменов является феноменальным проектом целостного бытия. Нет служебных дисциплин – но все соединяются в живопись; нет теней – но все сливается в ровно сияющий свет; нет смерти – есть переход в иное, не менее значительное состояние природной жизни.
Андреа Мантенья
1
Врач знает, зачем работает: борется с болезнями. Судья знает, зачем судит: чтобы в обществе была справедливость. И художник должен знать, зачем рисует. Художник превращает красоту в прекрасное, то есть наделяет внешнюю гармонию – сознанием. Мандельштам высказал намерение превратить в прекрасное даже недобрую тяжесть – «из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам». Но, в сущности, все, что признано в обществе красотой, изначально является некрасивым материалом – камень груб, металл жесток, краска пачкает. От усилий творца зависит перевести свойства недоброго материала в категорию прекрасного, то есть одухотворить. Красота не знает, что она прекрасна – художник ее этому знанию обучает.
Платон объяснил, как устроено человеческое сознание: мы припоминаем знания, данные нам изначально; неведомые нам самим знания у нас имеются по причине принадлежности нашего сознания к единому эйдосу.
Платон под словом эйдос понимал нечто вроде «проекта» человечества. Это своего рода «банк данных», коллектор: эйдос – это внутренняя форма мира, конгломерат трансцендентных сущностей.
Процесс припоминания знаний, по Платону, таков: наше сознание подобно пещере, а знания и представления появляются на стенах этой пещеры, словно тени. Мы реагируем на тени, мелькающие на стенах пещеры, мы описываем эти тени, мы придаем им смысл и через метафоры, связанные с этими тенями, возвращаем себе изначальное знание.
Платон говорит, что тени, которые возникают на стенах пещеры, отбрасывают процессии, идущие мимо входа в пещеру.
Что это за процессии, и какого рода тени они отбрасывают, Платон (рассказ ведется от лица Сократа в диалоге «Государство», но придумал эту метафору Платон) не уточняет. Он пишет, что в пещере слышны кимвалы и литавры процессии, вероятно, это шумная и праздничная процессия, но что за праздник, почему шум – ничего не сказано. И крайне любопытно: а сама эта процессия – каким сознанием и знанием обладают ее участники? Но об этом не сказано ни слова.
Интерпретировали метафору пещеры многие. Платон не мог предположить, что в диалог на тему теней в пещере сознания вступит художник. Среди многих участников сократовских диалогов «художника», разумеется, нет; Платон считал, что изобразительное искусство стоит третьим по степени удаленности от информации эйдоса: художник воспроизводит образ стола, который сделал плотник, а идею стола плотник получил от эйдоса.
Время Кватроченто пересмотрело данное положение – центральной фигурой стал именно художник; живопись уравнялась с философией. Интерпретатором (отчасти оппонентом) платоновского взгляда стал прилежный почитатель Античности, мантуанский художник Андреа Мантенья. Свои картины он подписывал «Падуанец», но основным местом его творчества стала Мантуя, где он и написал «Триумфы». Центральным, самым значительным произведением Мантеньи является гигантский полиптих (девять трехметровых холстов), выполненный на тему «Государства» Платона и – поскольку полемика идет на метафизическом уровне – версии возникновения самосознания. Полиптих называется «Триумфы Цезаря», и писал его мастер последние двадцать лет своей жизни.
Замысел был значительным, требовал работы. Однако двадцать лет, даже если припомнить все прецеденты длительных работ, – это нечто из ряда вон выходящее. Мантенья, который был одним из умнейших людей своего времени, конечно же, знал, что делает – и как можно вообразить гения, тратящего двадцать лет времени без продуманного плана? Величайший художник Италии тратит двадцать лет драгоценной, посвященной трудам и бдениям жизни на девять гигантских холстов. Андреа Мантенья был рационален болезненно – поглядите на его сухую, выверенную линию, на его жесткие, предельно скупые образы; это не размытый светом «Руанский собор в полдень», это твердое и лаконичное утверждение.
Мантенья – очень ровный художник; писал только шедевры. Прочих картин довольно для величия; но эта вещь – главная. Вазари называет «Триумфы Цезаря» важнейшим произведением Мантеньи.
Итак, тема – «Государство и сознание гражданина». Можно увидеть в триумфах изображение страт общества. Триумф Цезаря – бесконечная череда рабов и воинов, идущая мимо нас; венчает процессию фигура демиурга, взирающего с высоты пьедестала на покоренные народы и энтузиазм войска. Андреа Мантенья, взяв за отправную точку «Государство» Платона, не собирался быть иллюстратором: художники Возрождения менее всего иллюстраторы. Неоплатоники (Андреа Мантенья был именно неоплатоником) толковали эйдос через понятие Логос – и слово для них имманентно изображению и сущности, они не иллюстраторы, но воплощатели смысла. Искусство Кватроченто (прежде всего живопись, поскольку живопись – центральное из искусств Возрождения) – это инвариант философии.
Микеланджело и Леонардо да Винчи нарисовали концепции бытия, их произведения следует анализировать как философские сочинения; третьим в этом списке стоит Андреа Мантенья, знаток Античности и толкователь Платона.
«Триумфы Цезаря» – наряду с капеллой Микеланджело и «Тайной вечерей» Леонардо – важнейшее произведение итальянского Возрождения, хотя бы по масштабу замысла. Если Микеланджело изобразил генезис истории, Леонардо – трагедию веры, то Мантенья – торжество цивилизации. Он нарисовал общество, а этого не рисовал до него никто. Конечно, Беноццо Гоццоли нарисовал весьма многолюдную процессию («Поклонение волхвов» в капелле Бранкаччи), понятно, что это нобили, даже более или менее представители одного клана. Конечно, Паоло Учелло нарисовал сотни сражающихся людей («Битва при Сан Романо», триптих, сегодня разделенный между Лувром, Лондонской национальной галереей и Уффици), но это все – солдаты; это не общество. Мантенья же изобразил всех, даже представителей различных наций – африканцев, европейцев, азиатов.
На каждом из холстов изображен фрагмент шествия: проходят рабы, воины, пленники, слуги, кони, слоны. Любопытно, что в одной из девяти картин воины несут странные штандарты, на которых нарисованы города (изображения городских планов – один из любимых жанров Кватроченто; возможно, это города, завоеванные победителями), так что даже географически шествие обнимает мир, представляет не город, но империю. К слову, изображения городов напоминают картины Амброджио Лоренцетти, сиенца, который за сто лет до Мантеньи рисовал подобные панорамы. А если это так, то можно вспомнить, что у Лоренцетти есть картина с городской панорамой «Плоды доброго правления» и есть – «Плоды дурного правления». Мимо нас, зрителей, тянется череда изображений городов и шеренга солдат, города штурмовавших. Осадные машины, знамена, оружие, серебряная и медная утварь – все атрибуты славы и силы проносят мимо зрителя. Неостановимый поток движется справа налево – воины гонят рабов, слоны тащат несметные сокровища. Все вместе, девять холстов образуют гигантский фриз наподобие фризов Фидия в Парфеноне. Название «Триумфы Цезаря» не поддается дальнейшей расшифровке – вероятно, имеется в виду одна из галльских побед, но важнее иное – это шествие империи, покорившей мир. Никакому городу-государству из современных Мантенье не под силу было бы такое шествие организовать; в этом отношении можно трактовать «Триумфы» как рассуждение об империи – воспоминание или пророчество. Наиболее точна отсылка к процессии, изображенной Фидием на барельефном фризе Парфенона; скорее всего, парафраз барельефа с южной стены. Желание в живописи создать скульптуру (повторить пафос Фидия) подчеркнуто тем, что Мантенья эскизы выполнял в графике и параллельно писал в монохромной технике гризайли фризы античных сцен, как бы изображая не людей, но шагающие статуи.
Мантенья вообще любил гризайль – для живописца, рисующего цветом, использование гризайли равно включению документа в ткань романа, документальных кадров в игровое кино. Художники Возрождения (причем и Северного возрождения также, можно вспомнить гризайли ван Эйка или Босха) часто обращались к монохромной живописи. Вероятно, здесь имеется несколько объяснений, помимо сугубо технического аспекта ремесла (в гризайли оттачиваешь формальное рисование объема): во-первых, гризайль прямо отсылает к античным образцам. И, во-вторых, рисуя в технике гризайли, художник сознательно снимает эмоциональную окраску события – переводит его в исторический план и уподобляется летописцам: было вот так – я не приукрашиваю. Любопытно, что Мантенья в своих гризайлях применял прием, никому не свойственный и ни у кого более не встречающийся фон картины – пространство за монохромными скульптурными фигурами он изображал в виде скола гранита. Если смотреть на разлом камня, то можно увидеть движения цветовых потоков, всполохи цвета, образованные пластами разных пород, которые напоминают порой зарницы на небе. Так каменная порода стала фоном, изображающим грозовое небо – буквально воплотив метафору «небесная твердь». Этот же прием, срез камня (скорее всего, гранита), использованный как фон картины, встречается также в холсте Жана Фуке «Портрет Этьена Шевалье со святым Стефаном» (1450, Берлинская картинная галерея). В этом случае срез цветного гранита с разводами породы дан над головой казначея Шевалье, представляя инкрустацию дворцовой стены – но и намекая на судьбу святого: Стефан был побит камнями.
Мантенья использует «каменную летопись» сознательно – он уводит библейский или евангельский дискурс в скульптурную античность – просто буквальным приемом.
Уже одной этой (но столь важной!) детали было бы довольно, чтобы понять соединение христианского дискурса с античным сюжетом.
В финальном варианте «Триумфов» Мантенья расцветил скульптуры, но скульптурную природу его персонажи сохранили. Художник точно хотел изобразить не живых людей, а ожившие памятники победе. Эффект живой и в то же время не вполне реальной материи усугубляется тем, что некоторые рабы несут на шестах полный доспех (вероятно, снятый с врага). Эти доспехи совершенно повторяют скульптурные тела, но они пусты – это словно оболочка человека. Так, от панциря человека, через его скульптурное подобие, к живым лицам некоторых рабов – развивается рассказ об обществе победы.
Фигуры нарисованы в натуральный размер – и, когда мы находимся перед тридцатиметровым произведением, возникает эффект «панорамы» – персонажи реально движутся, это вечно длящийся парад победы. Населению империй свойственно любить парады победы – мы чувствуем себя уверенней, если наше государство сильно; вот специально на радость патриотическому обывателю и нарисован вечно длящийся парад. Мало этого, у зрителя есть все основания почувствовать себя включенным в процессию, ощутить, каково это – шагать в триумфе Цезаря (рабом или воином – каждый выбирает роль по вкусу). Мы смотрим на Цезаря снизу вверх, а движение людского потока подхватывает зрителя.
Это произведение масштабом равно «Страшному суду» Микеланджело в том отношении, что оба они касаются всех живущих: мы все предстанем перед Божьим судом, и мы все – земные рабы.
2
Прежде Мантенья писал праведников – Христа, апостолов, мучеников; но последние годы решил истратить на описание триумфа власти, хочется сказать, на изображение суеты. «Слава, купленная кровью», по слову русского поэта, равно порицалась и гуманистами России, и гуманистами Италии, но художник упорно писал, из года в год, опьяненные подобострастием и жаждой внешнего диктата лица. Зачем воины так упоенно маршируют? Зачем рабы покорно гнут шеи? Это же унизительно, абсурдно, жалко! Зачем старик тратит последние годы на изображение глупости?
Изображен парад мощи, демонстрация спеси. Принц датский Гамлет, наблюдая войска Фортинбраса, дефилирующие мимо него на бой, восхитился их решимостью и противопоставил солдатский пыл своей рефлексии («как все кругом меня изобличает и вялую мою торопит месть»); но Гамлет не был бы гуманистом, если бы выбрал путь безрассудного, не поверенного разумом движения вперед. Он – не Фортинбрас, тем и замечателен. И что же сказать о торжестве победителей, о процессии порабощенных народов? Это ведь не войско отважного Фортинбраса, а череда рабов и солдат, несущих тщеславные трофеи. Изображены люди, которые не в силах обособить свое существование от толпы – всех влечет общее движение в строю, им не вырваться из парада суеты.
Если смысл в том, чтобы показать суету триумфа, то это очень небольшой смысл: одного холста хватило бы, чтобы предъявить идиотизм толпы. А двадцать лет и тридцать метров на такое послание истратить жалко. В последующие века многие авторы тратили жизнь на то, чтобы прославить суету и силу, но для Мантеньи это было нетипично. Просидеть полгода над латинским текстом – это понятно, но служить двадцать лет властолюбию ничтожеств он бы не смог.
Кстати, работа написана не на заказ; точнее – не по воле семейства Гонзага, при дворе которых жил Мантенья. Возможно, замысел был согласован со старым Лодовико Гонзага, гуманистом – но тот умер, и длительное создание полиптиха проходило без него. Сын Лодовико, милитаристический Федериго, и внук, Франческо, были от замысла далеки и (судя по побочным свидетельствам) не вполне понимали, о чем идет речь. Портрет Франческо (Мантенья изобразил его в виде воина, предстоящим перед Мадонной) показывает, как художник видел своего нового патрона: молодой человек в латах, с глазами навыкате, энтузиаст; взгляд влажный. Персонаж этот словно сам сошел с холстов «Триумфов Цезаря», он вполне мог бы маршировать в общем строю. Рот воина Франческо приоткрыт, и зритель может рассмотреть мелкие острые зубы.
Это лицо человека, любящего парады победы, непонятно, чем ему могли не понравиться «Триумфы». Но, видимо, он почувствовал подвох. Подвох почувствовали и Стюарты, приобретшие холсты после века забвения: Карл I, купивший картины, и те короли (Стюарты и Виндзоры), что воцарились на английском троне после Славной революции и приняли в наследство живописную коллекцию, картины Мантеньи не только не ценили – но решили удалить из обращения навсегда. «Триумфы» были сняты с подрамника, холсты были сложены вчетверо (!) и хранились в таком виде почти триста лет. Беспримерный акт королевского вандализма длился бы бесконечно, если бы картины не спас (они осыпались и были вульгарно реставрированы) английский ученый Мартиндейл – он же и автор первой книги о «Триумфах», выпущенной (дико произнести дату) только в 1979 году. По сию пору величайшее произведение Возрождения висит не в Лондонской национальной галерее, но в темной оранжерее Хемптон Корта, загородного дворца, до которого никто не доезжает.
Подвох (который чувствовали все владельцы картин) состоит в следующем. Главное, что поражает в «Триумфах», это несвойственный Мантенье мажорный сюжет. Мантенья – не художник победы, он – художник поражения.
Как всякий стоик, как всякий экзистенциалист, рискну сказать – как всякий христианин (поскольку христианская победа возможна лишь смертью смерть поправ), Мантенья изображает не триумфы – но поражения. Сюжеты Мантеньи – всегда сюжеты гибельные: святой Себастьян, мертвый Христос, Распятие, рассказы о мучениях, в которых не может быть внешнего торжества. «Моление о чаше» изображает сон апостолов в Гефсиманском саду, показывает неодолимый сон праведников, который уподобляет сонные тела – телам мертвым; забытье и невозможность противостоять злу, неуслышанная молитва – чаша не миновала.
Триумф – совсем не то, что воспевал Мантенья, он не был энтузиастом массовок и певцом насилия, как Дейнека, или Родченко, или Рифеншталь. Не умел радоваться победе и колонизации; в его время часто случалось так, что синьория разоряла соседний город, города самоутверждались за счет унижения других – такая вульгарная радость ему претила.
Проблема изображения победы вообще стоит перед христианином – как нарисовать победу? Пожар во Флоренции пощадил наше нравственное чувство, и мы сегодня не знаем произведения Боттичелли, написанного после заговора Пацци – Боттичелли написал повешенных на окнах Синьории заговорщиков. Время снисходительно к нам, и мы не знаем холста Веласкеса, который мог бы его опозорить – «Изгнание морисков». Мы можем фантазировать, думать, что сложный композитор Веласкес, умевший системой зеркал и игрой перспективы создать противоречивое произведение, так повернул сюжет, что не оправдал насилие. Но, в принципе, гуманистический художник нарисовать насилие не может, он не имеет на это права. Феррарский собор хранит величайшее произведение Косме (Козимо) Тура – «Битва святого Георгия с драконом», в котором святой Георгий будто бы побеждает Дракона, наносит змею смертельный, победный удар. Однако в жесте рыцаря нет торжества, нет ликования. Рыцарь сражается в неимоверной усталости, движение его руки – это движение очень усталого человека. В качестве параллели к работе Тура уместно вспомнить движение руки кондотьера Гаттамелаты в конной статуе работы Донателло – та же смертельная усталость сковывает руку всадника. Не торжествующий жест, не горделивая осанка, но сутулость и тяжелое движение усталого человека, который не считает военный долг праздником.
Как гуманисту писать триумфальное шествие? Как гуманисту славить торжество? Следующая мысль, которая посещает внимательного зрителя «Триумфов», такова: если изображена победа, то где-то должно быть и поражение. Если нарисовано торжество – где-то спрятано и унижение. Невозможно поработить чужую страну – и испытать при этом набор трубных эмоций: чужая согнутая шея навсегда останется укором. Нельзя написать парад физкультурников, марш победы – чтобы не вспомнить, каково униженным.
Победный гимн Мантенья нарисовать не может. Триумф для него значит нечто иное.
Мантенья исключительное значение придает деталям. Его герой всегда держит рот закрытым. Мантенья изображал не просто сомкнутые, но плотно сжатые уста. Физиогномика у героев Мантеньи примечательная: твердые черты с резко очерченными деталями – крылья носа, морщины, мешки под глазами, надбровные дуги вычерчены так жестко, словно художник работает не кистью, но резцом. (Исключительно важны автопортреты мастера – как живописный, так и скульптурный, барельеф из Сан Андреа в Мантуе.) Жесткость черт передает стоический характер; горе корежит человека, но люди стоят неподвижно, не гнутся. Слово цедится сквозь сжатые губы, люди терпят бытие, не растворяя уст для сетования. Святой Иосиф с берлинской картины «Сретение» так плотно сжал рот, что кажется, закусил губу нарочно, чтобы не исторгнуть слово. Особая тема – младенцы, они у Мантеньи всегда поют или зовут; рот младенцев всегда слегка приоткрыт.
И у Франческо Гонзага влажный рот раскрыт, и мы видим мелкие хищные зубы (зубов у поющего младенца быть не может, зубов мы и не видим, ничего хищного в облике младенцев не наблюдаем – а Франческо опасен).
Примечательно, что за фигурой Франческо Гонзага виден барельеф Адама, надкусывающего яблоко, раскрыв рот, точь-в-точь как Франческо. Мантенья чрезвычайно любит сопоставление скульптуры на втором плане и человеческой фигуры – одно раскрывается через другое, причем неизвестно, что для чего является ключом. Грехопадение Адама, выраженное через жадный укус, возможно, дает ключ к пониманию мимики Франческо Гонзага – а через властителя, в свою очередь, к пониманию структуры власти.
Изобразительное искусство вообще соткано из деталей, причем случайных среди них нет. Образ ткется из сквозных, через века проходящих, рифм, из реплик и ответов на реплики, из замеченного художником в других картинах, из подсмотренного и присвоенного взглядом. Однажды Пикассо выразил эту мысль так: «художник начинает с того, что хочет нарисовать понравившуюся ему картину, а затем создает свое».
Мантенья – художник, изображающий скорбное увядание, стоическое напряжение жилистого, но обреченного человека – это чувство, посетившее мир Европы в конце XV века, свойственно не одному Мантенье. Это разлитое повсеместно чувство близкого конца. Наиболее близок Мантенье в этом отношении феррарский мастер Косме Тура. Его герои своей физиогномикой родственны мантеньевским героям – такие же жилистые, состоящие из костей и сухожилий, нервные, искривленные жизнью. Герои Косме Тура словно напрягают все силы в последнем, невыносимом усилии. Его святой Иероним вздымает камень веры таким обреченным, истовым усилием, что, кажется, в этот жест ушли последние силы – но камень веры он держит. Косме Тура, проведший в отрочестве много лет бок о бок с Мантеньей (они вместе учились у Скварчоне), порой словно договаривает то, о чем Мантенья предпочитает промолчать, сжав губы. Увядание и гибель Тура, Мантенья и несколько других великих мастеров северного Ренессанса описали практически одними средствами – настолько очевидна была проблема, ими описываемая.
Косме Тура писал сведенные судорогой тела, его святые словно бы переживают агонию, столь трагично бытие. Слово «триумф» и живопись Косме Тура были бы несовместимы в принципе. Но и Мантенья создает родственных Тура персонажей – исключительно далеких от триумфальности.
Редкозубая старуха, что стоит рядом с Христом, которого вывели к толпе с петлей на шее (Мантенья, «Се человек», музей Жакмар-Андре в Париже) – эта же старуха потом появится в картине Мантеньи «Мертвый Христос» (галерея Брера, Милан, написана в 1490 г.) – этот персонаж близок эстетике Косме Тура.
Когда старуха изображена у тела Спасителя («Мертвый Христос»), мы вправе спросить: уж не Мария ли это? Что, если Деву так изменило горе, что она у тела сына внезапно и тяжело постарела? В луврской «Пьете» (1478) Косме Тура изображено сведенное смертной судорогой тело Христа и Мадонна с одутловатым, постаревшим лицом, столь несхожая с обликом Девы, привычным нам по раннему Возрождению и картинам южных мастеров. Спустя двадцать лет после старухи Мантеньи (1508) похожую старуху с таким же редкозубым ртом нарисовал венецианец Джорджоне, и если образ старухи Джорджоне принято объяснять как символ бренности красоты, как закат эпохи Ренессанса, то как объяснить неожиданно старую, высохшую в горе Богоматерь? Вообще говоря, Мария и была фактически пожилой женщиной, ей в момент распятия сына, вероятно, было около пятидесяти лет – но, когда Мантенья пишет ее такой, какова она в реальности, он порывает с традицией, изображавшей Деву вечно молодой. Старуха, стоящая за плечом Христа в картине «Се человек», настолько страшна, что признать в ней Марию почти невозможно – но кто она, если не Мария? Оскаленный в безмолвном крике рот – выражение смертного усилия, но и выражение жадности к последним глоткам жизни; мастер наделил этим оскалом и Богородицу, и Франческо Гонзага, и лучника, стреляющего в Себастьяна – что их роднит, если не бренность эпохи? И что же в этом оскале триумфального?
Важно и то, что облик Мадонны у Мантеньи всегда сугубо портретен; это не «идеальный образ» Богоматери, но живая женщина. Даже с младенцем на руках, молодая, еще полная сил, Мадонна Мантеньи никогда не красива дворцовой красотой; мы видим усталую, реально страдающую за ребенка мать. Андреа Мантенья писал Мадонну с собственной жены Николозы (сестры Якопо и Джованни Беллини, к слову сказать); младенец был писан с их младшего сына, с ребенка, который хворал; от этого – та щемящая интонация, которой редко достигали живописцы в изображении Мадонны с младенцем.
Изображение Мадонны старухой естественным образом вытекает из этой концепции живописи. Старуха Джорджоне, и старуха Мантеньи, и старуха Брейгеля – все они очень похожи. То было вошедшее в эстетику позднего Возрождения ощущение смертности, финала. И закатное чувство (не триумфальное нисколько) проходит – пусть лишь как одна из тем картины – сквозь все произведения Мантеньи.
Исключительно важно то, что закат, смерть и финал (в частности, наглядная старость Богоматери) допускают трактовки как христианские, то есть ведущие к воскресению, так и сугубо физиологические: старуха Джорджоне очевидно обречена тлену. Непосредственно перед «Портретом старухи» Брейгель написал «Безумную Грету» (1528), сумасшедшую старуху, которая бредет сквозь разоренные войной города. Черты Греты, ее полуоткрытый в беззубом крике рот нами узнаются легко – это все та же странная старуха Мантеньи – Джорджоне – обитательница североитальянского Кватроченто, не то Богоматерь, не то сумасшедшая нищая.
Это общая – и совсем не триумфальная – тема, она звучит повсеместно, звучит резкой болезненной нотой. Добавим сюда и то, что «Триумфы» пишет старик, по понятиям XV века, дряхлый старец.
Сходство же, а точнее говоря, не сходство, но переклички и сквозные рифмы у разных мастеров – вполне объяснимо. Проблема реплики на чужое произведение для творцов эпохи Кватроченто стоит не менее остро, чем сегодня, когда эстетика постмодерна узаконила заимствования, сделала реминисценции творческим методом.
В этом смысле чрезвычайно важен леонардовский образ Иоанна Крестителя, женоподобного красавца, который словно заманивает зрителя в проект христианства. Лукавое лицо, почти лицо искусителя, не обещает в будущем ничего хорошего – и, тем не менее, уклониться от христианства не получится. Леонардо изображает всю неотвратимость соблазна христианством; мы уже пошли по этому пути.
Важно то, что в мире, созданном Леонардо да Винчи, в мире, не знающем теней и пронизанном вечным светом, всякий проект ценен. В споре Оксфорда и Сорбонны, в споре номиналистов и реалистов (то есть в противопоставлении фактографии и общего замысла), Леонардо занял совершенно особенное положение – он утвердил решительно всякий факт бытия как проект всего целого. Будь то летательный аппарат, батискаф, рисунок человеческого сердца, портрет Мадонны, принятие христианской доктрины или конструкция дворцовой лестницы – любой из этих ноуменов является феноменальным проектом целостного бытия. Нет служебных дисциплин – но все соединяются в живопись; нет теней – но все сливается в ровно сияющий свет; нет смерти – есть переход в иное, не менее значительное состояние природной жизни.
Андреа Мантенья
1
Врач знает, зачем работает: борется с болезнями. Судья знает, зачем судит: чтобы в обществе была справедливость. И художник должен знать, зачем рисует. Художник превращает красоту в прекрасное, то есть наделяет внешнюю гармонию – сознанием. Мандельштам высказал намерение превратить в прекрасное даже недобрую тяжесть – «из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам». Но, в сущности, все, что признано в обществе красотой, изначально является некрасивым материалом – камень груб, металл жесток, краска пачкает. От усилий творца зависит перевести свойства недоброго материала в категорию прекрасного, то есть одухотворить. Красота не знает, что она прекрасна – художник ее этому знанию обучает.
Платон объяснил, как устроено человеческое сознание: мы припоминаем знания, данные нам изначально; неведомые нам самим знания у нас имеются по причине принадлежности нашего сознания к единому эйдосу.
Платон под словом эйдос понимал нечто вроде «проекта» человечества. Это своего рода «банк данных», коллектор: эйдос – это внутренняя форма мира, конгломерат трансцендентных сущностей.
Процесс припоминания знаний, по Платону, таков: наше сознание подобно пещере, а знания и представления появляются на стенах этой пещеры, словно тени. Мы реагируем на тени, мелькающие на стенах пещеры, мы описываем эти тени, мы придаем им смысл и через метафоры, связанные с этими тенями, возвращаем себе изначальное знание.
Платон говорит, что тени, которые возникают на стенах пещеры, отбрасывают процессии, идущие мимо входа в пещеру.
Что это за процессии, и какого рода тени они отбрасывают, Платон (рассказ ведется от лица Сократа в диалоге «Государство», но придумал эту метафору Платон) не уточняет. Он пишет, что в пещере слышны кимвалы и литавры процессии, вероятно, это шумная и праздничная процессия, но что за праздник, почему шум – ничего не сказано. И крайне любопытно: а сама эта процессия – каким сознанием и знанием обладают ее участники? Но об этом не сказано ни слова.
Интерпретировали метафору пещеры многие. Платон не мог предположить, что в диалог на тему теней в пещере сознания вступит художник. Среди многих участников сократовских диалогов «художника», разумеется, нет; Платон считал, что изобразительное искусство стоит третьим по степени удаленности от информации эйдоса: художник воспроизводит образ стола, который сделал плотник, а идею стола плотник получил от эйдоса.
Время Кватроченто пересмотрело данное положение – центральной фигурой стал именно художник; живопись уравнялась с философией. Интерпретатором (отчасти оппонентом) платоновского взгляда стал прилежный почитатель Античности, мантуанский художник Андреа Мантенья. Свои картины он подписывал «Падуанец», но основным местом его творчества стала Мантуя, где он и написал «Триумфы». Центральным, самым значительным произведением Мантеньи является гигантский полиптих (девять трехметровых холстов), выполненный на тему «Государства» Платона и – поскольку полемика идет на метафизическом уровне – версии возникновения самосознания. Полиптих называется «Триумфы Цезаря», и писал его мастер последние двадцать лет своей жизни.
Замысел был значительным, требовал работы. Однако двадцать лет, даже если припомнить все прецеденты длительных работ, – это нечто из ряда вон выходящее. Мантенья, который был одним из умнейших людей своего времени, конечно же, знал, что делает – и как можно вообразить гения, тратящего двадцать лет времени без продуманного плана? Величайший художник Италии тратит двадцать лет драгоценной, посвященной трудам и бдениям жизни на девять гигантских холстов. Андреа Мантенья был рационален болезненно – поглядите на его сухую, выверенную линию, на его жесткие, предельно скупые образы; это не размытый светом «Руанский собор в полдень», это твердое и лаконичное утверждение.
Мантенья – очень ровный художник; писал только шедевры. Прочих картин довольно для величия; но эта вещь – главная. Вазари называет «Триумфы Цезаря» важнейшим произведением Мантеньи.
Итак, тема – «Государство и сознание гражданина». Можно увидеть в триумфах изображение страт общества. Триумф Цезаря – бесконечная череда рабов и воинов, идущая мимо нас; венчает процессию фигура демиурга, взирающего с высоты пьедестала на покоренные народы и энтузиазм войска. Андреа Мантенья, взяв за отправную точку «Государство» Платона, не собирался быть иллюстратором: художники Возрождения менее всего иллюстраторы. Неоплатоники (Андреа Мантенья был именно неоплатоником) толковали эйдос через понятие Логос – и слово для них имманентно изображению и сущности, они не иллюстраторы, но воплощатели смысла. Искусство Кватроченто (прежде всего живопись, поскольку живопись – центральное из искусств Возрождения) – это инвариант философии.
Микеланджело и Леонардо да Винчи нарисовали концепции бытия, их произведения следует анализировать как философские сочинения; третьим в этом списке стоит Андреа Мантенья, знаток Античности и толкователь Платона.
«Триумфы Цезаря» – наряду с капеллой Микеланджело и «Тайной вечерей» Леонардо – важнейшее произведение итальянского Возрождения, хотя бы по масштабу замысла. Если Микеланджело изобразил генезис истории, Леонардо – трагедию веры, то Мантенья – торжество цивилизации. Он нарисовал общество, а этого не рисовал до него никто. Конечно, Беноццо Гоццоли нарисовал весьма многолюдную процессию («Поклонение волхвов» в капелле Бранкаччи), понятно, что это нобили, даже более или менее представители одного клана. Конечно, Паоло Учелло нарисовал сотни сражающихся людей («Битва при Сан Романо», триптих, сегодня разделенный между Лувром, Лондонской национальной галереей и Уффици), но это все – солдаты; это не общество. Мантенья же изобразил всех, даже представителей различных наций – африканцев, европейцев, азиатов.
На каждом из холстов изображен фрагмент шествия: проходят рабы, воины, пленники, слуги, кони, слоны. Любопытно, что в одной из девяти картин воины несут странные штандарты, на которых нарисованы города (изображения городских планов – один из любимых жанров Кватроченто; возможно, это города, завоеванные победителями), так что даже географически шествие обнимает мир, представляет не город, но империю. К слову, изображения городов напоминают картины Амброджио Лоренцетти, сиенца, который за сто лет до Мантеньи рисовал подобные панорамы. А если это так, то можно вспомнить, что у Лоренцетти есть картина с городской панорамой «Плоды доброго правления» и есть – «Плоды дурного правления». Мимо нас, зрителей, тянется череда изображений городов и шеренга солдат, города штурмовавших. Осадные машины, знамена, оружие, серебряная и медная утварь – все атрибуты славы и силы проносят мимо зрителя. Неостановимый поток движется справа налево – воины гонят рабов, слоны тащат несметные сокровища. Все вместе, девять холстов образуют гигантский фриз наподобие фризов Фидия в Парфеноне. Название «Триумфы Цезаря» не поддается дальнейшей расшифровке – вероятно, имеется в виду одна из галльских побед, но важнее иное – это шествие империи, покорившей мир. Никакому городу-государству из современных Мантенье не под силу было бы такое шествие организовать; в этом отношении можно трактовать «Триумфы» как рассуждение об империи – воспоминание или пророчество. Наиболее точна отсылка к процессии, изображенной Фидием на барельефном фризе Парфенона; скорее всего, парафраз барельефа с южной стены. Желание в живописи создать скульптуру (повторить пафос Фидия) подчеркнуто тем, что Мантенья эскизы выполнял в графике и параллельно писал в монохромной технике гризайли фризы античных сцен, как бы изображая не людей, но шагающие статуи.
Мантенья вообще любил гризайль – для живописца, рисующего цветом, использование гризайли равно включению документа в ткань романа, документальных кадров в игровое кино. Художники Возрождения (причем и Северного возрождения также, можно вспомнить гризайли ван Эйка или Босха) часто обращались к монохромной живописи. Вероятно, здесь имеется несколько объяснений, помимо сугубо технического аспекта ремесла (в гризайли оттачиваешь формальное рисование объема): во-первых, гризайль прямо отсылает к античным образцам. И, во-вторых, рисуя в технике гризайли, художник сознательно снимает эмоциональную окраску события – переводит его в исторический план и уподобляется летописцам: было вот так – я не приукрашиваю. Любопытно, что Мантенья в своих гризайлях применял прием, никому не свойственный и ни у кого более не встречающийся фон картины – пространство за монохромными скульптурными фигурами он изображал в виде скола гранита. Если смотреть на разлом камня, то можно увидеть движения цветовых потоков, всполохи цвета, образованные пластами разных пород, которые напоминают порой зарницы на небе. Так каменная порода стала фоном, изображающим грозовое небо – буквально воплотив метафору «небесная твердь». Этот же прием, срез камня (скорее всего, гранита), использованный как фон картины, встречается также в холсте Жана Фуке «Портрет Этьена Шевалье со святым Стефаном» (1450, Берлинская картинная галерея). В этом случае срез цветного гранита с разводами породы дан над головой казначея Шевалье, представляя инкрустацию дворцовой стены – но и намекая на судьбу святого: Стефан был побит камнями.
Мантенья использует «каменную летопись» сознательно – он уводит библейский или евангельский дискурс в скульптурную античность – просто буквальным приемом.
Уже одной этой (но столь важной!) детали было бы довольно, чтобы понять соединение христианского дискурса с античным сюжетом.
В финальном варианте «Триумфов» Мантенья расцветил скульптуры, но скульптурную природу его персонажи сохранили. Художник точно хотел изобразить не живых людей, а ожившие памятники победе. Эффект живой и в то же время не вполне реальной материи усугубляется тем, что некоторые рабы несут на шестах полный доспех (вероятно, снятый с врага). Эти доспехи совершенно повторяют скульптурные тела, но они пусты – это словно оболочка человека. Так, от панциря человека, через его скульптурное подобие, к живым лицам некоторых рабов – развивается рассказ об обществе победы.
Фигуры нарисованы в натуральный размер – и, когда мы находимся перед тридцатиметровым произведением, возникает эффект «панорамы» – персонажи реально движутся, это вечно длящийся парад победы. Населению империй свойственно любить парады победы – мы чувствуем себя уверенней, если наше государство сильно; вот специально на радость патриотическому обывателю и нарисован вечно длящийся парад. Мало этого, у зрителя есть все основания почувствовать себя включенным в процессию, ощутить, каково это – шагать в триумфе Цезаря (рабом или воином – каждый выбирает роль по вкусу). Мы смотрим на Цезаря снизу вверх, а движение людского потока подхватывает зрителя.
Это произведение масштабом равно «Страшному суду» Микеланджело в том отношении, что оба они касаются всех живущих: мы все предстанем перед Божьим судом, и мы все – земные рабы.
2
Прежде Мантенья писал праведников – Христа, апостолов, мучеников; но последние годы решил истратить на описание триумфа власти, хочется сказать, на изображение суеты. «Слава, купленная кровью», по слову русского поэта, равно порицалась и гуманистами России, и гуманистами Италии, но художник упорно писал, из года в год, опьяненные подобострастием и жаждой внешнего диктата лица. Зачем воины так упоенно маршируют? Зачем рабы покорно гнут шеи? Это же унизительно, абсурдно, жалко! Зачем старик тратит последние годы на изображение глупости?
Изображен парад мощи, демонстрация спеси. Принц датский Гамлет, наблюдая войска Фортинбраса, дефилирующие мимо него на бой, восхитился их решимостью и противопоставил солдатский пыл своей рефлексии («как все кругом меня изобличает и вялую мою торопит месть»); но Гамлет не был бы гуманистом, если бы выбрал путь безрассудного, не поверенного разумом движения вперед. Он – не Фортинбрас, тем и замечателен. И что же сказать о торжестве победителей, о процессии порабощенных народов? Это ведь не войско отважного Фортинбраса, а череда рабов и солдат, несущих тщеславные трофеи. Изображены люди, которые не в силах обособить свое существование от толпы – всех влечет общее движение в строю, им не вырваться из парада суеты.
Если смысл в том, чтобы показать суету триумфа, то это очень небольшой смысл: одного холста хватило бы, чтобы предъявить идиотизм толпы. А двадцать лет и тридцать метров на такое послание истратить жалко. В последующие века многие авторы тратили жизнь на то, чтобы прославить суету и силу, но для Мантеньи это было нетипично. Просидеть полгода над латинским текстом – это понятно, но служить двадцать лет властолюбию ничтожеств он бы не смог.
Кстати, работа написана не на заказ; точнее – не по воле семейства Гонзага, при дворе которых жил Мантенья. Возможно, замысел был согласован со старым Лодовико Гонзага, гуманистом – но тот умер, и длительное создание полиптиха проходило без него. Сын Лодовико, милитаристический Федериго, и внук, Франческо, были от замысла далеки и (судя по побочным свидетельствам) не вполне понимали, о чем идет речь. Портрет Франческо (Мантенья изобразил его в виде воина, предстоящим перед Мадонной) показывает, как художник видел своего нового патрона: молодой человек в латах, с глазами навыкате, энтузиаст; взгляд влажный. Персонаж этот словно сам сошел с холстов «Триумфов Цезаря», он вполне мог бы маршировать в общем строю. Рот воина Франческо приоткрыт, и зритель может рассмотреть мелкие острые зубы.
Это лицо человека, любящего парады победы, непонятно, чем ему могли не понравиться «Триумфы». Но, видимо, он почувствовал подвох. Подвох почувствовали и Стюарты, приобретшие холсты после века забвения: Карл I, купивший картины, и те короли (Стюарты и Виндзоры), что воцарились на английском троне после Славной революции и приняли в наследство живописную коллекцию, картины Мантеньи не только не ценили – но решили удалить из обращения навсегда. «Триумфы» были сняты с подрамника, холсты были сложены вчетверо (!) и хранились в таком виде почти триста лет. Беспримерный акт королевского вандализма длился бы бесконечно, если бы картины не спас (они осыпались и были вульгарно реставрированы) английский ученый Мартиндейл – он же и автор первой книги о «Триумфах», выпущенной (дико произнести дату) только в 1979 году. По сию пору величайшее произведение Возрождения висит не в Лондонской национальной галерее, но в темной оранжерее Хемптон Корта, загородного дворца, до которого никто не доезжает.
Подвох (который чувствовали все владельцы картин) состоит в следующем. Главное, что поражает в «Триумфах», это несвойственный Мантенье мажорный сюжет. Мантенья – не художник победы, он – художник поражения.
Как всякий стоик, как всякий экзистенциалист, рискну сказать – как всякий христианин (поскольку христианская победа возможна лишь смертью смерть поправ), Мантенья изображает не триумфы – но поражения. Сюжеты Мантеньи – всегда сюжеты гибельные: святой Себастьян, мертвый Христос, Распятие, рассказы о мучениях, в которых не может быть внешнего торжества. «Моление о чаше» изображает сон апостолов в Гефсиманском саду, показывает неодолимый сон праведников, который уподобляет сонные тела – телам мертвым; забытье и невозможность противостоять злу, неуслышанная молитва – чаша не миновала.
Триумф – совсем не то, что воспевал Мантенья, он не был энтузиастом массовок и певцом насилия, как Дейнека, или Родченко, или Рифеншталь. Не умел радоваться победе и колонизации; в его время часто случалось так, что синьория разоряла соседний город, города самоутверждались за счет унижения других – такая вульгарная радость ему претила.
Проблема изображения победы вообще стоит перед христианином – как нарисовать победу? Пожар во Флоренции пощадил наше нравственное чувство, и мы сегодня не знаем произведения Боттичелли, написанного после заговора Пацци – Боттичелли написал повешенных на окнах Синьории заговорщиков. Время снисходительно к нам, и мы не знаем холста Веласкеса, который мог бы его опозорить – «Изгнание морисков». Мы можем фантазировать, думать, что сложный композитор Веласкес, умевший системой зеркал и игрой перспективы создать противоречивое произведение, так повернул сюжет, что не оправдал насилие. Но, в принципе, гуманистический художник нарисовать насилие не может, он не имеет на это права. Феррарский собор хранит величайшее произведение Косме (Козимо) Тура – «Битва святого Георгия с драконом», в котором святой Георгий будто бы побеждает Дракона, наносит змею смертельный, победный удар. Однако в жесте рыцаря нет торжества, нет ликования. Рыцарь сражается в неимоверной усталости, движение его руки – это движение очень усталого человека. В качестве параллели к работе Тура уместно вспомнить движение руки кондотьера Гаттамелаты в конной статуе работы Донателло – та же смертельная усталость сковывает руку всадника. Не торжествующий жест, не горделивая осанка, но сутулость и тяжелое движение усталого человека, который не считает военный долг праздником.
Как гуманисту писать триумфальное шествие? Как гуманисту славить торжество? Следующая мысль, которая посещает внимательного зрителя «Триумфов», такова: если изображена победа, то где-то должно быть и поражение. Если нарисовано торжество – где-то спрятано и унижение. Невозможно поработить чужую страну – и испытать при этом набор трубных эмоций: чужая согнутая шея навсегда останется укором. Нельзя написать парад физкультурников, марш победы – чтобы не вспомнить, каково униженным.
Победный гимн Мантенья нарисовать не может. Триумф для него значит нечто иное.
Мантенья исключительное значение придает деталям. Его герой всегда держит рот закрытым. Мантенья изображал не просто сомкнутые, но плотно сжатые уста. Физиогномика у героев Мантеньи примечательная: твердые черты с резко очерченными деталями – крылья носа, морщины, мешки под глазами, надбровные дуги вычерчены так жестко, словно художник работает не кистью, но резцом. (Исключительно важны автопортреты мастера – как живописный, так и скульптурный, барельеф из Сан Андреа в Мантуе.) Жесткость черт передает стоический характер; горе корежит человека, но люди стоят неподвижно, не гнутся. Слово цедится сквозь сжатые губы, люди терпят бытие, не растворяя уст для сетования. Святой Иосиф с берлинской картины «Сретение» так плотно сжал рот, что кажется, закусил губу нарочно, чтобы не исторгнуть слово. Особая тема – младенцы, они у Мантеньи всегда поют или зовут; рот младенцев всегда слегка приоткрыт.
И у Франческо Гонзага влажный рот раскрыт, и мы видим мелкие хищные зубы (зубов у поющего младенца быть не может, зубов мы и не видим, ничего хищного в облике младенцев не наблюдаем – а Франческо опасен).
Примечательно, что за фигурой Франческо Гонзага виден барельеф Адама, надкусывающего яблоко, раскрыв рот, точь-в-точь как Франческо. Мантенья чрезвычайно любит сопоставление скульптуры на втором плане и человеческой фигуры – одно раскрывается через другое, причем неизвестно, что для чего является ключом. Грехопадение Адама, выраженное через жадный укус, возможно, дает ключ к пониманию мимики Франческо Гонзага – а через властителя, в свою очередь, к пониманию структуры власти.
Изобразительное искусство вообще соткано из деталей, причем случайных среди них нет. Образ ткется из сквозных, через века проходящих, рифм, из реплик и ответов на реплики, из замеченного художником в других картинах, из подсмотренного и присвоенного взглядом. Однажды Пикассо выразил эту мысль так: «художник начинает с того, что хочет нарисовать понравившуюся ему картину, а затем создает свое».
Мантенья – художник, изображающий скорбное увядание, стоическое напряжение жилистого, но обреченного человека – это чувство, посетившее мир Европы в конце XV века, свойственно не одному Мантенье. Это разлитое повсеместно чувство близкого конца. Наиболее близок Мантенье в этом отношении феррарский мастер Косме Тура. Его герои своей физиогномикой родственны мантеньевским героям – такие же жилистые, состоящие из костей и сухожилий, нервные, искривленные жизнью. Герои Косме Тура словно напрягают все силы в последнем, невыносимом усилии. Его святой Иероним вздымает камень веры таким обреченным, истовым усилием, что, кажется, в этот жест ушли последние силы – но камень веры он держит. Косме Тура, проведший в отрочестве много лет бок о бок с Мантеньей (они вместе учились у Скварчоне), порой словно договаривает то, о чем Мантенья предпочитает промолчать, сжав губы. Увядание и гибель Тура, Мантенья и несколько других великих мастеров северного Ренессанса описали практически одними средствами – настолько очевидна была проблема, ими описываемая.
Косме Тура писал сведенные судорогой тела, его святые словно бы переживают агонию, столь трагично бытие. Слово «триумф» и живопись Косме Тура были бы несовместимы в принципе. Но и Мантенья создает родственных Тура персонажей – исключительно далеких от триумфальности.
Редкозубая старуха, что стоит рядом с Христом, которого вывели к толпе с петлей на шее (Мантенья, «Се человек», музей Жакмар-Андре в Париже) – эта же старуха потом появится в картине Мантеньи «Мертвый Христос» (галерея Брера, Милан, написана в 1490 г.) – этот персонаж близок эстетике Косме Тура.
Когда старуха изображена у тела Спасителя («Мертвый Христос»), мы вправе спросить: уж не Мария ли это? Что, если Деву так изменило горе, что она у тела сына внезапно и тяжело постарела? В луврской «Пьете» (1478) Косме Тура изображено сведенное смертной судорогой тело Христа и Мадонна с одутловатым, постаревшим лицом, столь несхожая с обликом Девы, привычным нам по раннему Возрождению и картинам южных мастеров. Спустя двадцать лет после старухи Мантеньи (1508) похожую старуху с таким же редкозубым ртом нарисовал венецианец Джорджоне, и если образ старухи Джорджоне принято объяснять как символ бренности красоты, как закат эпохи Ренессанса, то как объяснить неожиданно старую, высохшую в горе Богоматерь? Вообще говоря, Мария и была фактически пожилой женщиной, ей в момент распятия сына, вероятно, было около пятидесяти лет – но, когда Мантенья пишет ее такой, какова она в реальности, он порывает с традицией, изображавшей Деву вечно молодой. Старуха, стоящая за плечом Христа в картине «Се человек», настолько страшна, что признать в ней Марию почти невозможно – но кто она, если не Мария? Оскаленный в безмолвном крике рот – выражение смертного усилия, но и выражение жадности к последним глоткам жизни; мастер наделил этим оскалом и Богородицу, и Франческо Гонзага, и лучника, стреляющего в Себастьяна – что их роднит, если не бренность эпохи? И что же в этом оскале триумфального?
Важно и то, что облик Мадонны у Мантеньи всегда сугубо портретен; это не «идеальный образ» Богоматери, но живая женщина. Даже с младенцем на руках, молодая, еще полная сил, Мадонна Мантеньи никогда не красива дворцовой красотой; мы видим усталую, реально страдающую за ребенка мать. Андреа Мантенья писал Мадонну с собственной жены Николозы (сестры Якопо и Джованни Беллини, к слову сказать); младенец был писан с их младшего сына, с ребенка, который хворал; от этого – та щемящая интонация, которой редко достигали живописцы в изображении Мадонны с младенцем.
Изображение Мадонны старухой естественным образом вытекает из этой концепции живописи. Старуха Джорджоне, и старуха Мантеньи, и старуха Брейгеля – все они очень похожи. То было вошедшее в эстетику позднего Возрождения ощущение смертности, финала. И закатное чувство (не триумфальное нисколько) проходит – пусть лишь как одна из тем картины – сквозь все произведения Мантеньи.
Исключительно важно то, что закат, смерть и финал (в частности, наглядная старость Богоматери) допускают трактовки как христианские, то есть ведущие к воскресению, так и сугубо физиологические: старуха Джорджоне очевидно обречена тлену. Непосредственно перед «Портретом старухи» Брейгель написал «Безумную Грету» (1528), сумасшедшую старуху, которая бредет сквозь разоренные войной города. Черты Греты, ее полуоткрытый в беззубом крике рот нами узнаются легко – это все та же странная старуха Мантеньи – Джорджоне – обитательница североитальянского Кватроченто, не то Богоматерь, не то сумасшедшая нищая.
Это общая – и совсем не триумфальная – тема, она звучит повсеместно, звучит резкой болезненной нотой. Добавим сюда и то, что «Триумфы» пишет старик, по понятиям XV века, дряхлый старец.
Сходство же, а точнее говоря, не сходство, но переклички и сквозные рифмы у разных мастеров – вполне объяснимо. Проблема реплики на чужое произведение для творцов эпохи Кватроченто стоит не менее остро, чем сегодня, когда эстетика постмодерна узаконила заимствования, сделала реминисценции творческим методом.