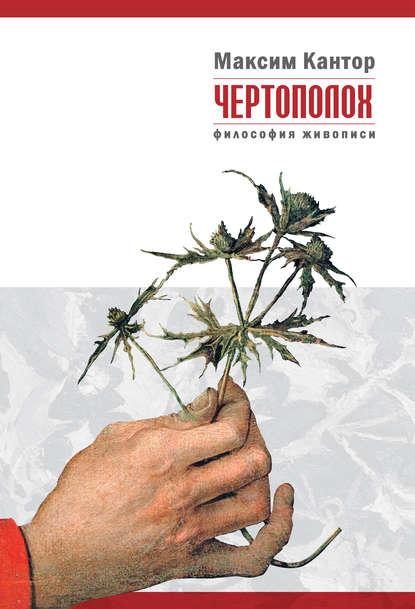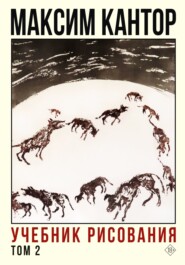По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Чертополох. Философия живописи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
(В скобках, поскольку эта деталь здесь совершенно лишняя, но и упустить ее было бы досадно, скажу, что этот прием многократного воспроизведения одного и того же лица во всех героинях картины повторил бельгийский сюрреалист Поль Дельво. Кстати, даже типаж его дамы чем-то напоминает боттичеллевский. Однако, не обладая внятной этической концепцией, Дельво ничего убедительного из этой галереи тождеств не произвел.)
Итак, возвращаясь к «Весне» – на картине изображены две девушки, схожие как близнецы, они вдвоем представляют идею Весны. Одна из них очевидным образом Флора – и я склонен думать, что вторая, то есть, собственно центральная фигура, та, что задает ритм общему хороводу, – она и есть единственный в своем роде портрет идеальной возлюбленной, той самой Беатриче художника Боттичелли, имени которой мы не знаем. Это, скорее всего, не Симонетта Веспуччи, а была ли внучатая племянница Фи-чино представлена мастеру, достоверно не известно. Однако очевидно то, что изображения дантовской возлюбленной Беатриче – которые Боттичелли оставил десятилетием спустя, иллюстрируя «Рай» Данте (а всякий мастер готовится к главной работе исподволь и задолго) – воспроизводят данную фигуру буквально. Мало этого. Данная картина (как очевидно любому читателю «Рая» Данте) воспроизводит вхождение во второй круг Рая («второе небо», пользуясь объяснениями Беатриче), который патронирует Меркурий. Меркурий и изображен на картине, причем наделен чертами Джулиано Медичи (см. «Поклонение волхвов»), этот персонаж охраняет танец харит.
Итак, изображен второй круг Рая. Второй круг Рая в мифологии Данте – это место для честолюбивых властителей, служащих добру. Простейшее утверждение Боттичелли, влюбленного во Флоренцию Лоренцо, состоит в том, что Флоренция на излете XV века – это и есть второй круг Рая. Хрупкость этого состояния, его фактическая невозможность, мимолетность подчеркнуты фигурой Зефира; бога ветра, и его синее лицо поистине неприятно – дует на хоровод, словно сдувает рай Флоренции с исторической карты. В этой картине – вот что чувствует всякий зритель – разлито предчувствие беды. Сравните «Весну» с «Рождением Венеры», сравните статуарное неколебимое торжество платонизма, явленное в «Венере», со смутным чувством рассвета природы, с ощущением хрупкого Рая «Весны», который может быть сметен в единый миг.
Но, сказав так, мы не имеем права не вернуться к «Рождению Венеры», где тот же сюжет – дующего изо всех сил ветра, грозящего сокрушить Венеру, и сотканной из света и трав женщины (Флоры?), прикрывающей Венеру своим покрывалом наподобие омофора. Ветер (а ветер, судя по раздутым щекам, сильный) не поднимает на море бури и не колеблет раковину, из которой выходит Венера. Поразительно, что Венера появляется перед нами из раковины, причем из раковины Святого Якова Компостельского, символа христианской веры. Боттичелли написал появление Венеры из раковины практически тем же приемом, каким пишут рождение Богоматери из мандорлы; вообще пластический образ мандорлы очень напоминает раковину. Венера, вечно рождающаяся из пены морской – это привычный античный сюжет; Любовь и Гармония, выходящая к нам из лона христианской веры – это уже совсем иной сюжет. Боттичелли изображает именно рождение христианского эйдоса – наподобие платоновского, античного эйдоса – здесь явлен конгломерат понятий: красоты, милосердия, гармонии, любви. И – уж если Томас Манн набрался смелости уподобить Флоренцию прекрасной женщине, отчего бы нам не уподобить прекрасную женщину – Флоренции? Страннейшее сочетание христианской и языческой гармоний, сплавленных в единый сгусток понятий, – это и есть флорентийская утопия. Перед нами не что иное, как рождение идеального общества, общества любви и справедливости – которое недолговечно. Боттичелли изобразил становление прекрасного Золотого века Флоренции, возможность гармонии в обществе.
Сказав так, сошлюсь и на фразу Якоба Буркхардта, считавшего, что города-государства возрожденческой Италии – это «произведения искусства». Вот Боттичелли и изобразил «творение» государства Флоренции, во всей его хрупкости и прелести. Разумеется, Боттичелли всегда жил с предчувствием развязки, и ожидание беды определило характер его линий и пропорций – во всякой, самой радостной его сцене разлита тревога. И эта тревога – подспудная, непроговоренная, но онтологическая, данная по определению недолговечности бытия – уравнивает масштаб картины с масштабом зрителя. Мы не в силах соотнести свою жизнь с масштабами Микеланджело или Джотто, не всякому под силу примерить на себя схождение во Ад или титанизм свершений Сикстинской капеллы; но Боттичелли оставляет зрителю возможность войти в его картины как бы на равных.
Мы и сами – в меру своей разумности – сознаем бренность бытия; Боттичелли сумел сказать, что любовь, данная как высший дар познания, недолговечна. Есть нечто иное, что выживет, но это не любовь. Утверждение странное для платоника, но Боттичелли именно это сказал.
Среди его великих, всем известных картин, есть одна, менее прочих заметная – она называется «Покинутая» – женщина сидит на ступенях римской колоннады и плачет. Что это – утраченная вера, расставание с любимым, осознание недолговечности бытия? Связь душ не может быть прервана; для платоника Марсилио Фичино утверждение «покинутая» звучало бы нелепостью: все связаны со всеми навсегда. Но Боттичелли написал такую картину.
Написана эта вещь в роковом 1495 году; Лоренцо Медичи умер; Флоренция стала страннейшей Республикой Иисуса Христа – областью Италии, управляемой монахом Савонаролой. Обезумевшие горожане жгли манускрипты и картины, объявленные «суетой». Боттичелли в числе прочих безумцев сжег и свои произведения, по счастью, не все. Это торжество христианской веры – и одновременно гибель гуманизма. Великая трагедия европейской цивилизации состоит в том, что гуманизм, выращенный христианством и воспитанный отцами церкви, вступил в непримиримое противоречие с конфессиональной религией. Гуманизм – а через эту доктрину и наследие Античности также – оказался жертвой и религиозных, и националистических, и имперских амбиций Европы. Империи и – сквозь них – национальные государства, которые заявят о себе позже, в XVII веке, росли стремительно – и неоплатонизм был сметен с европейской карты. Тем самым был разрушен великий европейский синтез культур. Вот на ступенях римской колоннады и плачет покинутая женщина. Это – Беатриче. Это – культура гуманизма.
Самому Савонароле оставалось жить недолго. Имперское начало не щадит никого – в том числе и тех не щадит, кто вольно или невольно мостит дорогу имперским войскам. Во Флоренцию вошли войска Карла VIII, Савонарола сумел убедить французов уйти. Но с интригами Ватикана и блокадой Флоренции он не справился: не был дипломатом. Император Максимилиан осадил Ливорно, папа отлучил монаха от церкви, а изгнанные Медичи возбудили нобилей и пополанов, начался голод, народ отвернулся от Савонаролы. Те самые, что когда-то избрали его царем Флоренции, закидали камнями его дом. Республику Иисуса Христа упразднили, а монаха Джироламо Савонаролу судили и сожгли на площади Синьории.
Костер этот наблюдал молодой мыслитель Макиавелли и делал выводы. Сгорел не один Савонарола, великий моралист и безумный провокатор; сгорела культура гуманизма, последним проповедником которой Савонарола и был – просто этого не знал ни он, ни обиженный им Лоренцо Великолепный.
5
Наступало иное время. В новое время Боттичелли был прочно забыт. Забыт ни много ни мало – на четыреста лет. Его произведения вспоминали как третьеразрядные и приписывали случайным, проходным живописцам. Это распыление картин по разным адресам имело последствия даже худшие, нежели просто забвение имени. Боттичелли воскресили из пепла истории в XIX веке, отмыли, изумились, стали картинами опять восторгаться – но, полагаю, часть наследия Боттичелли (того, что считается его наследием сегодня) содержит картины его эпигонов, из тех собраний, к которым были приписаны оригинальные вещи. Боттичелли имел тенденцию стать художником массовых инстинктов (Савонарола его к этому массовому инстинкту и вел); хотя в своих главных вещах – в своей Флорентийской симфонии государству-утопии – Боттичелли стоит неизмеримо выше проповедей Савонаролы. Но в целом доминиканец добился своего: олеографический, декоративный, безличный аспект живописи Боттичелли стал доминировать в его второстепенных работах. А работ первого ряда он уже не писал. Точнее сказать так: наследниками Боттичелли стали, прежде всего, украшатели, воспроизводящие слащавость внешней атрибутики веры. Пафос надменного смирения, который нес художник в своих лучших вещах – утрачен. Слащавость Боттичелли была оторвана от веры, легла в основу (пусть и опосредованно, ведь его картины приписывали иным) маньеризма школы Фонтенбло. Новое обращение к Италии (Россо Фьорентино казалось, что он возвращается к Микеланджело, к эстетике Флоренции) было исключительно манерным. Понторомо стал живописцем, игравшим роль Боттичелли при искусственном «итальяноподобном» дворе Франциска I. Боттичеллевская живопись – один из примеров трагических, обреченных усилий живописца, который говорил много, но услышан не был.
Всякий раз, как хочется упрекнуть Сандро Боттичелли в слащавости, язык отказывается это обвинение выговорить: слишком искренен Боттичелли, слишком прямодушна его слащавость, слишком открыто он выказывает любовь. И это в тот век, когда изощренные упражнения ума (и не ума даже, но эрудированности) выхолостили чувства. У Паскуале Виллари есть поразительный пассаж, описывающий флорентийские нравы: «На лицах, носивших печать проницательности, остроумия и тонкой понятливости, мелькала холодная улыбка превосходства и снисхождения всякий раз, как только они замечали в ком-нибудь увлечение благородными и возвышенными идеями». Фраза эта, легко применимая и к современному постинтеллигентному обществу, объясняет многое в экстатической привязанности Боттичелли к Савонароле.
В Савонароле живописец встретил столь же прямодушного человека, говорящего и живущего исключительно искренне. Более того, Савонарола сделал искренность условием существования эстетической мысли – поворот рассуждения практически кощунственный для Флоренции тех лет.
Колебания натуры Боттичелли – его сомнения в выборе между двором Лоренцо и монастырем Святого Марка, где доминиканец читал проповеди – выявляют существенный аспект живописи, понятой как философский дискурс: утверждение художника, сколь бы изощренно оно ни было (а изощренность требует определенного приема, то есть, искусственности, не-искренности), состоятельно лишь тогда, когда оно предельно сущностно искренне. Таким образом, неискренность ремесла (прием не может быть искренним) зависит от сущностной искренности работы. Интуитивно даже самый неискушенный зритель чувствует, где художник говорит от сердца и где он старается имитировать чувства, фальшивит. Искренность невозможно имитировать. Мы готовы полюбить примитив, несмотря на вульгарное рисование профана, именно за первичность чувств; но нас шокирует, когда примитивист, зная, что наивность нынче в моде, становится более груб, нежели он есть от природы.
Одно из определяющих качеств Возрождения – это первичность чувства, тот градус настоящести, какого не было ни в маньеризме, ни в Барокко, ни в Рококо – это искренность. И, конечно же, искусственность, манерность были заложены еще в самый цветущий период флорентийского Возрождения. Савонарола был первым, кто заметил это двойное дно, эту манерную изнанку ренессансной искренности.
Лоренцо всегда хотел казаться искренним: он отдавал всего себя общению с друзьями и праздникам. Он автор карнавальных песен и одновременно куртуазный любезник; он собеседник Пико и одновременно правитель, неутомимый в пороках, если воспользоваться оборотом Макиавелли. Он искренне любил искусства, но вряд ли Лоренцо Медичи был искренним человеком.
И напротив, Савонарола – человек закона и долга, что оставляет немного места для личной искренности; Савонарола – изощренный полемист, посвящавший практически все свое время разбору текстов святого Фомы и различным толкованиям ангельской жизни (рассказывают, что перед казнью он занимался – вместе с другим осужденным, Фра Доменико – толкованием псалмов). К тому же неверно будет недооценить влияния Фичино на Савонаролу, влияния неоплатонизма, то есть учения во многом умственного, не чувственного. И, однако, сквозь все ухищрения ума в Савонароле пробивается великая воля к первичному ощущению прекрасного – в чем он никогда не сошелся ни с Лоренцо, ни с Фичино.
Савонарола писал так: «В чем состоит красота? В красках? Нет. В линиях? Нет. …Вы видите солнце и звезды; красота их в том, что они имеют свет. Вы видите блаженных духов, красота их – свет. Вы видите Бога, который есть свет. Он – сама красота. Такова же красота мужчины и женщины: чем она ближе к красоте изначальной, тем она больше и совершеннее».
Обратите утверждение «красота есть свет» на картины Боттичелли, прежде чем выносить приговор в слащавости. Свет картин искренен, он непередаваемо трогательно первичен – все ухищрения живописца (а Боттичелли искушенный мастер) направлены на создание света в картине. В «Мадонне с восемью ангелами» из Берлинской картинной галереи Боттичелли доводит заботу о светоносности картины до буквализма – он пронизывает изображение сотней золотых нитей – лучей сияния. Это прием механический, искреннего порыва в нем нет, есть лишь умение и расчет. Однако искренняя страсть к свету расчет делает состоятельным. И действительно, картина Боттичелли источает ровный свет, тихий, не слепящий – но сияющий.
В «Мистическом рождестве» (созданная в 1500 г., уже после гибели Савонаролы, единственная подписанная картина – мы вправе заключить, что подпись означает самоидентификацию с утвержденным в картине), вихревая композиция устроена ярусами. Есть буквальное «восхождение» к небесному метафизическому; это восхождение явлено нам во всех своих ярусах одномоментно, так и Данте видит весь ландшафт разом, хотя тот и расположен концентрическими, восходящими кругами. Можно усмотреть здесь влияние Данте – иллюстрации к «Божественной комедии» выполнялись на протяжении предыдущих пятнадцати лет – и структурирование пространства картины идет сразу в двух направлениях: обычная боттичеллевская взвихренность и типичное дантовское восхождение по спирали вверх. Так возникают ярусы, сопоставимые с кругами Рая; здесь на картине представлено три яруса. Первый – это серафимы – поднятые небесными потоками. Второй ярус – Мария с младенцем и волхвы. Третий ярус – ангелы, выполняющие охранительную функцию: они обнимают сцену Рождества, при этом обнимаются сами, крепость их объятий как бы охраняет младенца и Богоматерь. Перед нами три пары ангелов, вообще все в картине подчинено троичному принципу.
Помимо прочего, имеется любопытнейшая деталь: на первом плане – перед яслями с младенцем и магами, у ног ангелов – в траве прячутся черти; мастер рисовал таких в листах к дантовскому «Аду». Но здесь черти не торжествуют, не ужасают – как пугает, например, дьявол Фра Анджелико или сатана Луки Синьорелли; эти же злокозненные существа побеждены и простерты во прахе. Поразительно, что черти обнаружены художником в Вифлееме, непосредственно перед яслями с младенцем; невиданный для Кватроченто сарказм. То, что Боттичелли впустил в райский сад чертей, роднит его с Босхом – писавшим свой «Сад наслаждений» одновременно – в том же 1500 году. Это у Босха чудища и химеры возникают непосредственно у ног святых, но встретить такую усмешку у прекраснодушного Боттичелли – странно.
В этой рифме Босх-Боттичелли важно не совпадение детали (пусть и ошеломительное), но эстетика Савонаролы, дискурс Савонаролы, проповедь Савонаролы, стоящая за этой картиной Боттичелли и родственная Эразму, земляку Босха, лишь немногими годами младше его.
Проповедь Савонаролы, направленная на переустройство Флоренции (из цикла проповедей на книгу пророка Аггея) звучала в присутствии Боттичелли в ноябре 1494 года – сразу после смерти Пико делла Мирандола, которого перед тем Фра Савонарола успел постричь в доминиканцы. Пико умер 17 ноября, в день вступления французских войск во Флоренцию. За год до того умер Лоренцо Великолепный. За месяц до того изгнан из Флоренции Пьетро Медичи. Мир Флоренции рушится. Боттичелли присутствовал на проповедях Савонаролы еще и потому, что все, кто был ему дорог – ушли, и остался лишь один, непреклонный монах, предложивший свою безмерную любовь взамен всего: денег, славы, жизни, искусства, красоты.
В верхней части картины Боттичелли пишет текст – это небывалое дело для него, как необычна и подпись под картиной. Текст в картине следующий: «Она была написана в конце 1500 года во время беспорядков в Италии, мною, Александром, в половине того периода, в начале которого исполнилась глава XI Святого Иоанна и второе откровение Апокалипсиса, когда Сатана царствовал на земле три с половиной года. По миновании этого срока дьявол снова будет закован, и мы увидим низвергнутым, как на этой картине».
«Три с половиной года после событий» – вряд ли Боттичелли отсчитывал срок со смерти Лоренцо; вероятнее, начинал он счет с 1496 года – с отказа Савонаролы принять кардинальскую шапку в обмен на умеренность критики Рима. Тогда Савонарола сказал так: «Мое чело может увенчать только шапка красной крови», – и не ошибся: в 1497 году его отлучают, затем арестовывают, пытают, в 1498-м вешают и сжигают труп – и вот в 1500-м его ученик Боттичелли пишет «Мистическое Рождество».
Художник помнит проповедь, сказанную в отчаянный момент, проповедь о структуре идеального справедливого правления – мысль Савонаролы такова:
«Мы видим, что вначале истина Христа, когда он родился в яслях, была маленькой; затем, по мере того, как он возрастал, увеличивалась. …О, сколь велико достоинство человека, если подумать, как Бог заботится о нем! Если ты, Флоренция, установишь у себя правление, похожее на небесное, блаженна будешь. На небе есть три иерархии: первая предстоит перед лицом Божьим, предстоит Троице и Богу; в Божественной сущности, она видит все, что нужно делать в этом мире. Вторая иерархия видит, будучи просвещенней первой; третья иерархия видит события и вещи в их частных проявлениях, в силу просвящения высшими иерархиями. Каждая иерархия имеет три чина – в первой – Престолы, Херувимы и Серафимы. Они отвечают за то, чтобы возжечь любовь, и воспламеняют других служением добродетели. Вторая иерархия также имеет три чина: первыми следуют Владычества… они свободны от какого бы то ни было рабства. Силы, подавляющие бесов и прочую нечисть, воздвигающую препятствия добру… далее следуют Власти, которые располагают добрые дела так, чтобы достичь желанной цели. За частностями следит третья иерархия, также имеющая три чина. Это Начала – то есть правители и капитаны над провинциями; следуют за ними Архангелы и Ангелы».
Такая – в три яруса – структура Града Божьего (по Савонароле) может быть полностью скопирована и нашей, земной жизнью.
В картине Боттичелли верхний ряд действительно образуют херувимы и серафимы, исполняющие мистический танец в небесах; ниже, во втором ярусе, собственно сцена Рождества, усложненная сценой поклонения волхвов – Боттичелли так себе и представляет Властителей Силы и Власть – как вавилонских магов и младенца, коего принимают за Царя Иудейского. Наконец, третий, нижний ярус – это Ангелы и Архангелы – причем в трактовке Боттичелли этот защитный пояс (ангелы являют грозную силу) буквально оплетает сцену в яслях. Ангелы же и ниспровергают мелких чертей. Перед нами структура теократии, которая себя осознает как мировая власть, тем самым корреспондируя с дантовской идеей «мировой монархии».
История Флоренции словно развивается по заранее написанному сценарию, настолько события подверстаны друг к другу: умирает Лоренцо Великолепный, и немедленно умирают члены его кружка; причем Пико делла Мирандола умирает молодым, в тридцать два года, и перед смертью умоляет Савонаролу похоронить его тело в монашеском облачении. Пико, свободный дух Флоренции! Настроение города меняется мгновенно: Анджело Полициано умирает, освистанный толпой – баловень общества, он обвинен в отвратительных пороках. Это ведь не просто подробности социальной истории: это физическая смерть «красоты», той Красоты, что была религией, то есть – казалась бессмертной. И странно: отчего Боттичелли не оставил картины «на смерть» Красоты – как оставил он картину о Клевете, например? Художник, персонифицировавший прекрасное в Джулиано Медичи, в Симонетте Веспуччи, в Лоренцо; художник, написавший групповые портреты гуманистов кружка Лоренцо – отчего он не написал реквиема по красоте? Странно, что Боттичелли не оставил портрета Савонаролы, идущего на костер. Но вот «Покинутая» – покинутая Флоренция – и есть искомый реквием. И «Мистическое Рождество» – это завещание художника – утопия республиканского христианского правления, которую он сформулировал перед смертью.
Микеланджело Буонарроти
1
Микеланджело считал себя скульптором, но в зрелые годы принял заказ на роспись потолка Сикстинской капеллы, а еще через двадцать лет, когда ему было шестьдесят два, взялся за роспись алтарной стены капеллы и написал «Страшный суд».
Фрески потолка капеллы – это, конечно, не вполне живопись. Многие называли эту роспись раскрашенными скульптурами и метод работы – методом скульптора. Однако «Страшный суд» – несомненно, великое живописное произведение, композиционно и колористически предвещающее такие шедевры, как гойевское «Чудо святого Исидора», сезанновские «Купальщицы» и «Снятие пятой печати» Эль Греко. Характерно, что Эль Греко в молодости неуважительно высказался о Микеланджело («вероятно, он был хорошим человеком, но был скверным живописцем») – хотя строй его собственных картин именно микеланджеловский; в частности, последние, предсмертные холсты Эль Греко полны заимствований из «Страшного суда», заимствований не прямых, но, так сказать, сущностных. Эльгрековский «Лаокоон» – самая прямая рифма к микеланджеловским фигурам. В «Страшном суде» Микеланджело добился такой плотной цветовой среды ультрамариново-синего космоса, какая возникает только на холстах живописцев. Фреска столь глубокого пространства, как правило, создать технически не может: фреска утверждает плоскость; в известном смысле Микеланджело разрушал плоскость стены капеллы этим цветовым движущимся космосом.
После «Страшного суда» Микеланджело выполнил фрески в капелле Паолине в том же Ватикане. Фреска «Распятие святого Петра» – еще один шаг в сторону станковой живописи. Многоплановая композиция, учитывающая валёры (валёр – изменение цвета в воздушной перспективе, чего фресковая живопись по определению не замечает), стала примером для Рубенса. Принято считать, что Рубенс ориентировался на космические пейзажи Брейгеля, и это, несомненно, так и есть. Однако не подлежит сомнению и тот факт, что «Распятие Петра» входило в список его ориентиров, мы легко найдем картины Рубенса, перекликающиеся с этой фреской. Собственно станковых, тем более масляных, картин Микеланджело не оставил, масляной живописью он не интересовался. Вероятно, он считал масляную живопись – данью светскому и сиюминутному, тогда как он работал для вечности и решал титанические задачи. То немногое, что он сделал на досках – «Святое семейство» (принятое название «Мадонна Дони», находится в Уффици) или «Положение во гроб» (атрибутированое именем Микеланджело совсем недавно, находится в Лондонской национальной галерее) – выполнено кроющей темперой. Как ни странно, но свободу письма мастер обрел во фреске, матовую поверхность которой довел до звучания масляной картины.
Говорить о Микеланджело как о живописце дают основание не столько сами фрески, сколько единство материи, которое образуют скульптурная живопись и живописная скульптура мастера. Собственно говоря, Микеланджело в одиночку выполнил то, о чем грезил всякий деятель высокого Возрождения, – он в одиночку возвел собор, построил здание, выполнив все необходимые работы; причем работы разнопрофильные. Из мрамора и красок, из фигур, нарисованных на бумаге и штукатурке, и фигур, вырубленных в камне, возникает общая субстанция, общее вещество; происходит брожение этого вещества, его самостоятельная органичная жизнь. Так порой обретает собственное субстанциональное существование красочный замес на палитре. Когда художник размешивает выдавленную на палитру краску, создает небывалый цвет, словно взбалтывает цветовое естество, и затем на холсте это цветовое вещество создает образ – в этот момент художник создает не только образ на картине, но и новую субстанцию, небывалый цвет. Так и каменно-фресковая субстанция Микеланджело постоянно пребывает в движении и является оригинальным существом: сама себя вылепливает, перетекает за край предмета, становится то картиной, то фреской, то зданием. Рубенс, а за ним Делакруа, а за ними – Домье и Сезанн переняли у Микеланджело этот клубящийся рисунок, который становится то монохромным, то цветным, то органично превращается в живопись, то каменеет. И мы уже не помним, что именно у Микеланджело нарисовано, а что вырублено из камня.
Микеланджело – мир грандиозных видений,
Где с Гераклами в вихре смешались Христы, —
сказал Бодлер в «Маяках», и ключевое слово здесь «вихрь».
Еще более живописными, нежели фресковая живопись, являются скульптуры Микеланджело к гробнице Юлия II – эти титанические фигуры, выходящие из скал, Бородатый раб, Атлант и Матфей. Все эти фигуры на две трети остались в толще камня, Микеланджело их не освободил от каменного плена. Он любил повторять, что скульптура уже содержится в камне, надо ее просто разглядеть и вызволить из породы, освободить. И в данном случае, он оставлял камень главенствовать над собственно скульптурой. Необработанная масса мрамора, которая скрывает объем, является не скульптурным, но живописным творением – мы любуемся структурой камня, но не его объемом. Необработанный камень выступает в данном случае как золотая тьма Рембрандта, как ночь Караваджо; нешлифованный камень буквально играет роль среды, каковую и пишет усердный живописец, нагнетая мглу в картине. Подобно тому, как герой Рембрандта выплывает к зрителю из густой янтарной мглы, так и герой Микеланджело появляется из необработанной, густой, клубящейся глыбы, словно раздвигая материю природы своим духовным усилием. Это практически повторяет усилие героев Рембрандта (хронологически, разумеется, порядок обратный), пробивающих внутренним светом темноту. Важно и то, что Микеланджело часто оставлял необработанной одну из сторон обнажившейся из камня формы – так, неотшлифованным остается плечо Иосифа Аримафейского в «Пьете». Продолжая аналогию с холстом и красками, это практически буквально передает эффект светотени – герой вышел из мрака, но его черты еще окутывает легкая мгла.
Есть еще важное свойство у этого приема: каменная порода – она как среда, но еще и как история; рождение героя вместе со средой преодолевает историю – герои словно выходят из не обработанной рефлексией истории.
2
Микеланджело был великим Скульптором, великим поэтом, великим живописцем и великим архитектором – все одновременно. Но мало этого – данные дисциплины не просто соседствовали в его работе, они были сплавлены в единый, как сказал бы Платон, эйдос знаний – то есть, существовали сведенные в одну сущность представления о свойствах мира. Микеланджело желал понять целое – хотел узнать, как устроен мир и как организовать его устройство лучше. Чтобы понять, смотреть следовало со всех сторон.
Дар многогранности имел в Средние века особый символ. Рабле, описывая путешествие учеников Пантагрюэля на остров Мидамоти, рассказывает о диковинном звере, которого Пантагрюэль шлет в подарок своему отцу Гаргантюа как олицетворение прекрасного. Этого зверя Пантагрюэль называет «тарант» (в Бестиарии Филиппа Танского «парандр», а Плиний именует его «тарандром»), зверь способен по желанию менять цвета.
Тарант – по виду горный тур с рогами оленя и косматой шерстью медведя. Он меняет цвет произвольно, являясь нам то красным, то синим. Тарант символизирует в средневековой иконографии многогранное творчество.
Собственно, Микеланджело и был таким вот тарантом, меняющим цвета. Любопытно, кстати, что Микеланджело сам никогда ни единого зверя не нарисовал. Он не рисовал ни деревьев, ни птиц, ни зверей. Его страстью было создать человека. Микеланджело, подобно некоторым своим современникам, полагал, что, создав совершенного человека, прояснив проект Бога, можно преобразовать мир, в котором мы живем.
Сегодня эта идея кажется крамольной. Нам видится опасный большевизм в идее улучшить всеобщее бытие. Фразу Маркса о том, что, мол, «прежде философы объясняли мир, а надо бы этот мир переделать», принято цитировать как варварскую. Однако для Микеланджело и его современников в идее переустройства бытия не было ничего особенного. Изменить мир они определенно хотели; более того, мир они, безусловно, меняли. Лютер, Эразм, Мор – были заняты именно тем, что меняли мир, и мир изменялся у них на глазах, следуя их рецептам. Леонардо и Микеланджело были людьми того же калибра – их произведения не есть красивая картина для разглядывания, но план и проект изменения отношения человека к человеку, проекты бытия и истории.
И когда Микеланджело получил заказ на роспись Сикстинской капеллы, он взял его не колеблясь: вот еще одно, на этот раз верное, средство изменить мир – как не воспользоваться. Как известно из биографии Вазари, он вызвал (или они сами вызвались) из Флоренции друзей, специалистов по фресковой технике; несколько мастеров приехали и начали вместе с ним работать. Поразмыслив, Микеланджело велел сбить все написанное с их участием, запер для них двери капеллы и больше не видел друзей никогда. (Существует иная версия рассказа, и сегодня принято считать, что Микеланджело работал не один. Избранная им техника «дневной работы» – ежедневное грунтование фрагмента стены для работы на один день – не позволяет одному человеку и грунтовать, и писать одновременно; впрочем, сил Микеланджело никто вообразить не может.)
Он собирался изменить мир, а помощь в таком ответственном деле не всегда уместна; Микеланджело подошел к потолку, как к огромной книге, которую следует написать для мира. Это не просто очередная книга от пророка Микеланджело (наряду с книгой пророка Даниила или пророка Иезекииля), это анализ всего Завета целиком, это, если угодно, попытка создать третий Завет, новее Нового. Пользуясь метафорой Карла Кантора, «роспись пророка Микеланджело – еще одна, и пока единственная живописная глава Священного Писания».
Микеланджело начал с того, что написал последовательность возникновения человечества – то, как появился человек, как сложилась семья, как образовался род, как родилось государство, почему алчность и агрессия сделали людей врагами и за что люди были наказаны; как народ (это рассказ о народе Израилевом, конечно, но мы воспринимаем фреску как повесть о человеческом роде вообще) находился на краю гибели, как его спасали; притчи рассказаны последовательно. Вообще, потолок капеллы (то есть изложение истории мира) поражает упорядоченностью рассказа. Властвует система – начиная от распределения архитектурных деталей. Микеланджело превратил простой гладкий цилиндрический свод в многосоставное пространство, разбил единую плоскость на несколько компартиментов, «станковых картин» – что дает основания отнести работу к живописной. Художник использовал ложные элементы (пилястры, карнизы и т. п.), нарисованные столь тщательно, что у зрителя создается впечатление архитектурной конструкции, которую трудно охватить взглядом сразу. Мы рассматриваем последовательно сцену за сценой, причем зритель вынужден возвращаться по нескольку раз к одной и той же сцене, поскольку потолок написан как бы исходя из четырех перспектив с единой точкой схода.
Итак, возвращаясь к «Весне» – на картине изображены две девушки, схожие как близнецы, они вдвоем представляют идею Весны. Одна из них очевидным образом Флора – и я склонен думать, что вторая, то есть, собственно центральная фигура, та, что задает ритм общему хороводу, – она и есть единственный в своем роде портрет идеальной возлюбленной, той самой Беатриче художника Боттичелли, имени которой мы не знаем. Это, скорее всего, не Симонетта Веспуччи, а была ли внучатая племянница Фи-чино представлена мастеру, достоверно не известно. Однако очевидно то, что изображения дантовской возлюбленной Беатриче – которые Боттичелли оставил десятилетием спустя, иллюстрируя «Рай» Данте (а всякий мастер готовится к главной работе исподволь и задолго) – воспроизводят данную фигуру буквально. Мало этого. Данная картина (как очевидно любому читателю «Рая» Данте) воспроизводит вхождение во второй круг Рая («второе небо», пользуясь объяснениями Беатриче), который патронирует Меркурий. Меркурий и изображен на картине, причем наделен чертами Джулиано Медичи (см. «Поклонение волхвов»), этот персонаж охраняет танец харит.
Итак, изображен второй круг Рая. Второй круг Рая в мифологии Данте – это место для честолюбивых властителей, служащих добру. Простейшее утверждение Боттичелли, влюбленного во Флоренцию Лоренцо, состоит в том, что Флоренция на излете XV века – это и есть второй круг Рая. Хрупкость этого состояния, его фактическая невозможность, мимолетность подчеркнуты фигурой Зефира; бога ветра, и его синее лицо поистине неприятно – дует на хоровод, словно сдувает рай Флоренции с исторической карты. В этой картине – вот что чувствует всякий зритель – разлито предчувствие беды. Сравните «Весну» с «Рождением Венеры», сравните статуарное неколебимое торжество платонизма, явленное в «Венере», со смутным чувством рассвета природы, с ощущением хрупкого Рая «Весны», который может быть сметен в единый миг.
Но, сказав так, мы не имеем права не вернуться к «Рождению Венеры», где тот же сюжет – дующего изо всех сил ветра, грозящего сокрушить Венеру, и сотканной из света и трав женщины (Флоры?), прикрывающей Венеру своим покрывалом наподобие омофора. Ветер (а ветер, судя по раздутым щекам, сильный) не поднимает на море бури и не колеблет раковину, из которой выходит Венера. Поразительно, что Венера появляется перед нами из раковины, причем из раковины Святого Якова Компостельского, символа христианской веры. Боттичелли написал появление Венеры из раковины практически тем же приемом, каким пишут рождение Богоматери из мандорлы; вообще пластический образ мандорлы очень напоминает раковину. Венера, вечно рождающаяся из пены морской – это привычный античный сюжет; Любовь и Гармония, выходящая к нам из лона христианской веры – это уже совсем иной сюжет. Боттичелли изображает именно рождение христианского эйдоса – наподобие платоновского, античного эйдоса – здесь явлен конгломерат понятий: красоты, милосердия, гармонии, любви. И – уж если Томас Манн набрался смелости уподобить Флоренцию прекрасной женщине, отчего бы нам не уподобить прекрасную женщину – Флоренции? Страннейшее сочетание христианской и языческой гармоний, сплавленных в единый сгусток понятий, – это и есть флорентийская утопия. Перед нами не что иное, как рождение идеального общества, общества любви и справедливости – которое недолговечно. Боттичелли изобразил становление прекрасного Золотого века Флоренции, возможность гармонии в обществе.
Сказав так, сошлюсь и на фразу Якоба Буркхардта, считавшего, что города-государства возрожденческой Италии – это «произведения искусства». Вот Боттичелли и изобразил «творение» государства Флоренции, во всей его хрупкости и прелести. Разумеется, Боттичелли всегда жил с предчувствием развязки, и ожидание беды определило характер его линий и пропорций – во всякой, самой радостной его сцене разлита тревога. И эта тревога – подспудная, непроговоренная, но онтологическая, данная по определению недолговечности бытия – уравнивает масштаб картины с масштабом зрителя. Мы не в силах соотнести свою жизнь с масштабами Микеланджело или Джотто, не всякому под силу примерить на себя схождение во Ад или титанизм свершений Сикстинской капеллы; но Боттичелли оставляет зрителю возможность войти в его картины как бы на равных.
Мы и сами – в меру своей разумности – сознаем бренность бытия; Боттичелли сумел сказать, что любовь, данная как высший дар познания, недолговечна. Есть нечто иное, что выживет, но это не любовь. Утверждение странное для платоника, но Боттичелли именно это сказал.
Среди его великих, всем известных картин, есть одна, менее прочих заметная – она называется «Покинутая» – женщина сидит на ступенях римской колоннады и плачет. Что это – утраченная вера, расставание с любимым, осознание недолговечности бытия? Связь душ не может быть прервана; для платоника Марсилио Фичино утверждение «покинутая» звучало бы нелепостью: все связаны со всеми навсегда. Но Боттичелли написал такую картину.
Написана эта вещь в роковом 1495 году; Лоренцо Медичи умер; Флоренция стала страннейшей Республикой Иисуса Христа – областью Италии, управляемой монахом Савонаролой. Обезумевшие горожане жгли манускрипты и картины, объявленные «суетой». Боттичелли в числе прочих безумцев сжег и свои произведения, по счастью, не все. Это торжество христианской веры – и одновременно гибель гуманизма. Великая трагедия европейской цивилизации состоит в том, что гуманизм, выращенный христианством и воспитанный отцами церкви, вступил в непримиримое противоречие с конфессиональной религией. Гуманизм – а через эту доктрину и наследие Античности также – оказался жертвой и религиозных, и националистических, и имперских амбиций Европы. Империи и – сквозь них – национальные государства, которые заявят о себе позже, в XVII веке, росли стремительно – и неоплатонизм был сметен с европейской карты. Тем самым был разрушен великий европейский синтез культур. Вот на ступенях римской колоннады и плачет покинутая женщина. Это – Беатриче. Это – культура гуманизма.
Самому Савонароле оставалось жить недолго. Имперское начало не щадит никого – в том числе и тех не щадит, кто вольно или невольно мостит дорогу имперским войскам. Во Флоренцию вошли войска Карла VIII, Савонарола сумел убедить французов уйти. Но с интригами Ватикана и блокадой Флоренции он не справился: не был дипломатом. Император Максимилиан осадил Ливорно, папа отлучил монаха от церкви, а изгнанные Медичи возбудили нобилей и пополанов, начался голод, народ отвернулся от Савонаролы. Те самые, что когда-то избрали его царем Флоренции, закидали камнями его дом. Республику Иисуса Христа упразднили, а монаха Джироламо Савонаролу судили и сожгли на площади Синьории.
Костер этот наблюдал молодой мыслитель Макиавелли и делал выводы. Сгорел не один Савонарола, великий моралист и безумный провокатор; сгорела культура гуманизма, последним проповедником которой Савонарола и был – просто этого не знал ни он, ни обиженный им Лоренцо Великолепный.
5
Наступало иное время. В новое время Боттичелли был прочно забыт. Забыт ни много ни мало – на четыреста лет. Его произведения вспоминали как третьеразрядные и приписывали случайным, проходным живописцам. Это распыление картин по разным адресам имело последствия даже худшие, нежели просто забвение имени. Боттичелли воскресили из пепла истории в XIX веке, отмыли, изумились, стали картинами опять восторгаться – но, полагаю, часть наследия Боттичелли (того, что считается его наследием сегодня) содержит картины его эпигонов, из тех собраний, к которым были приписаны оригинальные вещи. Боттичелли имел тенденцию стать художником массовых инстинктов (Савонарола его к этому массовому инстинкту и вел); хотя в своих главных вещах – в своей Флорентийской симфонии государству-утопии – Боттичелли стоит неизмеримо выше проповедей Савонаролы. Но в целом доминиканец добился своего: олеографический, декоративный, безличный аспект живописи Боттичелли стал доминировать в его второстепенных работах. А работ первого ряда он уже не писал. Точнее сказать так: наследниками Боттичелли стали, прежде всего, украшатели, воспроизводящие слащавость внешней атрибутики веры. Пафос надменного смирения, который нес художник в своих лучших вещах – утрачен. Слащавость Боттичелли была оторвана от веры, легла в основу (пусть и опосредованно, ведь его картины приписывали иным) маньеризма школы Фонтенбло. Новое обращение к Италии (Россо Фьорентино казалось, что он возвращается к Микеланджело, к эстетике Флоренции) было исключительно манерным. Понторомо стал живописцем, игравшим роль Боттичелли при искусственном «итальяноподобном» дворе Франциска I. Боттичеллевская живопись – один из примеров трагических, обреченных усилий живописца, который говорил много, но услышан не был.
Всякий раз, как хочется упрекнуть Сандро Боттичелли в слащавости, язык отказывается это обвинение выговорить: слишком искренен Боттичелли, слишком прямодушна его слащавость, слишком открыто он выказывает любовь. И это в тот век, когда изощренные упражнения ума (и не ума даже, но эрудированности) выхолостили чувства. У Паскуале Виллари есть поразительный пассаж, описывающий флорентийские нравы: «На лицах, носивших печать проницательности, остроумия и тонкой понятливости, мелькала холодная улыбка превосходства и снисхождения всякий раз, как только они замечали в ком-нибудь увлечение благородными и возвышенными идеями». Фраза эта, легко применимая и к современному постинтеллигентному обществу, объясняет многое в экстатической привязанности Боттичелли к Савонароле.
В Савонароле живописец встретил столь же прямодушного человека, говорящего и живущего исключительно искренне. Более того, Савонарола сделал искренность условием существования эстетической мысли – поворот рассуждения практически кощунственный для Флоренции тех лет.
Колебания натуры Боттичелли – его сомнения в выборе между двором Лоренцо и монастырем Святого Марка, где доминиканец читал проповеди – выявляют существенный аспект живописи, понятой как философский дискурс: утверждение художника, сколь бы изощренно оно ни было (а изощренность требует определенного приема, то есть, искусственности, не-искренности), состоятельно лишь тогда, когда оно предельно сущностно искренне. Таким образом, неискренность ремесла (прием не может быть искренним) зависит от сущностной искренности работы. Интуитивно даже самый неискушенный зритель чувствует, где художник говорит от сердца и где он старается имитировать чувства, фальшивит. Искренность невозможно имитировать. Мы готовы полюбить примитив, несмотря на вульгарное рисование профана, именно за первичность чувств; но нас шокирует, когда примитивист, зная, что наивность нынче в моде, становится более груб, нежели он есть от природы.
Одно из определяющих качеств Возрождения – это первичность чувства, тот градус настоящести, какого не было ни в маньеризме, ни в Барокко, ни в Рококо – это искренность. И, конечно же, искусственность, манерность были заложены еще в самый цветущий период флорентийского Возрождения. Савонарола был первым, кто заметил это двойное дно, эту манерную изнанку ренессансной искренности.
Лоренцо всегда хотел казаться искренним: он отдавал всего себя общению с друзьями и праздникам. Он автор карнавальных песен и одновременно куртуазный любезник; он собеседник Пико и одновременно правитель, неутомимый в пороках, если воспользоваться оборотом Макиавелли. Он искренне любил искусства, но вряд ли Лоренцо Медичи был искренним человеком.
И напротив, Савонарола – человек закона и долга, что оставляет немного места для личной искренности; Савонарола – изощренный полемист, посвящавший практически все свое время разбору текстов святого Фомы и различным толкованиям ангельской жизни (рассказывают, что перед казнью он занимался – вместе с другим осужденным, Фра Доменико – толкованием псалмов). К тому же неверно будет недооценить влияния Фичино на Савонаролу, влияния неоплатонизма, то есть учения во многом умственного, не чувственного. И, однако, сквозь все ухищрения ума в Савонароле пробивается великая воля к первичному ощущению прекрасного – в чем он никогда не сошелся ни с Лоренцо, ни с Фичино.
Савонарола писал так: «В чем состоит красота? В красках? Нет. В линиях? Нет. …Вы видите солнце и звезды; красота их в том, что они имеют свет. Вы видите блаженных духов, красота их – свет. Вы видите Бога, который есть свет. Он – сама красота. Такова же красота мужчины и женщины: чем она ближе к красоте изначальной, тем она больше и совершеннее».
Обратите утверждение «красота есть свет» на картины Боттичелли, прежде чем выносить приговор в слащавости. Свет картин искренен, он непередаваемо трогательно первичен – все ухищрения живописца (а Боттичелли искушенный мастер) направлены на создание света в картине. В «Мадонне с восемью ангелами» из Берлинской картинной галереи Боттичелли доводит заботу о светоносности картины до буквализма – он пронизывает изображение сотней золотых нитей – лучей сияния. Это прием механический, искреннего порыва в нем нет, есть лишь умение и расчет. Однако искренняя страсть к свету расчет делает состоятельным. И действительно, картина Боттичелли источает ровный свет, тихий, не слепящий – но сияющий.
В «Мистическом рождестве» (созданная в 1500 г., уже после гибели Савонаролы, единственная подписанная картина – мы вправе заключить, что подпись означает самоидентификацию с утвержденным в картине), вихревая композиция устроена ярусами. Есть буквальное «восхождение» к небесному метафизическому; это восхождение явлено нам во всех своих ярусах одномоментно, так и Данте видит весь ландшафт разом, хотя тот и расположен концентрическими, восходящими кругами. Можно усмотреть здесь влияние Данте – иллюстрации к «Божественной комедии» выполнялись на протяжении предыдущих пятнадцати лет – и структурирование пространства картины идет сразу в двух направлениях: обычная боттичеллевская взвихренность и типичное дантовское восхождение по спирали вверх. Так возникают ярусы, сопоставимые с кругами Рая; здесь на картине представлено три яруса. Первый – это серафимы – поднятые небесными потоками. Второй ярус – Мария с младенцем и волхвы. Третий ярус – ангелы, выполняющие охранительную функцию: они обнимают сцену Рождества, при этом обнимаются сами, крепость их объятий как бы охраняет младенца и Богоматерь. Перед нами три пары ангелов, вообще все в картине подчинено троичному принципу.
Помимо прочего, имеется любопытнейшая деталь: на первом плане – перед яслями с младенцем и магами, у ног ангелов – в траве прячутся черти; мастер рисовал таких в листах к дантовскому «Аду». Но здесь черти не торжествуют, не ужасают – как пугает, например, дьявол Фра Анджелико или сатана Луки Синьорелли; эти же злокозненные существа побеждены и простерты во прахе. Поразительно, что черти обнаружены художником в Вифлееме, непосредственно перед яслями с младенцем; невиданный для Кватроченто сарказм. То, что Боттичелли впустил в райский сад чертей, роднит его с Босхом – писавшим свой «Сад наслаждений» одновременно – в том же 1500 году. Это у Босха чудища и химеры возникают непосредственно у ног святых, но встретить такую усмешку у прекраснодушного Боттичелли – странно.
В этой рифме Босх-Боттичелли важно не совпадение детали (пусть и ошеломительное), но эстетика Савонаролы, дискурс Савонаролы, проповедь Савонаролы, стоящая за этой картиной Боттичелли и родственная Эразму, земляку Босха, лишь немногими годами младше его.
Проповедь Савонаролы, направленная на переустройство Флоренции (из цикла проповедей на книгу пророка Аггея) звучала в присутствии Боттичелли в ноябре 1494 года – сразу после смерти Пико делла Мирандола, которого перед тем Фра Савонарола успел постричь в доминиканцы. Пико умер 17 ноября, в день вступления французских войск во Флоренцию. За год до того умер Лоренцо Великолепный. За месяц до того изгнан из Флоренции Пьетро Медичи. Мир Флоренции рушится. Боттичелли присутствовал на проповедях Савонаролы еще и потому, что все, кто был ему дорог – ушли, и остался лишь один, непреклонный монах, предложивший свою безмерную любовь взамен всего: денег, славы, жизни, искусства, красоты.
В верхней части картины Боттичелли пишет текст – это небывалое дело для него, как необычна и подпись под картиной. Текст в картине следующий: «Она была написана в конце 1500 года во время беспорядков в Италии, мною, Александром, в половине того периода, в начале которого исполнилась глава XI Святого Иоанна и второе откровение Апокалипсиса, когда Сатана царствовал на земле три с половиной года. По миновании этого срока дьявол снова будет закован, и мы увидим низвергнутым, как на этой картине».
«Три с половиной года после событий» – вряд ли Боттичелли отсчитывал срок со смерти Лоренцо; вероятнее, начинал он счет с 1496 года – с отказа Савонаролы принять кардинальскую шапку в обмен на умеренность критики Рима. Тогда Савонарола сказал так: «Мое чело может увенчать только шапка красной крови», – и не ошибся: в 1497 году его отлучают, затем арестовывают, пытают, в 1498-м вешают и сжигают труп – и вот в 1500-м его ученик Боттичелли пишет «Мистическое Рождество».
Художник помнит проповедь, сказанную в отчаянный момент, проповедь о структуре идеального справедливого правления – мысль Савонаролы такова:
«Мы видим, что вначале истина Христа, когда он родился в яслях, была маленькой; затем, по мере того, как он возрастал, увеличивалась. …О, сколь велико достоинство человека, если подумать, как Бог заботится о нем! Если ты, Флоренция, установишь у себя правление, похожее на небесное, блаженна будешь. На небе есть три иерархии: первая предстоит перед лицом Божьим, предстоит Троице и Богу; в Божественной сущности, она видит все, что нужно делать в этом мире. Вторая иерархия видит, будучи просвещенней первой; третья иерархия видит события и вещи в их частных проявлениях, в силу просвящения высшими иерархиями. Каждая иерархия имеет три чина – в первой – Престолы, Херувимы и Серафимы. Они отвечают за то, чтобы возжечь любовь, и воспламеняют других служением добродетели. Вторая иерархия также имеет три чина: первыми следуют Владычества… они свободны от какого бы то ни было рабства. Силы, подавляющие бесов и прочую нечисть, воздвигающую препятствия добру… далее следуют Власти, которые располагают добрые дела так, чтобы достичь желанной цели. За частностями следит третья иерархия, также имеющая три чина. Это Начала – то есть правители и капитаны над провинциями; следуют за ними Архангелы и Ангелы».
Такая – в три яруса – структура Града Божьего (по Савонароле) может быть полностью скопирована и нашей, земной жизнью.
В картине Боттичелли верхний ряд действительно образуют херувимы и серафимы, исполняющие мистический танец в небесах; ниже, во втором ярусе, собственно сцена Рождества, усложненная сценой поклонения волхвов – Боттичелли так себе и представляет Властителей Силы и Власть – как вавилонских магов и младенца, коего принимают за Царя Иудейского. Наконец, третий, нижний ярус – это Ангелы и Архангелы – причем в трактовке Боттичелли этот защитный пояс (ангелы являют грозную силу) буквально оплетает сцену в яслях. Ангелы же и ниспровергают мелких чертей. Перед нами структура теократии, которая себя осознает как мировая власть, тем самым корреспондируя с дантовской идеей «мировой монархии».
История Флоренции словно развивается по заранее написанному сценарию, настолько события подверстаны друг к другу: умирает Лоренцо Великолепный, и немедленно умирают члены его кружка; причем Пико делла Мирандола умирает молодым, в тридцать два года, и перед смертью умоляет Савонаролу похоронить его тело в монашеском облачении. Пико, свободный дух Флоренции! Настроение города меняется мгновенно: Анджело Полициано умирает, освистанный толпой – баловень общества, он обвинен в отвратительных пороках. Это ведь не просто подробности социальной истории: это физическая смерть «красоты», той Красоты, что была религией, то есть – казалась бессмертной. И странно: отчего Боттичелли не оставил картины «на смерть» Красоты – как оставил он картину о Клевете, например? Художник, персонифицировавший прекрасное в Джулиано Медичи, в Симонетте Веспуччи, в Лоренцо; художник, написавший групповые портреты гуманистов кружка Лоренцо – отчего он не написал реквиема по красоте? Странно, что Боттичелли не оставил портрета Савонаролы, идущего на костер. Но вот «Покинутая» – покинутая Флоренция – и есть искомый реквием. И «Мистическое Рождество» – это завещание художника – утопия республиканского христианского правления, которую он сформулировал перед смертью.
Микеланджело Буонарроти
1
Микеланджело считал себя скульптором, но в зрелые годы принял заказ на роспись потолка Сикстинской капеллы, а еще через двадцать лет, когда ему было шестьдесят два, взялся за роспись алтарной стены капеллы и написал «Страшный суд».
Фрески потолка капеллы – это, конечно, не вполне живопись. Многие называли эту роспись раскрашенными скульптурами и метод работы – методом скульптора. Однако «Страшный суд» – несомненно, великое живописное произведение, композиционно и колористически предвещающее такие шедевры, как гойевское «Чудо святого Исидора», сезанновские «Купальщицы» и «Снятие пятой печати» Эль Греко. Характерно, что Эль Греко в молодости неуважительно высказался о Микеланджело («вероятно, он был хорошим человеком, но был скверным живописцем») – хотя строй его собственных картин именно микеланджеловский; в частности, последние, предсмертные холсты Эль Греко полны заимствований из «Страшного суда», заимствований не прямых, но, так сказать, сущностных. Эльгрековский «Лаокоон» – самая прямая рифма к микеланджеловским фигурам. В «Страшном суде» Микеланджело добился такой плотной цветовой среды ультрамариново-синего космоса, какая возникает только на холстах живописцев. Фреска столь глубокого пространства, как правило, создать технически не может: фреска утверждает плоскость; в известном смысле Микеланджело разрушал плоскость стены капеллы этим цветовым движущимся космосом.
После «Страшного суда» Микеланджело выполнил фрески в капелле Паолине в том же Ватикане. Фреска «Распятие святого Петра» – еще один шаг в сторону станковой живописи. Многоплановая композиция, учитывающая валёры (валёр – изменение цвета в воздушной перспективе, чего фресковая живопись по определению не замечает), стала примером для Рубенса. Принято считать, что Рубенс ориентировался на космические пейзажи Брейгеля, и это, несомненно, так и есть. Однако не подлежит сомнению и тот факт, что «Распятие Петра» входило в список его ориентиров, мы легко найдем картины Рубенса, перекликающиеся с этой фреской. Собственно станковых, тем более масляных, картин Микеланджело не оставил, масляной живописью он не интересовался. Вероятно, он считал масляную живопись – данью светскому и сиюминутному, тогда как он работал для вечности и решал титанические задачи. То немногое, что он сделал на досках – «Святое семейство» (принятое название «Мадонна Дони», находится в Уффици) или «Положение во гроб» (атрибутированое именем Микеланджело совсем недавно, находится в Лондонской национальной галерее) – выполнено кроющей темперой. Как ни странно, но свободу письма мастер обрел во фреске, матовую поверхность которой довел до звучания масляной картины.
Говорить о Микеланджело как о живописце дают основание не столько сами фрески, сколько единство материи, которое образуют скульптурная живопись и живописная скульптура мастера. Собственно говоря, Микеланджело в одиночку выполнил то, о чем грезил всякий деятель высокого Возрождения, – он в одиночку возвел собор, построил здание, выполнив все необходимые работы; причем работы разнопрофильные. Из мрамора и красок, из фигур, нарисованных на бумаге и штукатурке, и фигур, вырубленных в камне, возникает общая субстанция, общее вещество; происходит брожение этого вещества, его самостоятельная органичная жизнь. Так порой обретает собственное субстанциональное существование красочный замес на палитре. Когда художник размешивает выдавленную на палитру краску, создает небывалый цвет, словно взбалтывает цветовое естество, и затем на холсте это цветовое вещество создает образ – в этот момент художник создает не только образ на картине, но и новую субстанцию, небывалый цвет. Так и каменно-фресковая субстанция Микеланджело постоянно пребывает в движении и является оригинальным существом: сама себя вылепливает, перетекает за край предмета, становится то картиной, то фреской, то зданием. Рубенс, а за ним Делакруа, а за ними – Домье и Сезанн переняли у Микеланджело этот клубящийся рисунок, который становится то монохромным, то цветным, то органично превращается в живопись, то каменеет. И мы уже не помним, что именно у Микеланджело нарисовано, а что вырублено из камня.
Микеланджело – мир грандиозных видений,
Где с Гераклами в вихре смешались Христы, —
сказал Бодлер в «Маяках», и ключевое слово здесь «вихрь».
Еще более живописными, нежели фресковая живопись, являются скульптуры Микеланджело к гробнице Юлия II – эти титанические фигуры, выходящие из скал, Бородатый раб, Атлант и Матфей. Все эти фигуры на две трети остались в толще камня, Микеланджело их не освободил от каменного плена. Он любил повторять, что скульптура уже содержится в камне, надо ее просто разглядеть и вызволить из породы, освободить. И в данном случае, он оставлял камень главенствовать над собственно скульптурой. Необработанная масса мрамора, которая скрывает объем, является не скульптурным, но живописным творением – мы любуемся структурой камня, но не его объемом. Необработанный камень выступает в данном случае как золотая тьма Рембрандта, как ночь Караваджо; нешлифованный камень буквально играет роль среды, каковую и пишет усердный живописец, нагнетая мглу в картине. Подобно тому, как герой Рембрандта выплывает к зрителю из густой янтарной мглы, так и герой Микеланджело появляется из необработанной, густой, клубящейся глыбы, словно раздвигая материю природы своим духовным усилием. Это практически повторяет усилие героев Рембрандта (хронологически, разумеется, порядок обратный), пробивающих внутренним светом темноту. Важно и то, что Микеланджело часто оставлял необработанной одну из сторон обнажившейся из камня формы – так, неотшлифованным остается плечо Иосифа Аримафейского в «Пьете». Продолжая аналогию с холстом и красками, это практически буквально передает эффект светотени – герой вышел из мрака, но его черты еще окутывает легкая мгла.
Есть еще важное свойство у этого приема: каменная порода – она как среда, но еще и как история; рождение героя вместе со средой преодолевает историю – герои словно выходят из не обработанной рефлексией истории.
2
Микеланджело был великим Скульптором, великим поэтом, великим живописцем и великим архитектором – все одновременно. Но мало этого – данные дисциплины не просто соседствовали в его работе, они были сплавлены в единый, как сказал бы Платон, эйдос знаний – то есть, существовали сведенные в одну сущность представления о свойствах мира. Микеланджело желал понять целое – хотел узнать, как устроен мир и как организовать его устройство лучше. Чтобы понять, смотреть следовало со всех сторон.
Дар многогранности имел в Средние века особый символ. Рабле, описывая путешествие учеников Пантагрюэля на остров Мидамоти, рассказывает о диковинном звере, которого Пантагрюэль шлет в подарок своему отцу Гаргантюа как олицетворение прекрасного. Этого зверя Пантагрюэль называет «тарант» (в Бестиарии Филиппа Танского «парандр», а Плиний именует его «тарандром»), зверь способен по желанию менять цвета.
Тарант – по виду горный тур с рогами оленя и косматой шерстью медведя. Он меняет цвет произвольно, являясь нам то красным, то синим. Тарант символизирует в средневековой иконографии многогранное творчество.
Собственно, Микеланджело и был таким вот тарантом, меняющим цвета. Любопытно, кстати, что Микеланджело сам никогда ни единого зверя не нарисовал. Он не рисовал ни деревьев, ни птиц, ни зверей. Его страстью было создать человека. Микеланджело, подобно некоторым своим современникам, полагал, что, создав совершенного человека, прояснив проект Бога, можно преобразовать мир, в котором мы живем.
Сегодня эта идея кажется крамольной. Нам видится опасный большевизм в идее улучшить всеобщее бытие. Фразу Маркса о том, что, мол, «прежде философы объясняли мир, а надо бы этот мир переделать», принято цитировать как варварскую. Однако для Микеланджело и его современников в идее переустройства бытия не было ничего особенного. Изменить мир они определенно хотели; более того, мир они, безусловно, меняли. Лютер, Эразм, Мор – были заняты именно тем, что меняли мир, и мир изменялся у них на глазах, следуя их рецептам. Леонардо и Микеланджело были людьми того же калибра – их произведения не есть красивая картина для разглядывания, но план и проект изменения отношения человека к человеку, проекты бытия и истории.
И когда Микеланджело получил заказ на роспись Сикстинской капеллы, он взял его не колеблясь: вот еще одно, на этот раз верное, средство изменить мир – как не воспользоваться. Как известно из биографии Вазари, он вызвал (или они сами вызвались) из Флоренции друзей, специалистов по фресковой технике; несколько мастеров приехали и начали вместе с ним работать. Поразмыслив, Микеланджело велел сбить все написанное с их участием, запер для них двери капеллы и больше не видел друзей никогда. (Существует иная версия рассказа, и сегодня принято считать, что Микеланджело работал не один. Избранная им техника «дневной работы» – ежедневное грунтование фрагмента стены для работы на один день – не позволяет одному человеку и грунтовать, и писать одновременно; впрочем, сил Микеланджело никто вообразить не может.)
Он собирался изменить мир, а помощь в таком ответственном деле не всегда уместна; Микеланджело подошел к потолку, как к огромной книге, которую следует написать для мира. Это не просто очередная книга от пророка Микеланджело (наряду с книгой пророка Даниила или пророка Иезекииля), это анализ всего Завета целиком, это, если угодно, попытка создать третий Завет, новее Нового. Пользуясь метафорой Карла Кантора, «роспись пророка Микеланджело – еще одна, и пока единственная живописная глава Священного Писания».
Микеланджело начал с того, что написал последовательность возникновения человечества – то, как появился человек, как сложилась семья, как образовался род, как родилось государство, почему алчность и агрессия сделали людей врагами и за что люди были наказаны; как народ (это рассказ о народе Израилевом, конечно, но мы воспринимаем фреску как повесть о человеческом роде вообще) находился на краю гибели, как его спасали; притчи рассказаны последовательно. Вообще, потолок капеллы (то есть изложение истории мира) поражает упорядоченностью рассказа. Властвует система – начиная от распределения архитектурных деталей. Микеланджело превратил простой гладкий цилиндрический свод в многосоставное пространство, разбил единую плоскость на несколько компартиментов, «станковых картин» – что дает основания отнести работу к живописной. Художник использовал ложные элементы (пилястры, карнизы и т. п.), нарисованные столь тщательно, что у зрителя создается впечатление архитектурной конструкции, которую трудно охватить взглядом сразу. Мы рассматриваем последовательно сцену за сценой, причем зритель вынужден возвращаться по нескольку раз к одной и той же сцене, поскольку потолок написан как бы исходя из четырех перспектив с единой точкой схода.