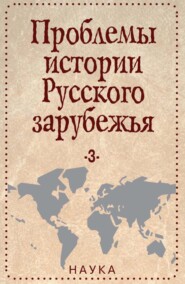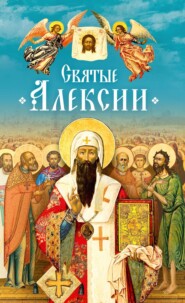По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
«И вечной памятью двенадцатого года…»
Автор
Год написания книги
2013
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Послание «К Дашкову» будет написано чуть позже, через несколько месяцев, под впечатлением трех (1812–1813) посещений разоренной и сожженной Москвы. Однако письмо можно рассматривать как своеобразный прозаический набросок будущего стихотворения: точные и емкие поэтические формулы еще не вызрели, но уже определился его пафос, эмоциональная доминанта, обусловленные личным потрясением поэта – очевидца событий, что подчеркнуто многократно повторенным глаголом видел:
Мой друг! я видел море зла
И неба мстительного кары:
Врагов неистовых дела,
Войну и гибельны пожары.
Я видел сонмы богачей,
Бегущих в рубищах издранных!
Я видел бледных матерей,
Из милой родины изгнанных!
Я на распутье видел их,
Как, к персям чад прижав грудных,
Они в отчаяньи рыдали
И с новым трепетом взирали
На небо рдяное кругом[141 - Батюшков К. Н. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1964 (далее цитируетя по этому изданию с указанием страниц в тексте).].
Это настойчиво звучащее я видел, четырежды (как и в цитировавшемся выше отрывке из письма) повторенное, подчеркивает авторскую установку на достоверность изображаемого. Об этой достоверности свидетельствуют воспоминания современников:
…все было в пламени. Вся полоса воздуха над городом превратилась в огненную массу, которая изрыгала горящие головешки; а вследствие расширения воздуха от теплоты буря еще более усиливалась; никогда небо в своем гневе не являло людям зрелища ужаснее этого!
…был самый жесточайший пожар; весь город был объят пламенем, горели храмы Божии, превращались в пепел великолепные здания и домы; отцы и матери кидались в пламя, чтобы спасти погибающих детей, и делались жертвою их нежности. Жалостные вопли их заглушались только шумом ужаснейшего ветра и обрушением стен. Все было жертвою огня[142 - Цит. по: Катаев И. М. Пожар Москвы // Отечественная война и русское общество Т. 4. URL: http://www.museum.ru/1812/library/sitin/book4_10.html.].
На эффект достоверности работает не только реальность события, которое становится источником переживания в стихотворении, но и некоторые детали его текста. Это, во-первых, реальность адресата: Дмитрий Васильевич Дашков (1784 –1839) – литератор-карамзинист, один из основоположников «Арзамаса», впоследствии министр юстиции, приятель Батюшкова. Во-вторых, упоминающийся «израненный герой» – генерал А. Н. Бахметьев (1774–1841), отличившийся в Бородинском сражении, где он был тяжело ранен. Батюшков был зачислен адъютантом к Бахметьеву, но из-за болезни последнего он, как известно, во время Заграничного похода русской армии стал адъютантом генерала Н. Н. Раевского, прославленного героя Отечественной войны 1812 г., при котором «с лишком одиннадцать месяцев» поэт был «неотлучен, спал и ел при нем»[143 - См.: Батюшков К. Н. Чужое – мое сокровище [Из записной книжки 1817 г.] // Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1978. С. 412–416.].
Вместе с тем отмеченный повтор (я видел) сообщает необыкновенную экспрессию, динамизм лирическому переживанию, вызываемому стихотворением. Силу эмоционального воздействия этого повтора ясно ощутил чуткий профессиональный читатель А. С. Пушкин, оставивший на полях личного экземпляра «Опытов в стихах и прозе» Батюшкова, где было опубликовано «К Дашкову», против строк: «Я видел бледных матерей… Я на распутье видел их…» – помету: «прекрасное повторение»[144 - Пушкин А. С. Заметки на полях 2-й части «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Т. 7. М.; Л., 1951. С. 580.].
Столь сильный эмоциональный посыл, заданный с самого начала взволнованным обращением Мой друг! (далее еще дважды повторенным) и отмеченным выше многократным повтором (я видел), поддержан и усилен анафорическим началом последующих строк:
Трикраты с ужасом потом
Бродил в Москве опустошенной,
..................
Трикраты прах ее священный
Слезами скорби омочил, —
которое становится устойчивым, определяя напряженно-экспрессивный интонационный рисунок стихотворения («подвижность» благодаря пиррихиям – чередованию мужских и женских клаузул четырехстопного ямба – играет здесь не последнюю роль):
И там, где зданья величавы…
И там, где с миром почивали…
И там, где роскоши рукою…
(с. 153)
Лишь угли, прах и камней горы,
Лишь груды тел кругом реки,
Лишь нищих бледные полки…
(с. 154)
Это нарастание лирического волнения, чему способствует прием стилистической градации, призвано передать состояние лирического героя стихотворения: с современниками говорит очевидец «ужасных происшествий»: это перед его глазами проходят «сонмы богачей» в «рубищах издранных», целые толпы людей, «из милой родины изгнанных»; это он видел рыдающих матерей, в «отчаянье» прижимающих к «персям» «чад грудных»; это он «слезами скорби омочил» оскверненные святыни «златоглавой» Москвы[145 - Прочитав строки: «И там, где с миром почивали / Останки иноков святых / И мимо веки протекали, / Святыни не касаясь их…», Пушкин, не скрывая своего восторга, напишет на полях «Опытов…»: «прелесть» (Пушкин А. С. Заметки на полях… С. 580).]. Это трагедия не просто Москвы, но всей России.
Масштабность этой трагедии подчеркнута предельной обобщенностью, максимализацией образов, призванных передать не столько конкретные реалии войны, сколько характер и силу переживания, носителем которого является лирический субъект, не отделяющий себя от народа (именно это дает ему право на высокую скорбную патетику): «море зла», «неба мстительного кары», «гибельны пожары» (не «пожар», а именно «пожары» – так усиливается ощущение беды, катастрофы), «сонмы богачей», «угли, прах и камней горы», «груды тел кругом реки», «нищих бледные полки». Дважды появляющийся в стихотворении образ неба – не просто живописная деталь в картине московского пожара («небо рдяное кругом»), но и символ возмездия, кары (неба мстительного кары). Кому и за что грозит «небо» своими «карами»?
Приведем в этой связи комментарий дореволюционного исследователя к стихотворению священника М. Аврамова «Москва, оплакивающая бедствия свои», написанному в 1812 г.:
Обрисовав с большой силой, с прочувствованными подробностями бедствия Москвы, автор представляет ее «в образе вдовицы», которая в своей покаянной речи резко обличает социальную неправду, истинную причину отяготевшей над нею казни Божией: она задремала «на лоне ложных благ», «корысть» стала ее «душой»; повсюду «лесть медоточная и хитрое притворство, вина общественных неисцелимых ран»; повсюду «наглость, варварство, ложь, клеветы, обман»:
Обман между родных – обман между друзьями,
Между супругами, между сынов с отцами,
Обман на торжищах, в судах и вкруг царей,
Обман в святилищах, – обман у алтарей…
<…> Любовь была забыта, и вместе с ней «пало основанье, которое одно дел добрых держит зданье». Взамен воцарилось «самолюбие жестокое, слепое»… Вот почему Бог прогневался на Россию и «мечом врага стал действовать над вашими сердцами…
Стихотворение оканчивается призывом к исправлению и надеждой на Бога:
Бог прах одушевит – от Бога все возможно[146 - См.: Сидоров Н. П. Отечественная война в русской лирике [Электронный ресурс]. URL: http://www.museum.ru/museum/1812/Library/sitin/book5_10.html (дата обращения: 15.01.2013).].
По мнению Н. В. Фридмана, стихотворение Батюшкова «лишено всяких следов религиозно-монархической тенденциозности, которая была характерна для отношения консервативных кругов к событиям 1812 г. и отчасти отразилась даже в знаменитом патриотическом хоре Жуковского “Певец во стане русских воинов” с его прославлением “царского трона” и “русского бога”». В послании «К Дашкову», считает исследователь, Батюшков выступает «как рядовой русский человек, испытывающий чувство гнева против иноземных захватчиков»[147 - Фридман Н. В. К. Н. Батюшков [вступ. ст.] // Батюшков К. Н. Полное собрание стихотворений. С. 33.]. В стихотворении Батюшкова действительно нет прямых отсылок к Богу, нет прямых указаний на истинную причину беды, постигшей Москву и Россию. Однако напоминание о «мстительных карах» может прочитываться как наказание свыше. Не только врагам за их «неистовые дела», но и людям вообще за их грехи в соответствии с библейским «Мне отмщение, и Аз воздам». Небесные «мстительные кары» – это гнев Божий, выраженный в подтексте стихотворения призыв поэта обратить внутренний взор на самих себя, покаяться и очиститься, чтобы сплотиться перед лицом народного бедствия. Так возникает вневременной общечеловеческий план, в контекст которого вводится изображаемое событие (чем также подчеркивается его масштабность) – пожар и разорение Москвы. А значит, усложняется идейное содержание стихотворения.
И тогда лирический герой Батюшкова – уже не рядовой русский человек, разделяющий со всеми чувство гнева «против иноземных захватчиков», – он поэт, присваивающий себе высокое право говорить от имени своих соотечественников, выражая общие для всех чувства. Именно романтическое понимание высокой миссии поэта заставляет лирического субъекта в годину суровых для России испытаний пересмотреть свои прежние эстетические принципы. Он осознает, что сейчас не время «петь любовь и радость, / Беспечность, счастье и покой», не время «сзывать пастушек в хоровод» «на голос мирныя цевницы». С легкой руки В. Г. Белинского, за Батюшковым закрепилась слава «беспечного поэта-мечтателя, философа-эпикурейца, жреца любви, неги и наслаждения»[148 - Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина // Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. Т. 7. М., 1955. С. 240.]. Таким его воспринимали и современники[149 - «Философ резвый и пиит, / Парнасский счастливый ленивец, / Харит изнеженный любимец, / Наперсник милых аонид!» – восклицал Пушкин в стихотворении «К Батюшкову» (1814), обращаясь к своему старшему товарищу по музам (Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 1. С. 69).]. И хотя этот стереотип нимало не соответствовал реальному облику поэта, тем не менее, и сам Батюшков поддерживал его своими стихами[150 - «Когда жизнь наша скоротечна, / Когда радость здесь не вечна, / То лучше в жизни петь, плясать, / Искать веселья и забавы / И мудрость с шутками мешать, / Чем, бегая за дымом славы, / От скуки и забот зевать» (Совет друзьям [1806], С. 76).].
Общенародная трагедия заставит певца беспечной радости, каким был «довоенный» Батюшков, осознать себя поэтом- гражданином. Его лирический герой «при страшном зареве столицы» произносит священную клятву:
Нет, нет! пока на поле чести
За древний град моих отцов
Не понесу я в жертву мести
И жизнь, и к родине любовь;
Пока с израненным героем,
Кому известен к славе путь,
Три раза не поставлю грудь
Перед врагом сомкнутым строем, —
Мой друг, дотоле будут мне
Все чужды музы и хариты,
Венки, рукой любови свиты,
И радость шумная в вине!
(с. 154)
Снова повторенное (дважды) эмоционально-напряженное «Нет, нет!..» («Нет, нет! талант погибни мой…», «Нет, нет! пока на поле чести…»), акцентированное своим заметным положением в начале стихотворной строки и сверхсхемным ударением (спондеем), «отяжеляющим» ритм стиха, говорит о силе чувства, которое испытывает «сейчас» лирический герой – alter ego автора. И это не столько спор с «Дашковым» – адресатом послания («А ты, мой друг, товарищ мой, / Велишь мне петь любовь и радость, / Беспечность, счастье и покой /, И шумную за чашей младость!»), сколько спор с самим собой прежним. Это диалог скорее внутренний, передающий сложность и противоречивость состояния лирического героя, изживающего себя прежнего, осознающего истинное предназначение поэта. «Стоящее» за лирическим переживанием подлинное переживание самого Батюшкова сообщает стихотворению жизненную убедительность и достоверность.
Стихотворение имеет астрофическую композицию. Отсутствие «дробления» на поэтические «отрезки» призвано подчеркнуть искренность и непосредственность свободно выражающегося чувства лирического субъекта. Диалогизированный монолог лирического героя звучит с нарастающим напряженным динамизмом, словно произносится «на одном дыхании», в самый кульминационный момент переживаемого эмоционального подъема.
Созданию этого ощущения способствует и синтаксическая организация стихотворения, которая характеризуется обилием восклицательных предложений (9), отмеченных повышенной экспрессивностью. Причем их количество нарастает по мере нарастания волнения лирического героя. Если условно выделить части в стихотворении, то это будет выглядеть так: описание «опустошенной» пожаром Москвы – 2 восклицательных предложения; спор с другом Дашковым – 3; клятва – 4. И без того напряженную интонацию стихотворения затрудняют сложные синтаксические конструкции. Двумя особенно сложными конструкциями интонационно подчеркнуты наиболее значимые в смысловом отношении части поэтического текста: описание оскверненных «святыней» Москвы (16 стихотворных строк!), «клятва» (12 строк) – здесь голос лирического субъекта поднимается до самых высоких нот.
Формально в стихотворении выдержаны признаки дружеского послания: указан адресат в заглавии стихотворении, трижды звучит в тексте обращение к нему (Мой друг!..; А ты, мой друг, товарищ мой…; Мой друг…). Не вызывает сомнение и диалогическая природа стихотворения – главный жанровый признак послания (диалог-спор с адресатом, как уже было отмечено выше, осложнен внутренний диалогом лирического героя с самим собой). И вместе с тем в сборнике «Опыты в стихах и прозе» послание «К Дашкову» помещено не в разделе «Послания», как следовало бы ожидать, а в разделе «Элегии». Известно, что подготовкой к изданию «Опытов…», вышедших в 1817 г., по которым современный читатель впервые получил наиболее полное представление о поэте, занимался Н. И. Гнедич. Доверяя художественному вкусу своего друга, поэта и знатока Гомера (Гнедич – автор знаменитого перевода «Илиады», 1809–1829 гг.), Батюшков при этом настаивал на строгом отборе: в «Опыты…» должны были войти только самые лучшие его произведения («Дряни не печатай. Лучше мало, да хорошо» – постоянная его просьба к Гнедичу)[151 - Цит. по: Семенко И. М. Батюшков и его «Опыты» // Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. С. 476–480.]. Но именно Батюшков отказался от распространенного тогда хронологического принципа расположения стихотворений в книге, предпочтя жанровую рубрикацию: «Элегии», «Послания», «Смесь». Не без ведома автора «К Дашкову» оказалось в разделе «Элегии».
По справедливому утверждению И. М. Семенко, «лирика Батюшкова – лирика жанровая»[152 - Там же. С. 482.]. Поэт мыслил жанрами и, разумеется, отличал послание от элегии. Однако для Батюшкова важнее диалогической природы жанра (а именно она вообще-то и делает послание посланием) оказывается выразившаяся в стихотворении «К Дашкову» личная патетика, обусловленная глубоко серьезным (без тени свойственной традиционному дружескому посланию шутливо-домашней, по определению Пушкина, «болтовни», без «домашней» семантики слова, понятной только узкому кругу посвященных – друзей-единомышленников) отношением к предмету «разговора».
Многочисленные стихотворные отклики того времени с их готовыми поэтическими формулами и риторическими штампами вторили правительственным манифестам:
К мечам! вперед! блажен трикраты,
Кто первый смертью упредит!