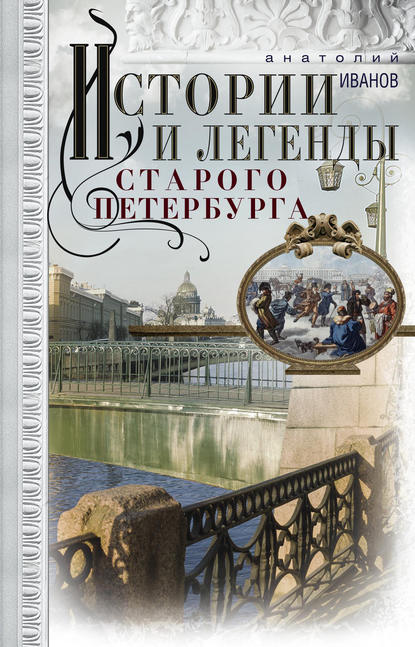По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Истории и легенды старого Петербурга
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Помимо немецких ремесленников, обитавших в центральных, густонаселенных кварталах Петербурга, в окрестностях столицы с давних пор селились немцы-колонисты, занимавшиеся сельскохозяйственным трудом, но жившие такими же обособленными сообществами, как и первые. Когда и почему они там появились?
Немецкие колонии под Петербургом
14 октября 1762 года Екатерина II издала указ, которым предписывала Сенату без «дальнейшего доклада» и излишних формальностей позволять всем желающим иностранцам селиться в России. Особым манифестом от 4 декабря того же года им жаловались всевозможные льготы, а в скором времени «Санкт-Петербургские ведомости» оповестили всех заинтересованных о том, что «Ее Императорское Величество указать соизволила, выходящим разного звания на поселение в Россию иностранным людям, позволить жить с приезду их сюда по 2 недели без всякого платежа за постой в доме Далмана, состоящем в Миллионной улице (ныне дом № 32. – Л. И.), дабы таковые приезжающие сюда иностранные на перьвой случай имели пристанище, равным образом и в здешнюю таможню предписано, дабы оная при самом таковых чужестранных приезде о том им объявляла» (Санкт-Петербургские ведомости. 1763. № 56).
Для «опекунства иностранных» была заведена особая канцелярия, разместившаяся в купленном для нее доме, ранее принадлежавшем барону Черкасову (наб. р. Мойки, 12).
Столь трогательная забота объяснялась просто: императрица надеялась, что прибывшие в Россию иноземцы (преимущественно немцы) научат ее подданных тому, как надо правильно вести хозяйство и обрабатывать землю. Будущее показало, что расчеты государыни не оправдались: колонисты, освобожденные на несколько лет от всяких податей и наделенные достаточным количеством земли, действительно привели свои наделы в цветущее состояние, но при этом сохранили полную культурную и этническую обособленность, никак не влияя на соседствовавших с ними русских мужичков, находившихся в совершенно иных экономических и социальных условиях.
Первыми прибыли в Петербург 60 семейств из Бранденбурга и Вюртемберга; они обосновались на правом берегу Невы, создав там колонию, которую русские именовали Ново-Саратовской, а сами немцы – «колонией шестидесяти». Вслед за ней в окрестностях столицы возникло еще несколько немецких поселений; одной из самых известных была колония в Стрельне, образованная в 1810–1812 годах и состоявшая из двух деревень – Нейдорф и Нейгаузен. Колонисты пользовались покровительством великого князя Константина Павловича, которому принадлежала в то время Стрельна.
П.П. Свиньин в своих «Достопамятностях Петербурга и его окрестностей» так описывает положение переселенцев: «В продолжение первых 10 лет они не платят никаких податей, по прошествии же сего времени должны вносить поземельные пошлины, каковые платят вообще живущие около Петербурга колонисты. Они находятся в весьма хорошем состоянии, ибо имеют случай выгодно продавать на самом месте все хозяйственные произведения свои… Удобрение же покупают весьма сходною ценою от находящейся здесь кавалерии. Колония сия имеет еще пред прочими преимущество в удобном разделении домов и выгодном местоположении… Чистая речка и большая Рижская дорога, усаженная березами, идущая через деревни сии, придают много приятности и живости сему поселению. Можно сказать также, что Стреленские жители весьма довольны их соседством, ибо теперь всегда имеют свежие продукты, в коих прежде всегда нуждались».
К началу XX века число пригородных немецких колоний достигло девяти; помимо Ново-Саратовской и Стрельнинской к ним добавились еще Шуваловская, Петергофская, Кронштадтская, Средне-Рогатская, Колпинская, Кипенская и Гражданка. Последняя, по утверждению «Географическо-статистического словаря Российской империи», возникла в 1830 году и, в отличие от русской деревни с тем же названием, именовалась Немецкой Гражданкой.
Немецкая колония в Стрельне. Начало XX в.
Колонисты, наряду с охтянами, поставляли в столицу молочные продукты, а также картофель и прочие плоды земные. Известный петербургский публицист А. Бахтиаров писал в 1903 году: «Колонист тщательно выбрит, одежда у него немецкого покроя, а колонистки являются в город, на рынок, в неизбежных чепчиках – такого своеобразного фасона, по которому вы сразу отличите их от чухонок… Фасон чепчика, вывезенного некогда из своего отечества, колонистка строго сохраняет и передает из поколения в поколение, как наследие старины, своим дочерям…Как-то раз летом я проезжал по Муринскому шоссе с одним колонистом из деревни Гражданка. Небольшая немецкая деревушка по первому же впечатлению носит следы довольства и благополучия. Дома – довольно большие, в два этажа, верхний – холодный, обшитые тесом, впереди небольшой садик, в котором разбиты клумбы с цветами. Все дома выстроены по одному типу: с неизбежными двумя балконами по фасаду. Заборы и палисадники, выкрашенные белой краской, стоят прямо, ровно, точно вытянулись в струнку. Свои чистенькие домики колонисты сдают на лето внаем петербургским дачникам».
Потомки немецких поселенцев сберегли не только фасоны одежды своего бывшего отечества, но и язык его, в том самом виде, в каком он был вывезен их предками. В этом отношении их судьба схожа с судьбой русских староверов, бежавших от преследования властей за океан, в Америку или Канаду, и до сих пор изъясняющихся на старинном, давно вышедшем из употребления диалекте. Немецкая колония Гражданка в районе нынешнего огромного жилмассива существовала до самой Великой Отечественной войны; в путеводителе по Ленинграду 1933 года о ней говорится, что до наших дней она сохранила «свой язык, обычаи и несколько замкнутый образ жизни». Война с фашистской Германией положила конец существованию немецких поселений в окрестностях нашего города.
Кроме немцев в Петербурге проживало также немало англичан, по большей части купцов; некоторые из них содержали «аглинские» магазины, торговавшие модными галантерейными товарами и сыгравшие не последнюю роль в развитии у русской публики вкуса к добротным и красивым вещам.
«Все, чем для прихоти обильной…»
Средоточием расселения английских граждан в Петербурге была Английская набережная; вначале она звалась Нижней (в отличие от Верхней – нынешней Дворцовой), затем Галерной, а с 1804 года за ней официально закрепилось название Английская, наиболее точно отражавшее ее специфику. Здесь издавна существовали английская церковь и английский трактир; недоставало только английского магазина. И он появился. Правда, в отличие от церкви и трактира он был предназначен не столько для англичан, сколько для русских.
В 1784 году купец Джон Пикерсгиль открыл на Галерной набережной (участок дома № 26) магазин и в том же году поместил в «Санкт-Петербургских ведомостях» такое объявление: «В Аглинской лавке у купца Пикерсгиля, живущего у Галерного двора в доме под № 221, продаются разные новомодные товары за сходную цену, как то: разные чулочные бумажные и гарусные материи, шляпы мужские и женские, чулки, стеганые одеялы, выбойка, ситец, сукна, канифас, флер, ленты, ковры, самой лучшей доброты атлас, кисея, бархат, камзолы и бахромки первых аглинских фабрик».
Невский проспект, дом № 1. Начало XX в.
На первых порах магазин еще именуется лавкой, да и сам выбор товаров не поражает изысканностью и обилием. Но почин уже сделан. Спустя год в большом каменном доме, незадолго до того построенном купцом Гейденрейхом на углу Невского проспекта, «насупротив Адмиралтейства», где уже помещался к тому времени трактир «Лондон» (Невский пр., 1), открывается «новый Аглинской Магазейн», в котором продаются «всякие наилучшие аглинские товары за умеренную цену». Правда, просуществовав всего пять лет, он уступил место «Немецкой лавке», оповещавшей, однако, что в ней «продаются аглинские белые лайковые перчатки». Очевидно, марка английских изделий пользовалась уже в то время непререкаемым авторитетом.
А тем временем Пикерсгиль, поторговав два года, решил перебраться поближе к центру и к русскому покупателю. Продав дом на набережной, он приобретает другой, на Невском проспекте (№ 14), а сам уезжает в Англию, оставив вместо себя заместителя. Об этом мы узнаем из напечатанного им объявления: «Аглинской купец Пикерсгиль… в скором времени намерен отсюда отъехать в Англию;…также объявляет он, что чрез короткое время новая его лавка по Невской преспективе в скором времени открыта будет… Торг в оной лавке именем его, Пикерсгиля, или жены его произведен будет».
В 1786 году английский магазин Пикерсгиля открывается, но не в его доме, а в смежном, на углу Невского и Большой Морской (№ 16/7), где ему и суждено было, меняя владельцев, оставаться около ста лет.
Невский проспект, дом № 16. Начало XX в.
К концу XVIII века в Петербурге существовал уже четыре английских магазина. Кроме известного нам заведения Пикерсгиля (в 1791-м оно перешло к Гою и Беллису) открылись магазины в доме графини Матюшкиной (ул. Малая Морская, 4), в доме Вольного экономического общества (Невский пр., 2) и на 1-й линии Васильевского острова. Интересно, что три из них, не опасаясь конкуренции, расположились буквально в нескольких десятках метров друг от друга. Это говорит о том, сколь велик был спрос на иностранные, в особенности английские, товары.
Постепенно вкусы богатой столичной публики утончались, росло ее стремление к роскоши, соответственно чему менялся и ассортимент английских магазинов. Как известно, кабинет Онегина украшало «все, чем для прихоти обильной торгует Лондон щепетильный и по балтическим волнам за лес и сало возит нам». Слово «щепетильный» употреблено здесь в своем первоначальном, прямом значении применительно к товару и подразумевает в данном случае драгоценные мелочи, безделушки, продававшиеся в тех же «аглинских» магазинах, к усладе светских щеголей и щеголих. Надо признать, что английские и вообще иностранные магазины внесли немаловажный вклад в европеизацию русской торговли, в постепенное освобождение ее от таких допотопных приемов, как назойливое зазывание покупателей, обмер, обсчет, запрашивание вчетверо и впятеро против настоящей цены, – словом, от всего того, что веками процветало в торговых рядах.
Поговорив о петербургских немцах и англичанах, перейдем к другим материям. Для начала побываем в одном из тихих уголков бывшей Литейной части – в Гусевом переулке, что даст нам повод затронуть тему о старинных названиях и о том, стоит ли их возвращать. Но сперва об истории переулка.
Гусев переулок
Это название исчезло из городских справочников после декабря 1952 года, когда районные власти решили увековечить память героини-комсомолки Ульяны Громовой дешевым и испытанным способом, переименовав в ее честь скромный и малоизвестный переулок между Знаменской (ныне Восстания) улицей и Лиговским проспектом.
Почему Гусев переулок стал так называться? Да потому, что самым большим и заметным там был дом купца Гусева, стоявший к тому же на углу. Он-то и служил ориентиром при отыскивании переулка. Впрочем, дом, как и название, появился не сразу. Вначале возник безымянный проезд между «птичным двором», где ныне пролегает четная сторона переулка, и огромным участком И.И. Шувалова, лежавшим напротив.
Сведения о «птичном дворе» впервые находим у А. Богданова, в его дополнении к описанию Санкт-Петербурга, относящемся к 1751–1762 годам; он был «состроен» на пустом участке за Итальянским садом около 1752 года, и сюда перевели птиц, содержавшихся прежде вместе с мелкими животными на «зверовом дворе» у Симеоновского моста, «в Хамовой улице», то есть на Моховой.
Гусев переулок. Современное фото
А в 1761-м фаворит императрицы Елизаветы Петровны Иван Иванович Шувалов получил вблизи этого места громадный участок земли под загородный дом. Выстроенные им деревянные «хоромцы» состояли всего лишь из девяти покоев и оказались маловаты для обширного пустующего пространства, поэтому заботы о «регулярстве» окружающей застройки побудили полицию в 1779 году отдать часть шуваловского участка вдове коллежского асессора Козловой, которая возвела на углу Знаменской, или Офицерской, как она в ту пору звалась, улицы и безымянного переулка каменный двухэтажный дом. Спустя девять лет вдова продает его чиновнице Дьяковой, а у той в 1792-м его покупает петербургский купец Петр Евсеевич Гусев.
На сенатском атласе Петербурга 1798 года переулок значится под своим первоначальным наименованием – Литовский, но оно не прививается, и в Адресной книге 1809 года он уже зовется Гусевым. Это и неудивительно: к концу XVIII века участок богатого торговца занимал почти всю правую (считая от Знаменской) сторону переулка и изрядную долю уличного квартала. Он построил на нем четыре каменных и столько же деревянных флигелей; словом, то был воистину Гусев переулок, и Петр Евсеевич царил там безраздельно. По левую же сторону стояло несколько невзрачных деревянных домишек, появившихся на месте распроданного к тому времени по кускам бывшего «птичьего двора».
Правда, уже в начале XIX века участок Гусева значительно поубавился; сперва была продана часть, выходившая на Знаменскую (дом № 11), а в 1804-м купец расстался и с угловым домом (№ 13/1), оставив за собой лишь каменный флигель с пустопорожним местом в переулке, окрещенном его именем (ныне участок дома № 3).
Покупателем двухэтажного углового дома с садом оказался знаменитый архитектор Иван Егорович Старов, продавший взамен того Гусеву свой дом у Симеоновского моста (наб. р. Фонтанки, 32/1). Возможно, к совершению этой сделки Старова принудили материальные соображения, но возможно и то, что он к тому времени уже не нуждался в таком обширном жилище, каким был построенный по его проекту дом на набережной реки Фонтанки. Так или иначе, сделка состоялась, и семья архитектора перебралась в Гусев переулок. Здесь и скончался И.Е. Старов в апреле 1808 года. После него участком владел его сын Петр, а позднее – вдова сына, умершая в 1851 году, после чего ее наследники жестоко перессорились со своими соседями Яковлевыми, подавшими на них в суд за «захват чужой земли». В 1882-м дом, как водится, был надстроен, через восемь лет – еще один раз и в таком виде дошел до нашего времени.
В середине XIX века Гусев переулок представлял собой отдаленную окраину: половина домов – деревянные, по обеим сторонам длинные заборы, скрывавшие неказистые служебные постройки. Зато вдоволь было зелени, чуть не при каждом доме – сад, иногда довольно большой. И жизнь здесь текла тихая, размеренная и спокойная, во многом схожая с той, какую вели обитатели соседних Песков, в то время совсем уж глухого захолустья.
В июне 1867 года мирное существование жителей Гусева переулка неожиданно потрясло страшное событие – злодейское убийство целого семейства – майора Ашморенкова с женой и сыном-кадетом вместе с двумя их слугами, – проживавшего на первом этаже дома № 2/15. Все они были зарезаны во время сна. Виновницей оказалась женщина – прачка Анфиса, ранее служившая у майора и попросившаяся переночевать у своих бывших хозяев. Это преступление, совершенное из корыстных побуждений, наделало в ту пору немало шума и было раскрыто знаменитым сыщиком Иваном Путилиным.
На другом углу четной стороны переулка, на пересечении его с набережной Лиговского канала, до 1854 года находился изрядных размеров сад купчихи Ефросиньи Щукиной со стоявшим в глубине его двухэтажным деревянным домом. После смерти владелицы наследники продали участок некоему Ф.П. Сливчанскому, который выстроил на нем ныне существующий четырехэтажный доходный дом (пятый этаж добавлен позднее) довольно безликой архитектуры.
Зимой 1873 года здесь поселился Ф.М. Достоевский с семьей, наняв квартиру на втором этаже, окнами на Лиговку; здесь же он начал писать роман «Подросток», позднее опубликованный в «Отечественных записках». Однако отношения писателя с хозяином дома не заладились. «Это был старичок очень своеобразный, с разными причудами, которые причиняли Федору Михайловичу и мне большие огорчения», – пишет в своих воспоминаниях А.Г. Достоевская. Сам же Федор Михайлович в одном из писем к жене от 19 августа 1873 года выражается об этих причудах гораздо резче и определеннее: «Сливчанский – это какой-то помешанный… Встает чем свет и целый день ходит по всем лестницам и по всему дому, шпионит и порядки производит… Положительно говорю – не хочу оставаться на этой квартире… Желал бы нанять хоть на Песках, только бы не жить в этом доме…»
Очевидно, фигура домовладельца, которого Достоевский всячески старался избегать, опасаясь «истории», все же в какой-то степени послужила материалом для творческой фантазии писателя и в этом смысле оказалась не бесполезной. В мае 1874 года Ф.М. Достоевский уезжает на лечение за границу и больше уже в дом Сливчанского не возвращается.
К концу XIX века Гусев переулок стал таким, каким его видим сегодня: застроенный большими пятиэтажными домами в эклектическом стиле, очень петербургский по своему облику, он напоминает узкий коридор между громоздкими, дедовскими шкафами. И особенно странным кажется его нынешнее наименование, которое, разумеется, не пристало, да и никогда не пристанет к нему, потому что приклеено насильно, а значит, непрочно, без учета законов русского языка и языковых традиций.
Пришла пора немного отдохнуть от воображаемого путешествия по питерским улицам и переулкам и поразмышлять о том, почему одни названия выговариваются легко и ловко, не цепляясь за язык, а другие доставляют почти физическое неудобство, как плохо сшитая обувь? Стоило ли переименовывать улицы в Советскую и Социалистическую, лишая их исконных, исторических названий? Разумно ли вообще навязывать топонимам идеологическую нагрузку или присваивать их в чью-то честь? Обо всем этом далее.
«Позолота сотрется…»
Чем ценны старинные наименования? Тем, что они накрепко связаны с особенностями или приметами обозначаемых ими мест. По ним, как по карте, можно проследить историю расселения первых обитателей Петербурга (Дворянская, Посадская, Мещанская), их занятия (Монетная, Ружейная, Литейная, Пушкарская), характер местности (Песчаная, Болотная), специфику торговли (Мясная, Дровяная, Сенная). Нередко название велось от фамилии домовладельца, которому принадлежал угловой или особенно заметный дом. Так возникли Гороховая улица, Гусев и Зимин переулки, а также многие-многие другие.
Стихийно возникавшие названия никогда не присваивались в честь какого-либо лица или события, а служили исключительно для ориентирования в городе и всегда имели форму согласованного определения, обычно прилагательного; не переулок Гусева, а Гусев переулок, не мост Харламова, а Харламов мост и т. д. Информативность, краткость, удобопроизносимость – вот что было важно. Конечно, со временем многие первоначальные наименования утрачивали прямой смысл, становясь своего рода памятниками прошлого.
Первая волна массовых переименований прокатилась по столице в конце 1850-х, когда целый ряд улиц и переулков получил названия городов и рек России, остзейских губерний и Финляндии. В результате Петербург наводнился бесчисленными Лифляндскими, Роченсальмскими и Гельсингфорсскими…
Хотя тогдашние переименования были оправданы существованием множества одноименных улиц и переулков, они все же привели к достойным сожаления утратам. Так, Бочарная улица, напоминавшая о слободе пивоваров, возникшей еще в петровские времена, превратилась в безликую Симбирскую (ныне ул. Комсомола), а колоритная Шестилавочная сделалась скучновато-абстрактной Надеждинской (ныне ул. Маяковского).
Но вот над страной пронесся революционный шквал и повлек за собой несчетные, большей частью совершенно бессмысленные переименования, смахивавшие на какие-то диковинные псевдонимы или партийные клички. Нахлынули целые толпы «Красных Текстильщиков», «Красных Командиров» в сопровождении «Союза Печатников» и прочих «союзов»; они расселись на номерных знаках и табличках, знаменуя собой новую эпоху. Названиям стали силком навязывать идеологическую нагрузку, нимало не заботясь об их главнейших свойствах, а рассматривая как еще одно средство наглядной агитации.
Минули годы, революционный пыл поугас, а затем и вовсе сошел на нет, а Советская и Социалистическая улицы остались – кому приятным, а кому и не очень приятным напоминанием о прошлом. Стоит ли возвращать им прежние названия? Думаю, что стоит.
И еще об одном. Стремление «отречься от старого мира» приводило к нигилистическому отречению от собственной истории, а желание увековечить память о героях и выдающихся личностях удовлетворялось (и удовлетворяется) простым и испытанным способом – присвоением их имен улицам, площадям и набережным, да еще с забвением исконных, исторических названий, да еще в форме несогласованных определений! К примеру, не Тюленинский переулок, а непременно переулок Сергея Тюленина или улица Петра Алексеева вместо простых, исконных – Зимина и Спасского переулков. Зачем было переименовывать старинный Гусев переулок в переулок Ульяны Громовой? Славы это героине не прибавило, а горожан принуждает к косноязычию и уродованию родной речи. Ведь на вопрос «Где ты живешь?», заданный кому-нибудь из обитателей бывшего Гусева переулка, вы непременно услышите в ответ ужасную по своей бестолковой и даже кощунственной нелепости фразу: «На Ульяны Громовой».
Таков непреложный языковой закон: устная речь стремится к краткости, и слова частого, повседневного употребления, каковыми являются городские названия, абсолютно непригодны к прославлению кого или чего бы то ни было, потому что затираются быстро, как медные пятаки, совершенно утрачивая возвышенный смысл, который насильно пытаются в них вкладывать. И тут уж ничего не поделаешь. Прав был великий Андерсен: «Позолота сотрется, свиная кожа остается!»
Вдоль по речке Негодяйке
Под плотной корой современных городских наименований, порой совершенно отвлеченных, ничего не говорящих ни уму, ни сердцу, часто таятся сочные народные словечки и прозвища, повествующие о ранней истории данной местности. Изучая объявления в «Санкт-Петербургских ведомостях» XVIII – начала XIX века, становишься свидетелем непрерывного процесса образования новых названий, словно попадаешь в некую топонимическую литейную: одни словесные заготовки еще не остыли, не затвердели, они изменчивы и непостоянны; другие уже обрели свою окончательную форму, которую сохраняют и по сию пору. Одновременно шел естественный отбор, что-то отсеивалось, отпадало, заменяясь новым, более метким и запоминающимся.