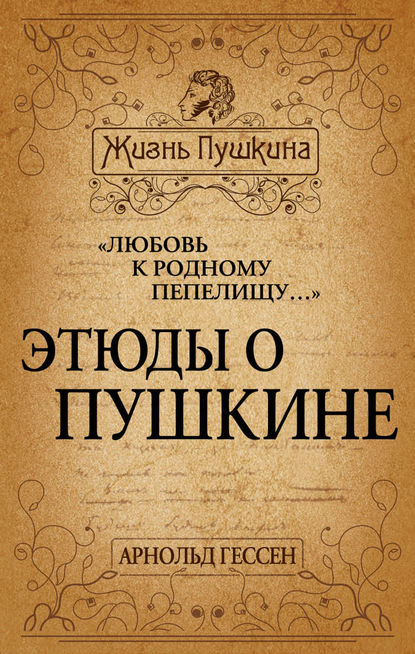По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
«Любовь к родному пепелищу…» Этюды о Пушкине
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи…
Этот юный студент был будущий поэт Александр Блок, поступивший в Петербургский университет в том же 1898 году, что и я, и так рано, – я хорошо помню этот печальный августовский день 1921 года, – ушедший из жизни… В нашем доме бывала в двадцатых годах жена Блока – Любовь Дмитриевна, дочь Д. И. Менделеева. Читала поэму «Двенадцать» так, как учил ее муж…
Среди нас находился и поступивший тогда в университет студент Павел Елисеевич Щеголев, будущий замечательный пушкинист, автор классического труда «Дуэль и смерть Пушкина»… Так началось то чудесное утро, первое утро моего большого путешествия в новый век, в новый мир, в новую эпоху человечества.
Позже мне приходилось часто встречаться и беседовать с П. Е. Щеголевым. Дружеские отношения связывали меня и с другим замечательным пушкинистом начала веха, Николаем Осиповичем Лернером…
* * *
Незадолго до Международной книжной выставки в печати отмечалось столетие со дня рождения известного дореволюционного издателя И. Д. Сытина. Я работал в издававшейся им газете «Русское слово» и на посвященных ему вечерах в Центральном доме литераторов, и у журналистов делился воспоминаниями о встречах с ним.
Среди книг я увидел прекрасно изданную Государственным издательством политической литературы книгу о Сытине, и воскресли в памяти его рассказы о том, как он пришел из деревни в Москву искать счастья. Здесь он создал крупнейшее в тогдашней России издательство, выпускал популярнейшую в то время газету, ему принадлежала нынешняя Первая образцовая московская типография, в которой работало три тысячи человек.
Особенно ярко запомнилась мне одна встреча с этим удивительным русским самородком. Это было в 1909 году.
Я жил тогда в Петербурге. Из петербургского отделения «Русского слова» раздался звонок:
– Арнольд Ильич, приехал Иван Дмитриевич… Просит вас зайти сейчас.
Сытин встретил меня приветливо, полувопросом, полуимперативом:
– Ну что же, поедем в Константинополь… Там началась младотурецкая революция… Выехать нужно завтра…
Государственная дума, где я работал постоянным специальным корреспондентом, была распущена на каникулы, такая поездка улыбалась мне, и я дал согласие.
– У вас есть наличные деньги? – обратился Сытин к заведывавшему отделением. – Нет?
Он вынул из кармана крупную сумму денег и передал мне:
– Вот вам на дорогу. Нужно будет еще, телеграфируйте, вышлем.
На другой же день я выехал в Одессу, оттуда морем. На пароходе оказался попутчик, корреспондент «Одесских новостей».
Остановка в Афинах, и мы в Константинополе. Столица Турции бурлила. Ощущалось жаркое дыхание революции. Была пятница, день селямлика. Восставший народ валом валил в Илтдыз-киоск, в парк, окружавший дворец, где обитал последний султан Турции Абдул-Гамид, вошедший в историю под именем Кровавого.
Наняли парный экипаж и влились в этот бурный поток. На мосту через Золотой Рог вытянувшиеся цепочкой солдаты неожиданно остановили нас, получили установленную за переезд через мост плату, и мы продолжили путь.
На площади перед дворцом войсковые части готовились к параду. Предстоял торжественный выезд султана из дворца в находившуюся неподалеку мечеть. Перед войсками гарцевал на белом коне Энвер-бей, возглавивший младотурецкое восстание.
Мы послали ему наши визитные карточки. Он подъехал к нам и, обращаясь по-французски, пригласил занять места в дипломатической ложе. Сопровождавшему его офицеру предложил доводить нас.
Вскоре начался выезд султана. В тот день народ впервые за десятилетия увидел его. Мне хорошо запомнилось зловещее мрачное лицо Абдул-Гамида, в красной феске на голове, с большой аккуратно подстриженной крашеной черной бородой.
Первую открытую карету пышного выезда занимал султан с молодой женой и наследником. Министры в красных фесках и мундирах, при орденах, бежали рядом с каретой, от времени до времени прикасаясь к ее покрытым пылью колесам, символически – праху следов падишаха.
Позади, в таких же открытых каретах, помещались старшие жены и приближенные.
Султан был вскоре свергнут…
Из Константинополя я направился в Египет. В годовщину открытия Суэцкого канала присутствовал в качестве журналиста в Каире на большом приеме во дворце Хедива.
Было душно, солнце нестерпимо палило, и всех пригласили на парадный спектакль в парке. На открытой сцене шла «Аида», опера, как известно, написанная композитором Верди по особому заказу, для торжеств в день открытия Суэцкого канала. Пели приехавшие в Каир по приглашению артисты миланского театра Ла Скала. Дирижировал Тосканини, партию Радамеса исполнял Энрико Карузо.
Мне довелось не раз слушать «Аиду» в прославленных московском Большом и петербургском Мариинском театрах, слушал шестьдесят лет тому назад в Париже, в знаменитые дягилевские русские сезоны.
Но ни один из этих спектаклей не оставил во мне такого сильного и яркого воспоминания, как этот, на родине Аиды, в насыщенный негой южный вечер, на берегу Нила, среди облитых лунным светом пальм – на краю Сахары, на виду у гигантского сфинкса и Хеопсовой пирамиды… И был я тогда на шестьдесят лет моложе, мне было всего тридцать…
Вся эта поездка была изумительна: после Египта – Малая Азия, Смирна, где, по преданию, Гомер слагал на берегу ручья свои песни, Яффа, Иерусалим.
Древний мир, поникшие руины, застывшие страницы библейских легенд и – мирная тогда жизнь на нашей планете… Окунувшись в эти далекие воспоминания, я неожиданно увидел портрет Сытина в посвященной ему «Жизни для книги»… Мне приходилось видеться с ним и в советское время. Как-то мы повстречались на улице Горького. Он пригласил меня зайти к нему, в принадлежавший ему у Пушкинской площади дом, где помещалось «Русское слово» и где он сам жил. В обширном кабинете, на камине, стояла небольшая бронзовая статуэтка – русского человека, в поддевке и высоких сапогах, подстриженного под скобку.
– Это мой благодетель, хозяин крошечной книжной лавки у Ильинских ворот, приютивший меня, когда я пришел из деревни в Москву, и научивший уму-разуму.
И тогда рассказал мне за чашкой чаю, как тепло и ласково принял его Владимир Ильич Ленин, когда он пришел к нему, через несколько дней после революции, в Смольный.
Ленин встал из-за стола, подал Сытину руку и сказал:
– Рад видеть вас, Иван Дмитриевич, что скажете мне?
– Владимир Ильич, вы знаете, что я полуграмотным парнишкой пришел из родной деревни в Москву. Здесь создал дело, которым всю свою жизнь служил просвещению русского народа. Все оно отошло к народу – так и должно быть… Ну, а с Иваном Дмитриевичем Сытиным что будете делать?
– Ивана Дмитриевича будем просить продолжать свою службу народу и помогать нам своим огромным опытом, – ответил Владимир Ильич.
И тут же выдал на бланке председателя Совета Народных Комиссаров, за своей подписью, охранную грамоту на неприкосновенность квартиры Сытина в принадлежавшем ему доме…
* * *
Совсем иные видения – далекие и близкие – пронеслись предо мною, когда я увидел на стенде издательства «Детская литература» написанную мною на 84-м году жизни книгу «Набережная Мойки, 12. Последняя квартира А. С. Пушкина», на 86-м – «Во глубине сибирских руд… Декабристы на каторге и в ссылке» и на стенде «Науки» – томик написанных на 88-м году этюдов о Пушкине – «“Все волновало нежный ум…” Пушкин среди книг и друзей».
Вспомнился октябрь 1900 года. В царскосельском лицейском садике открывался памятник Пушкину – юный лицеист сидит в задумчивой позе на чугунной скамье. Сегодня этот памятник широко известен, тогда мы впервые увидели это прекрасное творение скульптора Р. Р. Баха. Мне, начинающему репортеру, редактор «России» В. М. Дорошевич, знаменитый фельетонист, мой газетный учитель, поручил дать в «Россию» отчет об открытии этого памятника. Я приехал в Царское Село задолго до торжества. У памятника встретился с известным историком литературы С. А. Венгеровым, поэтом И. Ф. Анненским и критиком А. М. Скабичевским. Больше поэтов и писателей не было. Вокруг покрытой белым полотнищем фигуры поэта собрались учащиеся царскосельских гимназий.
На открытие памятника Пушкину приехал его старший сын Александр Александрович. Ему было тогда 68 лет. Генерал-лейтенант, командир одного из гвардейских полков, он мало чем напоминал своего гениального отца, но привлекали его живые глаза, обрамленное седой бородой лицо в очках, приветливая улыбка.
Когда мы обратились к нему с вопросом об отце, он скромно ответил:
– Мне было всего четыре с половиной года, когда скончался отец. Что я могу сказать вам о нем?.. А вообще… Я ведь только сын великого человека…
Отчет об открытии царскосельского памятника был моим первым литературным трудом о Пушкине. Я долго и любовно работал над ним. Было в нем строк восемьдесят. Не могу судить сегодня о его литературных достоинствах, но, видимо, они были не очень высоки, и не слишком велик был тогда интерес к этому большому празднику русской культуры: из моего отчета редактор поместил в столбце газетной хроники ровно три строки. В библиотеке имени В. И. Ленина я разыскал недавно газету «Россия» с этим первым моим репортерским «отчетом».
* * *
Незадолго перед тем у меня произошла еще одна удивительная, связанная с Пушкиным встреча. Это было на одном из собраний Географического общества, отчет о котором я должен был дать в газету.
Председательствовал известный ученый, океанограф, впоследствии почетный академик Юлий Михайлович Шокальский. Вместе с ним на собрание приехала его мать Екатерина Ермолаевна, стройная, восьмидесятилетняя женщина, с умными, ласковыми и теплыми глазами. Присутствовал еще прославленный путешественник Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский, импозантный старик в белоснежных бакенбардах, с лорнетом в широкой черной тесьме.
Собрание проходило так, как всегда проходили и сегодня проходят собрания ученых обществ, и окончилось около десяти часов вечера. Но никто не расходился, и меня поразило, что речь зашла почему-то о Пушкине, причем чувствовалось, что всех объединяют какие-то связанные с поэтом глубоко личные воспоминания.
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи…
Этот юный студент был будущий поэт Александр Блок, поступивший в Петербургский университет в том же 1898 году, что и я, и так рано, – я хорошо помню этот печальный августовский день 1921 года, – ушедший из жизни… В нашем доме бывала в двадцатых годах жена Блока – Любовь Дмитриевна, дочь Д. И. Менделеева. Читала поэму «Двенадцать» так, как учил ее муж…
Среди нас находился и поступивший тогда в университет студент Павел Елисеевич Щеголев, будущий замечательный пушкинист, автор классического труда «Дуэль и смерть Пушкина»… Так началось то чудесное утро, первое утро моего большого путешествия в новый век, в новый мир, в новую эпоху человечества.
Позже мне приходилось часто встречаться и беседовать с П. Е. Щеголевым. Дружеские отношения связывали меня и с другим замечательным пушкинистом начала веха, Николаем Осиповичем Лернером…
* * *
Незадолго до Международной книжной выставки в печати отмечалось столетие со дня рождения известного дореволюционного издателя И. Д. Сытина. Я работал в издававшейся им газете «Русское слово» и на посвященных ему вечерах в Центральном доме литераторов, и у журналистов делился воспоминаниями о встречах с ним.
Среди книг я увидел прекрасно изданную Государственным издательством политической литературы книгу о Сытине, и воскресли в памяти его рассказы о том, как он пришел из деревни в Москву искать счастья. Здесь он создал крупнейшее в тогдашней России издательство, выпускал популярнейшую в то время газету, ему принадлежала нынешняя Первая образцовая московская типография, в которой работало три тысячи человек.
Особенно ярко запомнилась мне одна встреча с этим удивительным русским самородком. Это было в 1909 году.
Я жил тогда в Петербурге. Из петербургского отделения «Русского слова» раздался звонок:
– Арнольд Ильич, приехал Иван Дмитриевич… Просит вас зайти сейчас.
Сытин встретил меня приветливо, полувопросом, полуимперативом:
– Ну что же, поедем в Константинополь… Там началась младотурецкая революция… Выехать нужно завтра…
Государственная дума, где я работал постоянным специальным корреспондентом, была распущена на каникулы, такая поездка улыбалась мне, и я дал согласие.
– У вас есть наличные деньги? – обратился Сытин к заведывавшему отделением. – Нет?
Он вынул из кармана крупную сумму денег и передал мне:
– Вот вам на дорогу. Нужно будет еще, телеграфируйте, вышлем.
На другой же день я выехал в Одессу, оттуда морем. На пароходе оказался попутчик, корреспондент «Одесских новостей».
Остановка в Афинах, и мы в Константинополе. Столица Турции бурлила. Ощущалось жаркое дыхание революции. Была пятница, день селямлика. Восставший народ валом валил в Илтдыз-киоск, в парк, окружавший дворец, где обитал последний султан Турции Абдул-Гамид, вошедший в историю под именем Кровавого.
Наняли парный экипаж и влились в этот бурный поток. На мосту через Золотой Рог вытянувшиеся цепочкой солдаты неожиданно остановили нас, получили установленную за переезд через мост плату, и мы продолжили путь.
На площади перед дворцом войсковые части готовились к параду. Предстоял торжественный выезд султана из дворца в находившуюся неподалеку мечеть. Перед войсками гарцевал на белом коне Энвер-бей, возглавивший младотурецкое восстание.
Мы послали ему наши визитные карточки. Он подъехал к нам и, обращаясь по-французски, пригласил занять места в дипломатической ложе. Сопровождавшему его офицеру предложил доводить нас.
Вскоре начался выезд султана. В тот день народ впервые за десятилетия увидел его. Мне хорошо запомнилось зловещее мрачное лицо Абдул-Гамида, в красной феске на голове, с большой аккуратно подстриженной крашеной черной бородой.
Первую открытую карету пышного выезда занимал султан с молодой женой и наследником. Министры в красных фесках и мундирах, при орденах, бежали рядом с каретой, от времени до времени прикасаясь к ее покрытым пылью колесам, символически – праху следов падишаха.
Позади, в таких же открытых каретах, помещались старшие жены и приближенные.
Султан был вскоре свергнут…
Из Константинополя я направился в Египет. В годовщину открытия Суэцкого канала присутствовал в качестве журналиста в Каире на большом приеме во дворце Хедива.
Было душно, солнце нестерпимо палило, и всех пригласили на парадный спектакль в парке. На открытой сцене шла «Аида», опера, как известно, написанная композитором Верди по особому заказу, для торжеств в день открытия Суэцкого канала. Пели приехавшие в Каир по приглашению артисты миланского театра Ла Скала. Дирижировал Тосканини, партию Радамеса исполнял Энрико Карузо.
Мне довелось не раз слушать «Аиду» в прославленных московском Большом и петербургском Мариинском театрах, слушал шестьдесят лет тому назад в Париже, в знаменитые дягилевские русские сезоны.
Но ни один из этих спектаклей не оставил во мне такого сильного и яркого воспоминания, как этот, на родине Аиды, в насыщенный негой южный вечер, на берегу Нила, среди облитых лунным светом пальм – на краю Сахары, на виду у гигантского сфинкса и Хеопсовой пирамиды… И был я тогда на шестьдесят лет моложе, мне было всего тридцать…
Вся эта поездка была изумительна: после Египта – Малая Азия, Смирна, где, по преданию, Гомер слагал на берегу ручья свои песни, Яффа, Иерусалим.
Древний мир, поникшие руины, застывшие страницы библейских легенд и – мирная тогда жизнь на нашей планете… Окунувшись в эти далекие воспоминания, я неожиданно увидел портрет Сытина в посвященной ему «Жизни для книги»… Мне приходилось видеться с ним и в советское время. Как-то мы повстречались на улице Горького. Он пригласил меня зайти к нему, в принадлежавший ему у Пушкинской площади дом, где помещалось «Русское слово» и где он сам жил. В обширном кабинете, на камине, стояла небольшая бронзовая статуэтка – русского человека, в поддевке и высоких сапогах, подстриженного под скобку.
– Это мой благодетель, хозяин крошечной книжной лавки у Ильинских ворот, приютивший меня, когда я пришел из деревни в Москву, и научивший уму-разуму.
И тогда рассказал мне за чашкой чаю, как тепло и ласково принял его Владимир Ильич Ленин, когда он пришел к нему, через несколько дней после революции, в Смольный.
Ленин встал из-за стола, подал Сытину руку и сказал:
– Рад видеть вас, Иван Дмитриевич, что скажете мне?
– Владимир Ильич, вы знаете, что я полуграмотным парнишкой пришел из родной деревни в Москву. Здесь создал дело, которым всю свою жизнь служил просвещению русского народа. Все оно отошло к народу – так и должно быть… Ну, а с Иваном Дмитриевичем Сытиным что будете делать?
– Ивана Дмитриевича будем просить продолжать свою службу народу и помогать нам своим огромным опытом, – ответил Владимир Ильич.
И тут же выдал на бланке председателя Совета Народных Комиссаров, за своей подписью, охранную грамоту на неприкосновенность квартиры Сытина в принадлежавшем ему доме…
* * *
Совсем иные видения – далекие и близкие – пронеслись предо мною, когда я увидел на стенде издательства «Детская литература» написанную мною на 84-м году жизни книгу «Набережная Мойки, 12. Последняя квартира А. С. Пушкина», на 86-м – «Во глубине сибирских руд… Декабристы на каторге и в ссылке» и на стенде «Науки» – томик написанных на 88-м году этюдов о Пушкине – «“Все волновало нежный ум…” Пушкин среди книг и друзей».
Вспомнился октябрь 1900 года. В царскосельском лицейском садике открывался памятник Пушкину – юный лицеист сидит в задумчивой позе на чугунной скамье. Сегодня этот памятник широко известен, тогда мы впервые увидели это прекрасное творение скульптора Р. Р. Баха. Мне, начинающему репортеру, редактор «России» В. М. Дорошевич, знаменитый фельетонист, мой газетный учитель, поручил дать в «Россию» отчет об открытии этого памятника. Я приехал в Царское Село задолго до торжества. У памятника встретился с известным историком литературы С. А. Венгеровым, поэтом И. Ф. Анненским и критиком А. М. Скабичевским. Больше поэтов и писателей не было. Вокруг покрытой белым полотнищем фигуры поэта собрались учащиеся царскосельских гимназий.
На открытие памятника Пушкину приехал его старший сын Александр Александрович. Ему было тогда 68 лет. Генерал-лейтенант, командир одного из гвардейских полков, он мало чем напоминал своего гениального отца, но привлекали его живые глаза, обрамленное седой бородой лицо в очках, приветливая улыбка.
Когда мы обратились к нему с вопросом об отце, он скромно ответил:
– Мне было всего четыре с половиной года, когда скончался отец. Что я могу сказать вам о нем?.. А вообще… Я ведь только сын великого человека…
Отчет об открытии царскосельского памятника был моим первым литературным трудом о Пушкине. Я долго и любовно работал над ним. Было в нем строк восемьдесят. Не могу судить сегодня о его литературных достоинствах, но, видимо, они были не очень высоки, и не слишком велик был тогда интерес к этому большому празднику русской культуры: из моего отчета редактор поместил в столбце газетной хроники ровно три строки. В библиотеке имени В. И. Ленина я разыскал недавно газету «Россия» с этим первым моим репортерским «отчетом».
* * *
Незадолго перед тем у меня произошла еще одна удивительная, связанная с Пушкиным встреча. Это было на одном из собраний Географического общества, отчет о котором я должен был дать в газету.
Председательствовал известный ученый, океанограф, впоследствии почетный академик Юлий Михайлович Шокальский. Вместе с ним на собрание приехала его мать Екатерина Ермолаевна, стройная, восьмидесятилетняя женщина, с умными, ласковыми и теплыми глазами. Присутствовал еще прославленный путешественник Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский, импозантный старик в белоснежных бакенбардах, с лорнетом в широкой черной тесьме.
Собрание проходило так, как всегда проходили и сегодня проходят собрания ученых обществ, и окончилось около десяти часов вечера. Но никто не расходился, и меня поразило, что речь зашла почему-то о Пушкине, причем чувствовалось, что всех объединяют какие-то связанные с поэтом глубоко личные воспоминания.