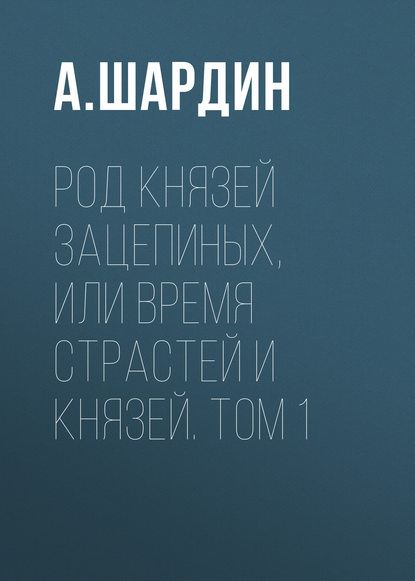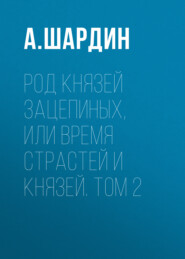По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Род князей Зацепиных, или Время страстей и князей. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Род князей Зацепиных, или Время страстей и князей. Том 1
А. Шардин
Россия державная
А. Шардин – псевдоним русского беллетриста Петра Петровича Сухонина (1821–1884) который, проиграв свое большое состояние в карты, стал управляющим имения в Павловске. Его перу принадлежат несколько крупных исторических романов: «Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы», «На рубеже столетий» и другие. В первый том этого издания вошли первая и вторая части романа «Род князей Зацепиных, или Время страстей и казней», в котором на богатом фактическом материале через восприятие князей Зацепиных, прямых потомков Рюрика, показана дворцовая жизнь, полная интриг, страстей, переворотов, от регентства герцога Курляндского Бирона, фаворита императрицы Анны Иоанновны и правительницы России при малолетнем императоре Иване IV Анны Леопольдовны до возведенной на престол гвардией Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого, ставшей с 1741 года российской императрицей. Здесь же представлена совсем еще юная великая княгиня Екатерина, в будущем Екатерина Великая.
А. Шардин (Петр Петрович Сухонин)
Род князей Зацепиных, или Время страстей и казней
Том первый
Часть первая
I
Петербург
В половине марта 1740 года по Аничковой слободе, среди слякоти и грязи, ехали одна за другой три тяжело нагруженные кибитки, запряженные каждая тройкой хорошо откормленных лошадей. Передняя кибитка была с кожаным верхом, с особым сиденьем для возницы и с запятками для выездного, вообще, хорошо прибранная. Другие кибитки были обиты просто рогожей. В первой кибитке среди пуховых подушек и ковров, на перине сидел наглухо завернутый в овчинное, крытое сукном одеяло молодой человек в лисьей шубе, невысокой собольей шапке и валяных сапогах. Он уткнул голову в подушку и, казалось, дремал. Подле кибитки с правой стороны шел возчик[1 - Название кучера хотя и употреблялось в 1740 году, но было далеко не во всеобщем употреблении. Употребление слова лакей, заимствованное от французов, как выдумали парижанки называть сопровождающих себя людей, в России распространилось только с последней четверти прошлого века. Всего прежде в России вошло в употребление слово форейтор; их начали так называть с введением крытых больших колымаг, стало быть, еще при царях Рюриковичах, прежде лихолетья, во всяком случае не позже первого самозванца.], в малахае из волчьего меха, в овчинном тулупе, сверх которого был надет темно-синий армяк, и в замшевых рукавицах, подбитых заячьим мехом; с левой – шел выездной, в таком же тулупе и рукавицах, а вместо армяка на нем была надета теплая епанча с воротником из крашеной лисицы. Он был в татарской шапке, опушенной собачьим мехом.
За этой кибиткой ехала другая, без особого сиденья для возницы, или возчика, а просто с перекинутой через нее и прибитой к облучку доской. Она была наполнена огромным количеством сундуков, чемоданов, ящиков и кульков, между которыми кое-как примостился мальчик лет тринадцати, дрожавший от холода, потому что был в одном только суконном зипуне и с голой шеей.
Подле мальчика сидел старик лет шестидесяти, с чисто выбритым и хмурым лицом, старик пасмурный и сердитый. Он был одет в овчинный, ничем не покрытый тулуп, подпоясанный казанским ремнем; за который был заткнут большой и широкий татарский нож, в высокие валенки и тоже татарскую шапку; шея его была обмотана красным немецким шарфом. Подле кибитки шел только возчик. Последняя кибитка ехала без возницы, ею правил сам ехавший в ней седок, малый лет двадцати семи, здоровенный как бык, с красными щеками и белокурыми волосами. Он был тоже только в армяке и помещался между кулями овса и разными припасами, находившимися в бочонках, корзинках, связках, бадьях и всякой другой посуде, предназначенными для дальнего переезда.
Караван, выехав из Московской ямской слободы, повернул уже на Невскую перспективу, въехал на деревянный настил, который, вместо мостовой, тянулся от самой охтинской дороги вплоть до моста между деревьями, насаженными еще Петром, – проехал Вшивую биржу, где стояло несколько чухонских саней и толпился народ, миновал шорные ряды, называвшиеся тогда казанскими, так как в них преимущественно продавались сыромятные кожи, мыло и другие казанские товары, – ряды грязные до невероятности.
Караван шел шагом, медленно продвигаясь вперед и звеня колокольцем передней кибитки и бубенчиками задних.
По обеим сторонам дороги тянулись маленькие домики, большею частью деревянные, с мезонинами и вышками, между которыми стояли заборы и лежали неогороженные пустыри; чуть не на каждом шагу встречались кабаки, харчевни, постоялые и заезжие дома. Кабаки было легко узнать по воткнутым над входом и по сторонам елкам, а харчевни, постоялые и заезжие дома – по выступающему на улицу крытому крылечку со скамьями для посетителей, а также по большому навесу вокруг двора. Впрочем, на некоторых из харчевен были вывески с нарисованными на них калачом, штофом водки и блюдом, на котором красовались не то пряженцы, не то булыжник, долженствующий обозначать подаваемое в харчевне съедомое. Постоялые и заезжие дома отличались, кроме того, еще более или менее замысловатой надписью вроде: «Выпей и закуси!», или «Милости просим!», или просто лаконичным: «Заходи!».
Проехали чистенькую нарышкинскую дачу; из-за низеньких домиков и деревьев, обнаженных от листвы, справа показались роскошные палаты ныне покойного генерал-фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева; а слева потянулась березовая рощица, из-за которой виднелось Троицкое подворье, а за ним расстилался сад бывшего провиантского чиновника Обольянинова, с пестро раскрашенным забором, глиняным филином на воротах и золоченым купидоном на дворе.
Вскоре караван въехал на небольшую площадку перед узеньким деревянным мостиком, выкрашенным коричневой краской. За этим мостиком белелась знаменитая Аничкова усадьба, с пристройками, службами, хозяйственными учреждениями, садом и обширным двором, на котором летом ходили коровы. Почти напротив этой усадьбы красовалась дача Румянцева[2 - Дом графа Протасова-Бахметьева.], с каменными львами у подъезда. Дача эта, составлявшая прежде часть Аничковой усадьбы и данная Аничковым в приданое за дочь, долго была заколочена, так как владелец ее генерал-аншеф Александр Иванович Румянцев был в немилости и сперва, в виде ссылки, был назначен командующим гилянским отрядом, а потом жил в своих деревнях. Жена его, графиня Марья Андреевна[3 - Марья Андреевна Румянцева была дочерью графа Андрея Артамоновича Матвеева, сына боярина Артамона Сергеевича Матвеева, убитого стрельцами в 1682 году, и Анны Степановны Аничковой, родной сестры стольника Михаила Степановича, которому и принадлежала Аничкова усадьба, купленная впоследствии государыней для графа Разумовского. Марья Андреевна была женщина европейски образованная, знала иностранные языки и весьма приятная. Говорят, что еще девицей она сблизилась с Петром Великим, который и выдал ее замуж за своего любимого денщика Румянцева, бывшего впоследствии нашим послом в Турции и фельдмаршалом. Она любила светскую жизнь и имела значительное влияние на политические кружки своего времени; жила долго – до 90 лет. Граф Сеггор упоминает о ней в своих записках.], урожденная Матвеева, за которою и была дана эта дача от ее матери, урожденной Аничковой, с мужем не разлучалась и здесь не жила. Теперь, впрочем, они вернулись. Бирон хотел дать Румянцеву случай вновь войти в милость и назначил его в комиссию суда над Волынским, так как желал, чтобы комиссия эта состояла исключительно из русских, но таких, которые действовали бы на руку Бирону.
Проехав эту дачу[4 - Дом г. Глазунова.], каравану пришлось остановиться перед прикрытой рогатками и защищенной шлагбаумом заставой.
Пока из второй кибитки вылезал хмурый старик, пока он искал караулку и прописывал там нужные бумаги, седок передней кибитки поднялся и огляделся кругом. Это был молодой человек, с ясным и глубоким взглядом из-под длинных ресниц. Едва начинавшиеся пробиваться на верхней губе усы, высокий лоб, русые волоса и сильно развитые мускулы обозначали его молодость и здоровье. Тонкие черные брови его почти сходились между собою на переносице, такие брови называли тогда союзными. Выражение лица было замечательно гордо и насмешливо. В общем, нельзя было сказать, чтобы он был некрасив, но в его насмешливой улыбке было столько пренебрежения, а проницательный и упорно устремленный взгляд его серых глаз был так резок, что, думалось, не скоро он встретит такого, кто захотел бы сойтись с ним, ему ввериться, признать в нем товарища и друга. Взглянув на него, всякий подумал бы: «Эге! Да это из молодых, да ранний! Этот, несмотря на свою молодость, не разнежничается перед чужим горем, не накормит голодного… Правда, зато, надо полагать, если он что скажет, то на его слово можно положиться, но ведь лишнего-то он ничего и не скажет!..»
Вглядываясь в молодого человека пристальнее, нельзя было не прийти к такому заключению, что он ценит себя чересчур высоко, чересчур много думает о своих достоинствах и не умеет ценить достоинств других. Если он тверд в слове, не притязателен, щедр, то не от доброты к другим, а от внутренней гордости. Разумеется, все это могли говорить мужчины; другое, вероятно, думали о молодом человеке женщины. Но в то время он находился еще совершенно вне женского влияния и с насмешкой глядел на все, на чем останавливался его взгляд.
«И это столица! – думал он. – Наш Зацепинск не в пример красивее. По крайности, грязи такой нет! А это что? Ни церкви Божией, ни здания какого! Хоть бы ворота-то городские как следует сделали. Просто ни на что не похоже!»
Пока он рассуждал таким образом, а возница, опустив вожжи, зевал на проходивший народ, к каравану подошла женщина.
– Елпидифор, ты ли это? – спросила она, вглядываясь пристально в возчика.
Елпидифор встрепенулся. Перед ним стояла женщина, лет уже за сорок, повязанная темным платком, в темной, на заячьем меху, душегрейке, в темной же исподнице, как называли тогда юбку, и в валяных черных котах, подшитых кожей.
– Что глядишь, али не признал? – улыбаясь, спросила она.
Елпидифор вглядывался.
– Нет, будто бы и знакомая, а признать никак не могу!
– А забыл Феклу?
– Фекла Яковлевна, матушка! – радостно вскрикнул Елпидифор. – Да как же ты, голубушка, постарела! Никак бы не узнал!
– Да времени-то прошло немало! Вот уж годов больше пятнадцати, как я тут, в Питере, маюсь. А все я тебя сразу признала! Нельзя, впрочем, сказать, чтобы ты очень переменился! Бороду-то небось бреешь, а?
– Брею, матушка! Такая напасть на меня нашла! Трифон Савельич, приказчик-то наш, ни с того ни с сего чуть не кажинный день вздумал меня в город посылать, говорит – князь велел! Ну, тут, знаешь сама, много не наговоришь! А в город с бородой не пускают; говорят, давай алтын на въезд и на выезд! Заплатил раз, другой, – надоело, поневоле обрился! Не то я, – вот увидишь, Парамон Михайлович и тот обрился, вот что! Да как часто в город-то ездить приходится, так поневоле…
– Пожалели денег, а души своей не пожалели! Эх, грехи, грехи! – Фекла Яковлевна тяжело вздохнула.
– И рады бы не жалеть, да откуда взять-то? Ведь нонче не прежние времена, когда жили словно у Христа за пазухой! Все поборы да налоги, все стало дорого; хоть в могилу ложись, да и за ту платить надо! А о старой-то вере нонче у нас, почитай, и в помине нет!
– Ишь ты! А говорили, что князь новшеств не любит, так старину держать будет!
– Он и держит старину, да не по вере, а так, по своим обычаям! По вере же он настоящий никоновец! Приезжал тут к нам воевода, на поклон к князю нашему зашел да и говорит, что у нас беспоповщина пошла, а он прямо как есть наотрез: вздор, говорит, – никаких эдаких расколов у меня нет! Все держатся православного обычая: в церковь по старине ходят и в церкви Божией венчаются, всех один поп венчает. Да в тот же день велел всех девок и подростков перевенчать. Так тут много не наговоришь; пожалуй, не то бороде, голове рад не будешь!
– Так-то оно так! Люди подневольные! А все бы, кажись… С чем вы сюда?
– А вот, видишь, княжича везем!
– Какого это? Не того ли, что при мне еще Параньку к нему в мамки определили?
– Того самого, матушка; а теперь, видишь, вырос!
– Господи, господи, время-то как идет! Что же, на службу, что ли, надумались? Старый-то князь ведь куда! Как потребовали княжичей на службу, так руками и ногами! Ни в жизнь не хотел отдавать!
– Да и этот не больно лез, только бог его знает, что с ним сделалось! А впрочем, по правде сказать, и не знаю зачем! Призвали, – говорят, с молодым князем едешь, ну и дело с концом! Трифон Савельич обещал через год мне на смену Фильку, фурлетора, прислать, говорит, в год приучит, а бог его знает, сдержит ли обещание!
– Кто же еще с вами?
– Из старых один Парамон Михайлович, дворецким и дядькой при княжиче состоять будет, да я возницей, или, по-новому, кучером, а то все молодые: Федор Сохатый, при тебе совсем еще мальчишкой был, да мне в помощь и вообще для черных работ взят из Зубиловки, тоже молодой, Кирилл Гвозделом! Ну, еще казачок; помнишь кривого Ермилку, от него взяли! А Селифонт – не знаю, помнишь ли его, кажись, в ученье был, как ты уехала, – так тот на паре домой поедет! С нами-то только семь лошадей останется. Ну, а сказано, что если еще что нужно будет, повар, что ли, или конюх другой, или какая там женская прислуга, так, когда устроимся, Парамон Михайлович отписал бы, вышлют! Да ты о себе-то расскажи, голубушка Фекла Яковлевна! Что ты здесь и как! Здорова ли?
– Да ничего. Вот как был жив-то мой Маркел Иванович, так Бога гневить было нечего, жили хорошо! Хоть и староват был и выпить любил, но, сам знаешь, какой он был досужий да рабочий человек! Ну и то, наших-то здесь нашлось много, а свой своему поневоле друг, выбрали его в десятники, а потом по хозяйской части стали употреблять, купить нужно что али заготовить, все это он! Жить и было чем! А как помер-то, так и впроголодь подчас насидишься! Ну, а все живу и хлеб жую: где постираю, где поворожу, а где и посватаю. Купцы меня любят, да и наших здесь довольно развелось, в молельщицы выбрали, поддерживают тоже по усердию, так оно и нельзя сказать, чтобы совсем с голоду умирала!
– А Маркел Иванович побывшился, значит? Царствие ему небесное! Усердный ревнитель церковный и слуга Божий был, только выпить любил, не тем будь помянут покойник… – Елпидифор перекрестился и посмотрел на Феклу Яковлевну ласково. – Ну, да и боялся же я его, что греха таить, взглянуть не смел! Сердитый он такой был, не приведи бог попасть под его руку!
– Не больно, знать, боялся, когда молодую жену целовать, да ласкать приходил, да за печкой в каморке прятался, пока тот заснет с похмелья!
– Молод был! Да и то: был, говорят, молодцу не укора; оченно уж и ты хороша была, Фекла Яковлевна! Такая была красавица, что другой такой нонче, кажись, и нет! Все бы на тебя глядел, да не нагляделся. К тому же ты начетчица была, умница! Недаром тогда, как последний поп-то наш умер, тебя враз всем миром молельщицей выбрали. Как ты-то уехала, так все у нас вверх дном пошло, все и распадаться начало. Хоть бы про себя скажу: я чуть с ума не сошел, года три просто как шальной ходил! Любил-то тебя уж оченно!
– Да и я тоже помоложе была, хоть и годилась тебе чуть не в матери. Тебе тогда, думаю, и двадцати не было, ну а я была баба в полном соку! Муж старый, выпить любил, а тут тебя по молельне мне сподручником сделали. Все вместе да вместе… как тут не быть греху! Поневоле и я по тебе поскучала. Ну да как быть! Вот Бог привел свидеться! Ты по старой памяти заходи ко мне. Меня не забывают добрые люди; сходимся и тоже иногда кое-что почитаем! Я тебя и в молельню нашу сведу. Уставщиком у нас Ермил Карпыч; из купцов он, богач большой, да это ничего, такой начетчик, что не приведи господи! Самого Андрея Денисыча за пояс бы заткнул, коли бы тот жив был. А я молельщицей, как и у нас была, только теперь не то, теперь у нас не только что молитва, но и раденье. Придешь – увидишь! И я радею; знаешь, на сиротский зуб все что-нибудь перепадет!
Оба замолчали. Кирилл Гвозделом вышел из задней кибитки и стал что-то расспрашивать махального. Мальчишка тоже выполз на божий свет и начал скакать, чтобы согреться.
– Ну что, озаконился? – спросила Фекла Елпидифора как-то глухо.
А. Шардин
Россия державная
А. Шардин – псевдоним русского беллетриста Петра Петровича Сухонина (1821–1884) который, проиграв свое большое состояние в карты, стал управляющим имения в Павловске. Его перу принадлежат несколько крупных исторических романов: «Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы», «На рубеже столетий» и другие. В первый том этого издания вошли первая и вторая части романа «Род князей Зацепиных, или Время страстей и казней», в котором на богатом фактическом материале через восприятие князей Зацепиных, прямых потомков Рюрика, показана дворцовая жизнь, полная интриг, страстей, переворотов, от регентства герцога Курляндского Бирона, фаворита императрицы Анны Иоанновны и правительницы России при малолетнем императоре Иване IV Анны Леопольдовны до возведенной на престол гвардией Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого, ставшей с 1741 года российской императрицей. Здесь же представлена совсем еще юная великая княгиня Екатерина, в будущем Екатерина Великая.
А. Шардин (Петр Петрович Сухонин)
Род князей Зацепиных, или Время страстей и казней
Том первый
Часть первая
I
Петербург
В половине марта 1740 года по Аничковой слободе, среди слякоти и грязи, ехали одна за другой три тяжело нагруженные кибитки, запряженные каждая тройкой хорошо откормленных лошадей. Передняя кибитка была с кожаным верхом, с особым сиденьем для возницы и с запятками для выездного, вообще, хорошо прибранная. Другие кибитки были обиты просто рогожей. В первой кибитке среди пуховых подушек и ковров, на перине сидел наглухо завернутый в овчинное, крытое сукном одеяло молодой человек в лисьей шубе, невысокой собольей шапке и валяных сапогах. Он уткнул голову в подушку и, казалось, дремал. Подле кибитки с правой стороны шел возчик[1 - Название кучера хотя и употреблялось в 1740 году, но было далеко не во всеобщем употреблении. Употребление слова лакей, заимствованное от французов, как выдумали парижанки называть сопровождающих себя людей, в России распространилось только с последней четверти прошлого века. Всего прежде в России вошло в употребление слово форейтор; их начали так называть с введением крытых больших колымаг, стало быть, еще при царях Рюриковичах, прежде лихолетья, во всяком случае не позже первого самозванца.], в малахае из волчьего меха, в овчинном тулупе, сверх которого был надет темно-синий армяк, и в замшевых рукавицах, подбитых заячьим мехом; с левой – шел выездной, в таком же тулупе и рукавицах, а вместо армяка на нем была надета теплая епанча с воротником из крашеной лисицы. Он был в татарской шапке, опушенной собачьим мехом.
За этой кибиткой ехала другая, без особого сиденья для возницы, или возчика, а просто с перекинутой через нее и прибитой к облучку доской. Она была наполнена огромным количеством сундуков, чемоданов, ящиков и кульков, между которыми кое-как примостился мальчик лет тринадцати, дрожавший от холода, потому что был в одном только суконном зипуне и с голой шеей.
Подле мальчика сидел старик лет шестидесяти, с чисто выбритым и хмурым лицом, старик пасмурный и сердитый. Он был одет в овчинный, ничем не покрытый тулуп, подпоясанный казанским ремнем; за который был заткнут большой и широкий татарский нож, в высокие валенки и тоже татарскую шапку; шея его была обмотана красным немецким шарфом. Подле кибитки шел только возчик. Последняя кибитка ехала без возницы, ею правил сам ехавший в ней седок, малый лет двадцати семи, здоровенный как бык, с красными щеками и белокурыми волосами. Он был тоже только в армяке и помещался между кулями овса и разными припасами, находившимися в бочонках, корзинках, связках, бадьях и всякой другой посуде, предназначенными для дальнего переезда.
Караван, выехав из Московской ямской слободы, повернул уже на Невскую перспективу, въехал на деревянный настил, который, вместо мостовой, тянулся от самой охтинской дороги вплоть до моста между деревьями, насаженными еще Петром, – проехал Вшивую биржу, где стояло несколько чухонских саней и толпился народ, миновал шорные ряды, называвшиеся тогда казанскими, так как в них преимущественно продавались сыромятные кожи, мыло и другие казанские товары, – ряды грязные до невероятности.
Караван шел шагом, медленно продвигаясь вперед и звеня колокольцем передней кибитки и бубенчиками задних.
По обеим сторонам дороги тянулись маленькие домики, большею частью деревянные, с мезонинами и вышками, между которыми стояли заборы и лежали неогороженные пустыри; чуть не на каждом шагу встречались кабаки, харчевни, постоялые и заезжие дома. Кабаки было легко узнать по воткнутым над входом и по сторонам елкам, а харчевни, постоялые и заезжие дома – по выступающему на улицу крытому крылечку со скамьями для посетителей, а также по большому навесу вокруг двора. Впрочем, на некоторых из харчевен были вывески с нарисованными на них калачом, штофом водки и блюдом, на котором красовались не то пряженцы, не то булыжник, долженствующий обозначать подаваемое в харчевне съедомое. Постоялые и заезжие дома отличались, кроме того, еще более или менее замысловатой надписью вроде: «Выпей и закуси!», или «Милости просим!», или просто лаконичным: «Заходи!».
Проехали чистенькую нарышкинскую дачу; из-за низеньких домиков и деревьев, обнаженных от листвы, справа показались роскошные палаты ныне покойного генерал-фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева; а слева потянулась березовая рощица, из-за которой виднелось Троицкое подворье, а за ним расстилался сад бывшего провиантского чиновника Обольянинова, с пестро раскрашенным забором, глиняным филином на воротах и золоченым купидоном на дворе.
Вскоре караван въехал на небольшую площадку перед узеньким деревянным мостиком, выкрашенным коричневой краской. За этим мостиком белелась знаменитая Аничкова усадьба, с пристройками, службами, хозяйственными учреждениями, садом и обширным двором, на котором летом ходили коровы. Почти напротив этой усадьбы красовалась дача Румянцева[2 - Дом графа Протасова-Бахметьева.], с каменными львами у подъезда. Дача эта, составлявшая прежде часть Аничковой усадьбы и данная Аничковым в приданое за дочь, долго была заколочена, так как владелец ее генерал-аншеф Александр Иванович Румянцев был в немилости и сперва, в виде ссылки, был назначен командующим гилянским отрядом, а потом жил в своих деревнях. Жена его, графиня Марья Андреевна[3 - Марья Андреевна Румянцева была дочерью графа Андрея Артамоновича Матвеева, сына боярина Артамона Сергеевича Матвеева, убитого стрельцами в 1682 году, и Анны Степановны Аничковой, родной сестры стольника Михаила Степановича, которому и принадлежала Аничкова усадьба, купленная впоследствии государыней для графа Разумовского. Марья Андреевна была женщина европейски образованная, знала иностранные языки и весьма приятная. Говорят, что еще девицей она сблизилась с Петром Великим, который и выдал ее замуж за своего любимого денщика Румянцева, бывшего впоследствии нашим послом в Турции и фельдмаршалом. Она любила светскую жизнь и имела значительное влияние на политические кружки своего времени; жила долго – до 90 лет. Граф Сеггор упоминает о ней в своих записках.], урожденная Матвеева, за которою и была дана эта дача от ее матери, урожденной Аничковой, с мужем не разлучалась и здесь не жила. Теперь, впрочем, они вернулись. Бирон хотел дать Румянцеву случай вновь войти в милость и назначил его в комиссию суда над Волынским, так как желал, чтобы комиссия эта состояла исключительно из русских, но таких, которые действовали бы на руку Бирону.
Проехав эту дачу[4 - Дом г. Глазунова.], каравану пришлось остановиться перед прикрытой рогатками и защищенной шлагбаумом заставой.
Пока из второй кибитки вылезал хмурый старик, пока он искал караулку и прописывал там нужные бумаги, седок передней кибитки поднялся и огляделся кругом. Это был молодой человек, с ясным и глубоким взглядом из-под длинных ресниц. Едва начинавшиеся пробиваться на верхней губе усы, высокий лоб, русые волоса и сильно развитые мускулы обозначали его молодость и здоровье. Тонкие черные брови его почти сходились между собою на переносице, такие брови называли тогда союзными. Выражение лица было замечательно гордо и насмешливо. В общем, нельзя было сказать, чтобы он был некрасив, но в его насмешливой улыбке было столько пренебрежения, а проницательный и упорно устремленный взгляд его серых глаз был так резок, что, думалось, не скоро он встретит такого, кто захотел бы сойтись с ним, ему ввериться, признать в нем товарища и друга. Взглянув на него, всякий подумал бы: «Эге! Да это из молодых, да ранний! Этот, несмотря на свою молодость, не разнежничается перед чужим горем, не накормит голодного… Правда, зато, надо полагать, если он что скажет, то на его слово можно положиться, но ведь лишнего-то он ничего и не скажет!..»
Вглядываясь в молодого человека пристальнее, нельзя было не прийти к такому заключению, что он ценит себя чересчур высоко, чересчур много думает о своих достоинствах и не умеет ценить достоинств других. Если он тверд в слове, не притязателен, щедр, то не от доброты к другим, а от внутренней гордости. Разумеется, все это могли говорить мужчины; другое, вероятно, думали о молодом человеке женщины. Но в то время он находился еще совершенно вне женского влияния и с насмешкой глядел на все, на чем останавливался его взгляд.
«И это столица! – думал он. – Наш Зацепинск не в пример красивее. По крайности, грязи такой нет! А это что? Ни церкви Божией, ни здания какого! Хоть бы ворота-то городские как следует сделали. Просто ни на что не похоже!»
Пока он рассуждал таким образом, а возница, опустив вожжи, зевал на проходивший народ, к каравану подошла женщина.
– Елпидифор, ты ли это? – спросила она, вглядываясь пристально в возчика.
Елпидифор встрепенулся. Перед ним стояла женщина, лет уже за сорок, повязанная темным платком, в темной, на заячьем меху, душегрейке, в темной же исподнице, как называли тогда юбку, и в валяных черных котах, подшитых кожей.
– Что глядишь, али не признал? – улыбаясь, спросила она.
Елпидифор вглядывался.
– Нет, будто бы и знакомая, а признать никак не могу!
– А забыл Феклу?
– Фекла Яковлевна, матушка! – радостно вскрикнул Елпидифор. – Да как же ты, голубушка, постарела! Никак бы не узнал!
– Да времени-то прошло немало! Вот уж годов больше пятнадцати, как я тут, в Питере, маюсь. А все я тебя сразу признала! Нельзя, впрочем, сказать, чтобы ты очень переменился! Бороду-то небось бреешь, а?
– Брею, матушка! Такая напасть на меня нашла! Трифон Савельич, приказчик-то наш, ни с того ни с сего чуть не кажинный день вздумал меня в город посылать, говорит – князь велел! Ну, тут, знаешь сама, много не наговоришь! А в город с бородой не пускают; говорят, давай алтын на въезд и на выезд! Заплатил раз, другой, – надоело, поневоле обрился! Не то я, – вот увидишь, Парамон Михайлович и тот обрился, вот что! Да как часто в город-то ездить приходится, так поневоле…
– Пожалели денег, а души своей не пожалели! Эх, грехи, грехи! – Фекла Яковлевна тяжело вздохнула.
– И рады бы не жалеть, да откуда взять-то? Ведь нонче не прежние времена, когда жили словно у Христа за пазухой! Все поборы да налоги, все стало дорого; хоть в могилу ложись, да и за ту платить надо! А о старой-то вере нонче у нас, почитай, и в помине нет!
– Ишь ты! А говорили, что князь новшеств не любит, так старину держать будет!
– Он и держит старину, да не по вере, а так, по своим обычаям! По вере же он настоящий никоновец! Приезжал тут к нам воевода, на поклон к князю нашему зашел да и говорит, что у нас беспоповщина пошла, а он прямо как есть наотрез: вздор, говорит, – никаких эдаких расколов у меня нет! Все держатся православного обычая: в церковь по старине ходят и в церкви Божией венчаются, всех один поп венчает. Да в тот же день велел всех девок и подростков перевенчать. Так тут много не наговоришь; пожалуй, не то бороде, голове рад не будешь!
– Так-то оно так! Люди подневольные! А все бы, кажись… С чем вы сюда?
– А вот, видишь, княжича везем!
– Какого это? Не того ли, что при мне еще Параньку к нему в мамки определили?
– Того самого, матушка; а теперь, видишь, вырос!
– Господи, господи, время-то как идет! Что же, на службу, что ли, надумались? Старый-то князь ведь куда! Как потребовали княжичей на службу, так руками и ногами! Ни в жизнь не хотел отдавать!
– Да и этот не больно лез, только бог его знает, что с ним сделалось! А впрочем, по правде сказать, и не знаю зачем! Призвали, – говорят, с молодым князем едешь, ну и дело с концом! Трифон Савельич обещал через год мне на смену Фильку, фурлетора, прислать, говорит, в год приучит, а бог его знает, сдержит ли обещание!
– Кто же еще с вами?
– Из старых один Парамон Михайлович, дворецким и дядькой при княжиче состоять будет, да я возницей, или, по-новому, кучером, а то все молодые: Федор Сохатый, при тебе совсем еще мальчишкой был, да мне в помощь и вообще для черных работ взят из Зубиловки, тоже молодой, Кирилл Гвозделом! Ну, еще казачок; помнишь кривого Ермилку, от него взяли! А Селифонт – не знаю, помнишь ли его, кажись, в ученье был, как ты уехала, – так тот на паре домой поедет! С нами-то только семь лошадей останется. Ну, а сказано, что если еще что нужно будет, повар, что ли, или конюх другой, или какая там женская прислуга, так, когда устроимся, Парамон Михайлович отписал бы, вышлют! Да ты о себе-то расскажи, голубушка Фекла Яковлевна! Что ты здесь и как! Здорова ли?
– Да ничего. Вот как был жив-то мой Маркел Иванович, так Бога гневить было нечего, жили хорошо! Хоть и староват был и выпить любил, но, сам знаешь, какой он был досужий да рабочий человек! Ну и то, наших-то здесь нашлось много, а свой своему поневоле друг, выбрали его в десятники, а потом по хозяйской части стали употреблять, купить нужно что али заготовить, все это он! Жить и было чем! А как помер-то, так и впроголодь подчас насидишься! Ну, а все живу и хлеб жую: где постираю, где поворожу, а где и посватаю. Купцы меня любят, да и наших здесь довольно развелось, в молельщицы выбрали, поддерживают тоже по усердию, так оно и нельзя сказать, чтобы совсем с голоду умирала!
– А Маркел Иванович побывшился, значит? Царствие ему небесное! Усердный ревнитель церковный и слуга Божий был, только выпить любил, не тем будь помянут покойник… – Елпидифор перекрестился и посмотрел на Феклу Яковлевну ласково. – Ну, да и боялся же я его, что греха таить, взглянуть не смел! Сердитый он такой был, не приведи бог попасть под его руку!
– Не больно, знать, боялся, когда молодую жену целовать, да ласкать приходил, да за печкой в каморке прятался, пока тот заснет с похмелья!
– Молод был! Да и то: был, говорят, молодцу не укора; оченно уж и ты хороша была, Фекла Яковлевна! Такая была красавица, что другой такой нонче, кажись, и нет! Все бы на тебя глядел, да не нагляделся. К тому же ты начетчица была, умница! Недаром тогда, как последний поп-то наш умер, тебя враз всем миром молельщицей выбрали. Как ты-то уехала, так все у нас вверх дном пошло, все и распадаться начало. Хоть бы про себя скажу: я чуть с ума не сошел, года три просто как шальной ходил! Любил-то тебя уж оченно!
– Да и я тоже помоложе была, хоть и годилась тебе чуть не в матери. Тебе тогда, думаю, и двадцати не было, ну а я была баба в полном соку! Муж старый, выпить любил, а тут тебя по молельне мне сподручником сделали. Все вместе да вместе… как тут не быть греху! Поневоле и я по тебе поскучала. Ну да как быть! Вот Бог привел свидеться! Ты по старой памяти заходи ко мне. Меня не забывают добрые люди; сходимся и тоже иногда кое-что почитаем! Я тебя и в молельню нашу сведу. Уставщиком у нас Ермил Карпыч; из купцов он, богач большой, да это ничего, такой начетчик, что не приведи господи! Самого Андрея Денисыча за пояс бы заткнул, коли бы тот жив был. А я молельщицей, как и у нас была, только теперь не то, теперь у нас не только что молитва, но и раденье. Придешь – увидишь! И я радею; знаешь, на сиротский зуб все что-нибудь перепадет!
Оба замолчали. Кирилл Гвозделом вышел из задней кибитки и стал что-то расспрашивать махального. Мальчишка тоже выполз на божий свет и начал скакать, чтобы согреться.
– Ну что, озаконился? – спросила Фекла Елпидифора как-то глухо.