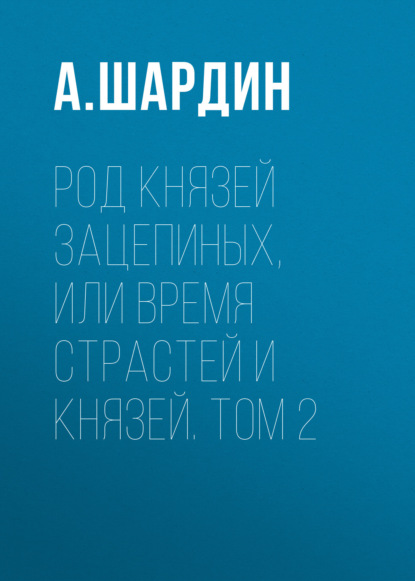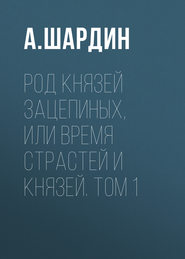По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Род князей Зацепиных, или Время страстей и князей. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну что? – спросил записывавший.
– Велено отвести в застенок.
– Пытать будут, что ли?
– Не знаю, надо думать – пытать.
Слово «пытать», будто ножом, кольнуло в сердце Леклер. Это слово ей было слишком знакомо, чтобы не понять. Впрочем, Леклер могла уже порядочно понимать по-русски.
Ее опять подхватили, опять повели по коридору, потом заставили еще спуститься на три или четыре ступеньки и ввели в странную комнату, с не виданными ею ранее орудиями и необыкновенной обстановкой.
Это был застенок.
Продолговатая, невысокая комната была разделена поперек на две неравные части, из коих в первой, меньшей, был настлан пол в виде помоста. На помосте стоял большой стол, покрытый зеленым сукном, обшитый по краям золотым позументом. На столе стояло зерцало, несколько чернильниц и были положены бумаги. Вокруг стола стояли стулья, между которыми находилось два кресла, украшенных позолотой.
В другой части комнаты, в которую вела особая дверь, пол был земляной, усыпанный песком. Он приходился несравненно ниже помоста первой части комнаты. Вдоль задней стены и с боков были поставлены старые деревянные скамьи, почерневшие от времени и загрязненные от употребления; такие скамьи, по которым ясно было видно, что с теми, которым приходится на них сидеть, не думают церемониться.
Посреди этой части комнаты был вбит столб с приделанной к нему глаголем перекладиной, в конце этой перекладины был сделан блок, сквозь который проходила веревка, оканчивающаяся вплетенным в нее кольцом. Это была так называемая дыба, с виду весьма похожая на виселицу. Подле дыбы лежали ее принадлежности: хомут, веревка, бревно и гири, долженствовавшие усиливать ее действие, а на особо приделанном к дыбе крючке висели выделанные воловьи жилы.
С правой стороны дыбы стояла «кобыла», то есть бревно, устроенное в виде косой скамьи, с приделанной у высоких ножек небольшой перекладиной с отверстиями для просовывания рук. Понятно, что на такой кобыле можно было распластать человека, привязав его так, чтобы он не мог пошевелиться. Подле кобылы лежало несколько пуков свежих розог и стоял особый станок, на котором были развешаны разного рода плети, воловьи жилы и помещался длинный кнут, плетенный из ремня и со вплетенным в конец куском жесткой юфти.
С левой стороны дыбы стояли тиски для сжимания ног, винт для раздавливания пальцев на руках и жаровня с горящими углями, в которой добела раскаливались железные щипцы с деревянными ручками. Тут же на стене висели топор, палица и другие орудия казни и пыток.
Перед приходом Леклер в застенке были только двое помощников палача, прибиравших и расправлявших орудия своего ремесла. Это были два здоровых парня в красных кумачовых рубашках, на которых не могли быть так заметны пятна крови, как могли бы быть заметны на белом полотняном белье.
– Ты, Тимоха, не рассказывай мне о своей силе, – говорил один, размахивая плетью, – тут не сила нужна, а сноровка, ловкость! А уж по ловкости куда ж тебе! Сам Калистрат Парфеныч говорит, что по ловкости я первый человек; говорит, что у меня золотые руки, и точно, за себя я постою, это верно!
– А все без силы больно не ударишь, – заметил Тимоха.
– Ну нет! Я тебе скажу: сила силой, а ловкость и сноровка прежде всего. Хоть бы вот эта плеть: я буду класть удар подле удара, полоса подле полосы, ни разу не ударю по одному месту, а все рядом да подле, новинкой так и пойду. А после положу накрест, да так всю спину выпишу, что будто разрисованная станет, и ни сесть, ни лечь будет нельзя. Куда же тебе?
– Да коли силы настоящей нет, так все боли той не будет. Вот коли я ударю, так будь там хоть какой – почувствует; а ты что!
– Ну нет, ничто! – возражал Тимохе товарищ, которого, кстати сказать, звали Ефимом. – Наказание-то я куда больше тебя заставлю почувствовать. Оно так, что своей силой ты первый удар дашь такой, что всякий скажет: удар – ужас! А потом и пойдешь бродить и вкривь, и вкось, удар на удар, по одному месту. Пойдет кровь, а по крови-то уж человеку чувствия такого не будет; жару-то уж поддать будет нечем. У меня другое дело. Я всего человека этак широкими кровавыми полосами, будто узорами, распишу, а потом, вконец-то, как поперек буду бить, из каждого, то есть вот по этим узорам, цветочка, кровь пущу. А вот кнут, так тем ты со всей своей силой и разу не ударишь, как вот хоть бы Калистрат Парфеныч бьет, так что с каждым разом кусок мяса вырывает. Тут не сила нужна, а выхлест; а у тебя выхлеста-то и не будет. Знаешь, кнутом можно человека сразу перешибить, так что он тут же и душу Богу отдаст.
– Ну сразу-то не перешибешь.
– Нет, право! Вот я могу…
В это время ввели Леклер и посадили ее, дрожащую, обезумевшую, на скамью у задней стены, в нижней половине комнаты.
– Что это, пытать, что ли? – спросил Тимоха.
– А кто ее знает, должно, пытать! Калистрат Парфеныч приказывал, чтобы, на всякий случай, сегодня и дыба, и все к пристрастию готово было. А впрочем, и пытать-то, кажись, тут нечего, гляди какая! И так душа в теле еле держится, спужалась, должно, уж очень!
И точно, Леклер обводила застенок совершенно потерянным взглядом. Она не могла опомниться от ужаса перед всеми этими предметами, которые представились ей как нечто страшное, давящее, разящее. Она не могла даже подумать о том, что вот в этих тисках будут давить ее маленькие ножки, а этот винт будет щемить ее белые нежные руки, которые она так холила и берегла. А розги? А плети? Неужели ими будут ее бить, сечь? А каленые щипцы, жаровня? Неужели будут поджигать и рвать ее нежное тело? Страшно! Страшно! Ей казалось, что все эти предметы ожили; казалось, будто они сами встали и вот уже бьют, ломают, рвут, жгут. Что же это? Что же?.. Она закрыла глаза и сидела, бледная, омертвелая. В цветах, пудре, кружевном пудреманте, видневшемся через распахнувшийся салоп, в шитых золотом, надетых на босую ногу туфлях, она дрожала как в лихорадке и казалась бежавшей из чистилища или вставшей из гроба. Руки ее тряслись, зубы стучали один о другой.
– Ну вот ее, на приклад, возьмешься ты кнутом сразу зашибить? – спросил Тимоха.
– Ее-то? Эту-то? Да на нее кнута не нужно, я и плетью перешибу! Так, с первого удара до самой кости и прорежу. Ты, брат, еще не знаешь, что такое кнут! Хочешь об заклад на осьмуху водки, что вот я кнутом на кобыле зарубку положу, а может, и кусок дерева вырву.
– Хвастай! Ну где ж из дерева вырвать.
– Право, вырву! Хочешь на осьмуху?
– Да ты тише болтай-то, ведь слышит.
– Разве не видишь, что чухна, что ли, али хранцуженка какая; по нашему-то не знает.
Но Леклер понимала и с ужасом смотрела, как один из палачей снял со станка кнут длиною около трех сажен и, показывая на тонком конце вплетенную туда заскорузлую юфть, объяснял, что она куда тверже дерева и тело как ножом режет.
Но в это время вошел суровый мужик в красной шелковой рубашке и синей бархатной однорядке нараспашку.
Увидев его, Ефим опустил кнут, а Тимофей наклонился, делая вид, что прибирает лежавшие у кобылы розги.
– Чего галдели? Чем дело делать, а вы только языки чешете! Вон жаровня-то, почитай, совсем потухла. Смотри, чтобы я щипцы-то на вас попробовать не вздумал.
Малые испуганно переглянулись. Вошедший был палач, сам Калистрат Парфеныч.
«Боже мой, Господи мой! – молилась про себя Леклер. – Неужели Ты допустишь такое злодейство? Неужели отдашь этим извергам рвать меня, терзать тело мое, ломать кости мои? Защити меня, Господи! Нашли на них гнев Свой. Укрой меня! Я грешная женщина, грешница великая. Но, Господи… по Твоему милосердию… Заступница милостивая, помоги, прости! Ведь это ужасно, ужасно!». И она дрожала, билась, тряслась.
Палач начал приводить все орудия пытки в порядок, осматривая и пробуя каждое. Леклер не помнила себя, бросая кругом свой мутный, совершенно потерянный взгляд. Она чувствовала, что ее напудренные волосы поднимаются на голове, что ее сердце замирает от ужаса.
Наконец раздалось: «Идут, идут!» Палачи положили на места свои инструменты и сами стали подле них. Вошел Шувалов, за ним обер-прокурор Сената Брылкин и секретарь.
– Подвести обвиняемую к допросу! – сказал Шувалов. И к скамье, на которой внизу сидела Леклер, подошел сторож, приглашая ее идти. У Леклер не было сил встать. Ее подняли и посадили против стола. Стоять она не могла.
Но только ее опустили, как она повалилась на землю.
– Пощадите! Пощадите! – закричала она. – Помилуйте!
Ее подняли и усадили. Шувалов велел ее держать.
– Не бойтесь, сударыня, вам ничего дурного не сделают, – сказал Шувалов, – если только вы будете откровенны и станете с полной ясностью отвечать на все вопросы, ничего не скрывая и не утаивая. Если же вы будете что-нибудь скрывать или тем более говорить неправду, то вините уже сами себя. Вы видите, у нас есть средство заставить говорить истину. Приготовить розги и дыбу, – прибавил он, обращаясь к палачам.
Леклер начала божиться и клясться, что она ни в чем не виновата и что на вопросы будет отвечать как перед Богом, с полной искренностью, и расскажет все, что знает, не скрывая ничего.
Начался допрос.
Леклер показала, что она французская подданная, актриса, всегда желала всякого добра своему отечеству и очень желала, чтобы между Россией и Францией был вечный мир и согласие; что в нынешнюю политику Франции и России она не путалась и не мешалась, ибо не пользуется расположением нынешнего французского посланника графа Дальона. Когда же здесь был послом маркиз Шетарди, который очень желал, чтобы вступила на престол Елизавета, тогда через секретаря Маньяна она сообщала ему много известий, клонящихся к тому, чтобы содействовать предприятию цесаревны, так как один из ее постоянных посетителей, который к тому же был с ней в близких отношениях, доктор цесаревны Иоганн Герман, или Жан Арман Лесток, настойчиво требовал от нее собрания таковых сведений отовсюду, откуда только можно было их получить. Относительно образа и средств своей жизни Леклер объяснила, что она извлекала эти средства из стремления богатых людей пользоваться жизнью и удовольствиями, стараясь в этом отношении угодить всем. Она рекомендовала богатым старикам хорошеньких любовниц, устраивала игорные вечера, давала любительские спектакли. У высокопоставленных и бывающих у нее особ она выпрашивала для разных лиц различного рода милости, за что получала благодарность. Все это в совокупности давало ей значительный доход, совершенно вне всяких политических целей, о которых она, кроме выполнения требований Лестока, никогда не думала. О государыне никогда ни с кем не говорила, зная, что в России это строго преследуется; говорила только, что с ее царствованием началась тишина и благоденствие и ничего не слышно о страшных пытках и казнях, которыми сопровождалось владычество Бирона. Прусского посланника графа Мардефельда она знала, познакомилась с ним через Лестока. Одно время, когда жена его была продолжительно больна, была с ним в связи, но никакого поручения от него к канцлеру не принимала и никаких заверений не делала. На повторенный по этому предмету под угрозой вопрос она подтвердила то же самое, объясняя, что свидания ее с канцлером и продолжительные разговоры с ним касались его единственного сына Андрея Алексеевича, который начал пошаливать, играть в карты и волочиться за француженками, от чего отец хотел его удержать. Относительно князя Андрея Васильевича она сказала, что лет едва ли не десять или более назад, когда Андрей Васильевич только приехал в Петербург и был чуть не мальчик, она влюбилась в него без памяти и была у него на содержании. Она учила его танцевать и практиковала в разговоре на французском языке, но когда он уехал за границу, то все отношения ее с ним прекратились. Недавно только узнала она, что он давно уже воротился и пользуется большим влиянием и почетом, поэтому, по совету графа Мардефельда, решилась по старой памяти обратиться к нему с просьбой за Лестока, для чего нарочно ездила в Москву… Когда ее спросили, почему же она так заботилась о Лестоке, она без запинки отвечала, что Лесток, будучи постоянным ее посетителем и крупным игроком, давал ей значительный доход, привлекая множество посетителей и оживляя в ее гостиной своим веселым характером все общество. На вопрос, продолжалась ли связь ее с Зацепиным по возвращении его из Парижа, она отвечала отрицательно, повторяя, что о возвращении его не знала, хотя, разумеется, готова была бы употребить все средства, чтобы его опять притянуть к себе. Когда же узнала о его приезде и приехала к нему по делу, то если бы он изъявил хоть какое-нибудь желание, то она никак, ни в чем бы ему не отказала, но как он не только никакого желания не изъявлял, но даже, видимо, отклонялся от всякой фамильярности, то она и не могла войти с ним в прежние отношения и более его не видала.
Когда же ее спросили, какой ответ дал Зацепин о Лестоке, она отвечала, что его ответ был уклончивый, так как он слышал, что Лесток в чем-то провинился лично против государыни, поэтому вперед он ничего обещать не может.
– На мои убедительные просьбы, – говорила Леклер, – он обещал попытаться. Но как на третий день после того он уехал и ответа никакого не дал, то я и полагаю, что или попытка его не удалась, или он на таковую попытку не имел времени.
Вот все, что показала Леклер на предлагаемые ей вопросы, и утвердила это даже тогда, когда ее подвели под дыбу и надели на руки хомут. Было видно, что она отвечала с полной откровенностью и не утаивала ничего. На пытку Шувалов не решился, ввиду положительного приказания государыни к пытке не прибегать и вспоминая, как неблагоприятно было принято государыней его излишнее усердие в деле Лестока. Поневоле он ограничился только одним застращиванием, которое, впрочем, настолько сильно отозвалось на бедной Леклер, что, возвратясь домой с целыми руками и ногами, она почти не верила себе, а от испытанной ажитации и нервного потрясения слегла в постель и была между жизнью и смертью в течение девяти дней.
Допрос этот и ответы Леклер препроводили к генерал-прокурору. Трубецкой и Шувалов, разрабатывая эти ответы с обер-прокурором при помощи Мавры Егоровны, дополнявшей доклад объяснением того, что было между строками, представили государыне дело это, вместе с своими соображениями, в таком виде:
– Велено отвести в застенок.
– Пытать будут, что ли?
– Не знаю, надо думать – пытать.
Слово «пытать», будто ножом, кольнуло в сердце Леклер. Это слово ей было слишком знакомо, чтобы не понять. Впрочем, Леклер могла уже порядочно понимать по-русски.
Ее опять подхватили, опять повели по коридору, потом заставили еще спуститься на три или четыре ступеньки и ввели в странную комнату, с не виданными ею ранее орудиями и необыкновенной обстановкой.
Это был застенок.
Продолговатая, невысокая комната была разделена поперек на две неравные части, из коих в первой, меньшей, был настлан пол в виде помоста. На помосте стоял большой стол, покрытый зеленым сукном, обшитый по краям золотым позументом. На столе стояло зерцало, несколько чернильниц и были положены бумаги. Вокруг стола стояли стулья, между которыми находилось два кресла, украшенных позолотой.
В другой части комнаты, в которую вела особая дверь, пол был земляной, усыпанный песком. Он приходился несравненно ниже помоста первой части комнаты. Вдоль задней стены и с боков были поставлены старые деревянные скамьи, почерневшие от времени и загрязненные от употребления; такие скамьи, по которым ясно было видно, что с теми, которым приходится на них сидеть, не думают церемониться.
Посреди этой части комнаты был вбит столб с приделанной к нему глаголем перекладиной, в конце этой перекладины был сделан блок, сквозь который проходила веревка, оканчивающаяся вплетенным в нее кольцом. Это была так называемая дыба, с виду весьма похожая на виселицу. Подле дыбы лежали ее принадлежности: хомут, веревка, бревно и гири, долженствовавшие усиливать ее действие, а на особо приделанном к дыбе крючке висели выделанные воловьи жилы.
С правой стороны дыбы стояла «кобыла», то есть бревно, устроенное в виде косой скамьи, с приделанной у высоких ножек небольшой перекладиной с отверстиями для просовывания рук. Понятно, что на такой кобыле можно было распластать человека, привязав его так, чтобы он не мог пошевелиться. Подле кобылы лежало несколько пуков свежих розог и стоял особый станок, на котором были развешаны разного рода плети, воловьи жилы и помещался длинный кнут, плетенный из ремня и со вплетенным в конец куском жесткой юфти.
С левой стороны дыбы стояли тиски для сжимания ног, винт для раздавливания пальцев на руках и жаровня с горящими углями, в которой добела раскаливались железные щипцы с деревянными ручками. Тут же на стене висели топор, палица и другие орудия казни и пыток.
Перед приходом Леклер в застенке были только двое помощников палача, прибиравших и расправлявших орудия своего ремесла. Это были два здоровых парня в красных кумачовых рубашках, на которых не могли быть так заметны пятна крови, как могли бы быть заметны на белом полотняном белье.
– Ты, Тимоха, не рассказывай мне о своей силе, – говорил один, размахивая плетью, – тут не сила нужна, а сноровка, ловкость! А уж по ловкости куда ж тебе! Сам Калистрат Парфеныч говорит, что по ловкости я первый человек; говорит, что у меня золотые руки, и точно, за себя я постою, это верно!
– А все без силы больно не ударишь, – заметил Тимоха.
– Ну нет! Я тебе скажу: сила силой, а ловкость и сноровка прежде всего. Хоть бы вот эта плеть: я буду класть удар подле удара, полоса подле полосы, ни разу не ударю по одному месту, а все рядом да подле, новинкой так и пойду. А после положу накрест, да так всю спину выпишу, что будто разрисованная станет, и ни сесть, ни лечь будет нельзя. Куда же тебе?
– Да коли силы настоящей нет, так все боли той не будет. Вот коли я ударю, так будь там хоть какой – почувствует; а ты что!
– Ну нет, ничто! – возражал Тимохе товарищ, которого, кстати сказать, звали Ефимом. – Наказание-то я куда больше тебя заставлю почувствовать. Оно так, что своей силой ты первый удар дашь такой, что всякий скажет: удар – ужас! А потом и пойдешь бродить и вкривь, и вкось, удар на удар, по одному месту. Пойдет кровь, а по крови-то уж человеку чувствия такого не будет; жару-то уж поддать будет нечем. У меня другое дело. Я всего человека этак широкими кровавыми полосами, будто узорами, распишу, а потом, вконец-то, как поперек буду бить, из каждого, то есть вот по этим узорам, цветочка, кровь пущу. А вот кнут, так тем ты со всей своей силой и разу не ударишь, как вот хоть бы Калистрат Парфеныч бьет, так что с каждым разом кусок мяса вырывает. Тут не сила нужна, а выхлест; а у тебя выхлеста-то и не будет. Знаешь, кнутом можно человека сразу перешибить, так что он тут же и душу Богу отдаст.
– Ну сразу-то не перешибешь.
– Нет, право! Вот я могу…
В это время ввели Леклер и посадили ее, дрожащую, обезумевшую, на скамью у задней стены, в нижней половине комнаты.
– Что это, пытать, что ли? – спросил Тимоха.
– А кто ее знает, должно, пытать! Калистрат Парфеныч приказывал, чтобы, на всякий случай, сегодня и дыба, и все к пристрастию готово было. А впрочем, и пытать-то, кажись, тут нечего, гляди какая! И так душа в теле еле держится, спужалась, должно, уж очень!
И точно, Леклер обводила застенок совершенно потерянным взглядом. Она не могла опомниться от ужаса перед всеми этими предметами, которые представились ей как нечто страшное, давящее, разящее. Она не могла даже подумать о том, что вот в этих тисках будут давить ее маленькие ножки, а этот винт будет щемить ее белые нежные руки, которые она так холила и берегла. А розги? А плети? Неужели ими будут ее бить, сечь? А каленые щипцы, жаровня? Неужели будут поджигать и рвать ее нежное тело? Страшно! Страшно! Ей казалось, что все эти предметы ожили; казалось, будто они сами встали и вот уже бьют, ломают, рвут, жгут. Что же это? Что же?.. Она закрыла глаза и сидела, бледная, омертвелая. В цветах, пудре, кружевном пудреманте, видневшемся через распахнувшийся салоп, в шитых золотом, надетых на босую ногу туфлях, она дрожала как в лихорадке и казалась бежавшей из чистилища или вставшей из гроба. Руки ее тряслись, зубы стучали один о другой.
– Ну вот ее, на приклад, возьмешься ты кнутом сразу зашибить? – спросил Тимоха.
– Ее-то? Эту-то? Да на нее кнута не нужно, я и плетью перешибу! Так, с первого удара до самой кости и прорежу. Ты, брат, еще не знаешь, что такое кнут! Хочешь об заклад на осьмуху водки, что вот я кнутом на кобыле зарубку положу, а может, и кусок дерева вырву.
– Хвастай! Ну где ж из дерева вырвать.
– Право, вырву! Хочешь на осьмуху?
– Да ты тише болтай-то, ведь слышит.
– Разве не видишь, что чухна, что ли, али хранцуженка какая; по нашему-то не знает.
Но Леклер понимала и с ужасом смотрела, как один из палачей снял со станка кнут длиною около трех сажен и, показывая на тонком конце вплетенную туда заскорузлую юфть, объяснял, что она куда тверже дерева и тело как ножом режет.
Но в это время вошел суровый мужик в красной шелковой рубашке и синей бархатной однорядке нараспашку.
Увидев его, Ефим опустил кнут, а Тимофей наклонился, делая вид, что прибирает лежавшие у кобылы розги.
– Чего галдели? Чем дело делать, а вы только языки чешете! Вон жаровня-то, почитай, совсем потухла. Смотри, чтобы я щипцы-то на вас попробовать не вздумал.
Малые испуганно переглянулись. Вошедший был палач, сам Калистрат Парфеныч.
«Боже мой, Господи мой! – молилась про себя Леклер. – Неужели Ты допустишь такое злодейство? Неужели отдашь этим извергам рвать меня, терзать тело мое, ломать кости мои? Защити меня, Господи! Нашли на них гнев Свой. Укрой меня! Я грешная женщина, грешница великая. Но, Господи… по Твоему милосердию… Заступница милостивая, помоги, прости! Ведь это ужасно, ужасно!». И она дрожала, билась, тряслась.
Палач начал приводить все орудия пытки в порядок, осматривая и пробуя каждое. Леклер не помнила себя, бросая кругом свой мутный, совершенно потерянный взгляд. Она чувствовала, что ее напудренные волосы поднимаются на голове, что ее сердце замирает от ужаса.
Наконец раздалось: «Идут, идут!» Палачи положили на места свои инструменты и сами стали подле них. Вошел Шувалов, за ним обер-прокурор Сената Брылкин и секретарь.
– Подвести обвиняемую к допросу! – сказал Шувалов. И к скамье, на которой внизу сидела Леклер, подошел сторож, приглашая ее идти. У Леклер не было сил встать. Ее подняли и посадили против стола. Стоять она не могла.
Но только ее опустили, как она повалилась на землю.
– Пощадите! Пощадите! – закричала она. – Помилуйте!
Ее подняли и усадили. Шувалов велел ее держать.
– Не бойтесь, сударыня, вам ничего дурного не сделают, – сказал Шувалов, – если только вы будете откровенны и станете с полной ясностью отвечать на все вопросы, ничего не скрывая и не утаивая. Если же вы будете что-нибудь скрывать или тем более говорить неправду, то вините уже сами себя. Вы видите, у нас есть средство заставить говорить истину. Приготовить розги и дыбу, – прибавил он, обращаясь к палачам.
Леклер начала божиться и клясться, что она ни в чем не виновата и что на вопросы будет отвечать как перед Богом, с полной искренностью, и расскажет все, что знает, не скрывая ничего.
Начался допрос.
Леклер показала, что она французская подданная, актриса, всегда желала всякого добра своему отечеству и очень желала, чтобы между Россией и Францией был вечный мир и согласие; что в нынешнюю политику Франции и России она не путалась и не мешалась, ибо не пользуется расположением нынешнего французского посланника графа Дальона. Когда же здесь был послом маркиз Шетарди, который очень желал, чтобы вступила на престол Елизавета, тогда через секретаря Маньяна она сообщала ему много известий, клонящихся к тому, чтобы содействовать предприятию цесаревны, так как один из ее постоянных посетителей, который к тому же был с ней в близких отношениях, доктор цесаревны Иоганн Герман, или Жан Арман Лесток, настойчиво требовал от нее собрания таковых сведений отовсюду, откуда только можно было их получить. Относительно образа и средств своей жизни Леклер объяснила, что она извлекала эти средства из стремления богатых людей пользоваться жизнью и удовольствиями, стараясь в этом отношении угодить всем. Она рекомендовала богатым старикам хорошеньких любовниц, устраивала игорные вечера, давала любительские спектакли. У высокопоставленных и бывающих у нее особ она выпрашивала для разных лиц различного рода милости, за что получала благодарность. Все это в совокупности давало ей значительный доход, совершенно вне всяких политических целей, о которых она, кроме выполнения требований Лестока, никогда не думала. О государыне никогда ни с кем не говорила, зная, что в России это строго преследуется; говорила только, что с ее царствованием началась тишина и благоденствие и ничего не слышно о страшных пытках и казнях, которыми сопровождалось владычество Бирона. Прусского посланника графа Мардефельда она знала, познакомилась с ним через Лестока. Одно время, когда жена его была продолжительно больна, была с ним в связи, но никакого поручения от него к канцлеру не принимала и никаких заверений не делала. На повторенный по этому предмету под угрозой вопрос она подтвердила то же самое, объясняя, что свидания ее с канцлером и продолжительные разговоры с ним касались его единственного сына Андрея Алексеевича, который начал пошаливать, играть в карты и волочиться за француженками, от чего отец хотел его удержать. Относительно князя Андрея Васильевича она сказала, что лет едва ли не десять или более назад, когда Андрей Васильевич только приехал в Петербург и был чуть не мальчик, она влюбилась в него без памяти и была у него на содержании. Она учила его танцевать и практиковала в разговоре на французском языке, но когда он уехал за границу, то все отношения ее с ним прекратились. Недавно только узнала она, что он давно уже воротился и пользуется большим влиянием и почетом, поэтому, по совету графа Мардефельда, решилась по старой памяти обратиться к нему с просьбой за Лестока, для чего нарочно ездила в Москву… Когда ее спросили, почему же она так заботилась о Лестоке, она без запинки отвечала, что Лесток, будучи постоянным ее посетителем и крупным игроком, давал ей значительный доход, привлекая множество посетителей и оживляя в ее гостиной своим веселым характером все общество. На вопрос, продолжалась ли связь ее с Зацепиным по возвращении его из Парижа, она отвечала отрицательно, повторяя, что о возвращении его не знала, хотя, разумеется, готова была бы употребить все средства, чтобы его опять притянуть к себе. Когда же узнала о его приезде и приехала к нему по делу, то если бы он изъявил хоть какое-нибудь желание, то она никак, ни в чем бы ему не отказала, но как он не только никакого желания не изъявлял, но даже, видимо, отклонялся от всякой фамильярности, то она и не могла войти с ним в прежние отношения и более его не видала.
Когда же ее спросили, какой ответ дал Зацепин о Лестоке, она отвечала, что его ответ был уклончивый, так как он слышал, что Лесток в чем-то провинился лично против государыни, поэтому вперед он ничего обещать не может.
– На мои убедительные просьбы, – говорила Леклер, – он обещал попытаться. Но как на третий день после того он уехал и ответа никакого не дал, то я и полагаю, что или попытка его не удалась, или он на таковую попытку не имел времени.
Вот все, что показала Леклер на предлагаемые ей вопросы, и утвердила это даже тогда, когда ее подвели под дыбу и надели на руки хомут. Было видно, что она отвечала с полной откровенностью и не утаивала ничего. На пытку Шувалов не решился, ввиду положительного приказания государыни к пытке не прибегать и вспоминая, как неблагоприятно было принято государыней его излишнее усердие в деле Лестока. Поневоле он ограничился только одним застращиванием, которое, впрочем, настолько сильно отозвалось на бедной Леклер, что, возвратясь домой с целыми руками и ногами, она почти не верила себе, а от испытанной ажитации и нервного потрясения слегла в постель и была между жизнью и смертью в течение девяти дней.
Допрос этот и ответы Леклер препроводили к генерал-прокурору. Трубецкой и Шувалов, разрабатывая эти ответы с обер-прокурором при помощи Мавры Егоровны, дополнявшей доклад объяснением того, что было между строками, представили государыне дело это, вместе с своими соображениями, в таком виде: