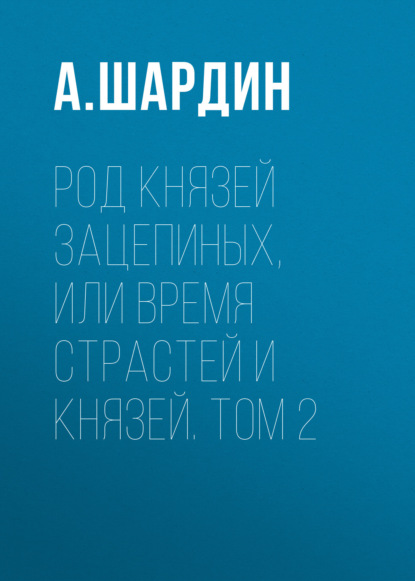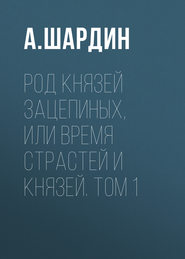По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Род князей Зацепиных, или Время страстей и князей. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Разумовский был в богатом мундире обер-егермейстера, со звездой, в голубой ленте Андрея Первозванного и с никогда не снимаемым им портретом императрицы, осыпанным крупными бриллиантами. Темно-малиновый бархатный, шитый золотом и обвитый дорогими кружевами мундир, белый, с крупными жемчужными пуговицами камзол и белые, с золотыми лампасами, туго натянутые панталоны, с чулками, шитыми золотом подвязками и бриллиантовыми пряжками на башмаках, – в такой степени шли к немного смуглому, но чрезвычайно нежному, обрамленному черными, вьющимися волосами, лицу Разумовского, его черным, глубоким, с поволокой глазам и его стройной, атлетической фигуре, что Трубецкой невольно подумал: «Что и говорить, красив, очень красив! Не скоро такого молодца из головы выкинешь! Атлет просто! Если не психическая, то физическая сторона такой натуры подкупит всякую женщину, особенно женщину чувственную и, что греха таить, избалованную…»
Гость и хозяин под руку друг с другом прошли анфиладу приемных комнат, вошли в кабинет и уселись в креслах, около круглого инкрустированного столика, на котором стоял ящик с превосходными сигарами, то, что называют нынче гильотинка и что тогда называлось просто резаком, тарелочки китайского фарфора и другие принадлежности курения, с особой горкой для чубуков и ящиков для табаку. На столе горела восковая свеча.
– Не прикажете ли, ваше сиятельство? – спросил Трубецкой у Разумовского, подавая ему сигару.
– Ни-ни, ваше сиятельство! – отвечал Разумовский. – Такие сигары мыни будут – ни в коня корм! Разумеется, такому родовитому князю, как ваше сиятельство, и сигары должны быть настоящие, сиятельные; а мне, простому казаку, сызмальства привыкшему к люльке с тютюном, баловать себя дорогими сигарами не приходится, особливо после изгнания из рая, подобно нашим первым прародителям…
– Рай с нами и в нас, говорят новые проповедники, – отвечал Трубецкой. – А мы все твердо уверены, что ваше сиятельство изволите обратить старую Аничкову усадьбу именно в цветущий рай, который озарит своим сиянием сама Аврора. Кстати, граф, вы не слыхали, что сей сон значит: посылка князя Зацепина?
– Куда нам такие сны видеть, ваше сиятельство? – отвечал Разумовский. – Князь Зацепа большой барин! С нашим братом, простым казаком, и говорить не хочет. Ну на то его воля княжеская, мы не плачем. А что послали-то его, значит, в милость входит, силу набирает. Государыня любит одного другим поверять. Зацепин теперь в ходу, он и будет поверять всех. Вот теперь и ваше сиятельство изволите находиться в поверке, и вы, и канцлер, благо между собой ссоритесь! А потом и другие пойдут. Зацепа переберет всех. Много раз государыня и меня на поверку соблаговоляла назначать, да я всегда своим малым разумом да непонятием отделывался. Ну а этот не скажет: «Не по носу табак», все в свои руки заграбастит. Придется и вам, и канцлеру, прежде чем государыне, ему докладывать. Впрочем, что же это я болтаю спроста? Эх, князь, да и вы хороши! И не остановите, что я тут разные билиндрясы распускаю и забыл, что князь Зацепин ваш давний приятель. Знаете, он меня зацепил, крепко зацепил, так я сдуру-то и разоврался. Не следовало, совсем не следовало! Простите, ради бога! Он человек ученый, шлифованный, не нам чета, и разные теории там знает, и Вольтера понимает, а мы себе на медные гроши учились, где же нам все понимать? Зато мы жили и другим жить давали, а с ним, вот увидим, много ли еще люди наживут. Еще раз прошу извинить, что так о приятеле вашем говорю.
– Полноте, граф, чем он мне особый приятель? Ну, знакомый, как и все. Я был хорош с его дядей, князем Андреем Дмитриевичем, естественно, не могу не быть знакомым и с ним. Но, вы знаете, у нас при дворе – всякий за себя, а Бог за всех!
– Что же, ваше сиятельство, если это так, то позволю себе говорить откровенно. Вы меня, позволяю себе думать, изволите знать? Я человек неопасный. Куда не следует своего носа не сую. Со мной всегда есть лад и будет. Ну а Зацепа – зацепа и есть! Так не позволите ли вы мне просто, прямо, по-хохлацки, высказать все, что на душе; может, что и порассудим вместе! Если уж я стар кажусь, что ли, или просто надоел, так ведь я ничего не говорю. Как быть-то? Не я один на свете с привесками на лбу хожу. Но пусть уж лучше, по-моему, этот Ванюша, или Иван Иванович, будет. Недаром Шуваловы хлопочут. Вы с Шуваловыми тоже приятель, так вам их опасаться нечего. А Иван Иванович мальчик скромный, незаносчивый, с моим братом Кирюшкой вон как родные сошлись; французские книжки все вместе читают. Само собой, что будут на себя тянуть, но не в обиду же всем, не взарез что называется. Ну а не Шувалов, другой кто, – я не препона; только бы не этот Зацепа, который… который… поверьте, ваше сиятельство, в вас же в первого вцепится!.. А может, даже уж и вцепился, как знать; недаром же на поверку поехал… Знаете, по-моему, променять Ивана Ивановича на такого Зацепу – значит променять овцу на волка; а сами порассудите: хорошо ли потом с волком-то жить?
– А ваше сиятельство изволите думать, что князь Зацепин послан, чтобы меня проверять?
– Я ничего не думаю, ваше сиятельство; а вот если изволите желать, я вам дам прочитать бумажку: это наставление ему, или, как по-вашему-то, инструкция, которую государыня в самой секретности ему вручить изволила. Не спрашивайте, откуда и как добыл, а слово в слово списано.
И Разумовский подал Трубецкому бумагу. Трубецкой впился в нее глазами.
«Так-то! – сказал он про себя. – И мне хоть бы слово сказал, хоть бы намеком предупредил, гм!..» И он снова прочитал бумагу.
– Выходит, нас обоих с канцлером под цугундер, – сказал Трубецкой Разумовскому. – Ну что ж, коли не угодны, насильно мил не будешь. А не дозволите ли спросить, ваше сиятельство: графу Алексею Петровичу вы об этом говорили?
– Ну как не говорить. Он сегодня утром ко мне заехал и говорит, что князь Зацепа ему во сне привиделся. Я ответил, что сон в руку, и ему вот это самое наставление прочитать дал.
– Что же он?
– Говорит: не страшны бы нам все эти поверки были, если бы мы с господином генерал-прокурором в такой сcoрe не находились. А то не он нас съест, а мы сами себя поедом едим, да, пожалуй, оба и провалимся. Хорошо, коли только в ссылку сошлют.
– Пожалуй, что и так, – задумчиво ответил Трубецкой. – А кто виноват, что он свои вины на других валит?..
– Ваше сиятельство, – перебил его Разумовский, – что старое перебирать. Он и сам видит, что не прав, да что делать-то; вот хоть и близок локоть-то, да не укусишь. Не лучше ли о будущем подумать и, пока на носу у обоих этот Зацепа, хоть перемирие заключить? Ведь в самые большие войны перемирие бывает.
– Да я рад и на мир, и на перемирие; только, ваше сиятельство, вы сами знаете, какой граф Алексей Петрович человек. Он толкует о мире, а сам подкоп ведет. Уж скольких он так погубил, начиная с Лестока.
– Нашли кого пожалеть, ваше сиятельство. Но теперь другое дело; ввиду общей опасности…
– Что правда, то правда! Этой Зацепе непременно нужно крылья обрезать, поэтому нужно спеться; только где бы на нейтральной почве…
– Да всего лучше у меня! Не сделаете ли, ваше сиятельство, мне честь пожаловать хоть завтра откушать? Я и господина канцлера позову, и посредником в перемирии буду, если удостоите…
Князь Никита Юрьевич принял предложение, но, по отъезде Разумовского, сейчас же принялся опять за дело Леклер, надеясь извлечь из него что-нибудь против Бестужева. Ему хотелось доказать, что Леклер служила посредницей между канцлером и прусским послом графом Мардефельдом, с которым Леклер призналась, что одно время была в связи; хотелось доказать, что через нее была предложена Бестужеву от прусского короля пенсия, которую тот будто бы принял; что, стало быть, поэтому Бестужев состоит теперь на жалованье прусского короля и потому ни верить ему, ни оставлять канцлером нельзя. Но как ни старался Трубецкой придать такой смысл показаниям Леклер, все не выходило ничего.
Не знал того Трубецкой, что он ломает себе голову напрасно, что на этой почве Бестужев неуязвим. Ему давно предлагали пенсии и англичане, и голландцы, и французы, и датчане, и пруссаки, которые не останавливались ни перед чем, просили только назначить цифру; но от всех этих предложений Бестужев отказался, и государыня это знала из подлинных депеш, прочитанных академиками. Стало быть, все выводы Трубецкого в этом направлении не только не достигли бы цели, но обрушились бы прямо на него самого. Государыня не могла им поверить против несомненных и чуть не ежедневно представляемых ей доказательств. Правда, Бестужев, пользуясь близостью своих отношений к английскому королю, бывшему курфюрсту ганноверскому, у которого прежде он состоял на службе, просил англичан ссудить его взаимообразно некоторой суммой из шести процентов, необходимой ему для отделки дома и дачи на Каменном острове, и государыня это знала. Но она знала и то, что англичане не согласились, говоря: «Даром возьми сколько угодно, а взаймы – ни гроша!» А он отвечал: «Взаймы – обяжете, а в подарок – ничего! Моя совесть не продажная, и Англии меня не купить!» Англичане взбесились. Но суровый, сдержанный канцлер вида не подал, что ими недоволен, и по-прежнему стоял за австрийский союз, стало быть, по тогдашним конъюнктурам, за дружбу с Англией…
Одно, на что мог бы указать Трубецкой и чем, может быть, он вызвал бы в государыне сомнение в рассуждении добросовестности Бестужева, это почему он, представляя государыне к прочтению депеши Шетарди, Дальона, Ньюгауза, Мардефельда, Борка, Вальфенштерна, ни разу не представил для прочтения депеш маркиза Ботта, графа Братислава и других послов австрийского двора? Но вопроса этого Трубецкой возбудить не мог, потому что об искусстве чтения депеш не только ничего не знал, но, вероятно, и не подозревал, как не подозревали этого, надобно полагать, отправлявшие эти депеши посланники, описывая в них подробности своих действий и свои предположения. Граф Мардефельд, правда, начинал подозревать, что его депеши делаются известными, но, вероятно, он думал, что это делается через измену канцелярии у него или в Берлине, почему в одной из депеш даже грозил проколоть виновного шпагой. Но от подозрения до уверенности, как от угроз до исполнения, целая пропасть. Трубецкому же, никогда не занимавшемуся иностранными делами, и в голову не могло прийти то, что делало Бестужева столь сильным. Поэтому, не признавая Бестужева бескорыстным, он думал, что непременно должен найти случай так или иначе уличить его в подкупности. И теперь он трудился над этим до пота лица, хотя завтра должно было состояться между ними перемирие. Но Трубецкой едва ли не лучше Бестужева изучил правило: мирись на ссору, ссорься на мир.
В ту самую минуту, как Трубецкой особенно напрягал свою голову, чтобы извлечь из показаний Леклер то, чего нельзя было из них извлечь, он получил из Сената несколько донесений с полнейшим и обстоятельнейшим описанием того, что происходило в Зацепинске в день прибытия туда князя Андрея Васильевича.
Трубецкой на минуту онемел.
«Эге, приятель, это другое дело! Ты очень торопишься в цари попасть. Выходит – приблизить тебя к делу все равно что пустить козла в огород. Не только Бирона, ты и Ришелье хочешь за пояс заткнуть! Все разом захватить желаешь, о приятелях и не думаешь! Нет, постой! Будем как-нибудь пока валандаться с Бестужевым, а тебя, сердись не сердись, выведем на чистую воду; услужим по-приятельски, была не была! Попробуем отстояться!»
Он изорвал все, что перед тем писал, и дело Леклер, за высылкой ее из России, кануло в вечность.
На другой день, поехав обедать к Разумовскому, он взял, на всякий случай, с собой донесение о приеме князя Андрея Васильевича в Зацепинске, раздумывая, показать его канцлеру или не показывать?
Впрочем, Бестужев в это время, с своей стороны, вел также контрапрошу. Он осыпал любезностями адъютанта графа Разумовского Александра Петровича Сумарокова, расспрашивая его о бывшем, в присутствии государыни, представлении воспитанниками единственного тогда корпуса его трагедии «Хорев»; рассыпался в похвалах его сочинениям и говорил, что он хорошо знал его батюшку, Петра Спиридоновича, который ездил от Ягужинского в Митаву предупредить бывшую герцогиню Анну Ивановну против козней Долгоруких и Голицыных, задумавших ограничить ее самодержавие.
– Пострадал тогда за то ваш батюшка, – говорил Бестужев, – зато после пользовался постоянным вниманием покойной государыни, и мы все, добронамеренные люди, всегда встречаем его с уважением, которое с чувством удовольствия переносим и на его сына, тем более что видим его вполне того достойным.
Польщенный вниманием канцлера и его похвалами, самолюбивый писатель был на седьмом небе от восторга.
Переходя затем вновь к сочинениям Сумарокова и к тому, какие пьесы будут представляться, Бестужев изъявил желание быть на всех репетициях следующей пьесы, говоря, что он желает не пропустить ни одного случая доставить себе удовольствие ближе ознакомиться с его действительно образцовыми сочинениями, напоминающими ему, Бестужеву, произведения Расина и Корнеля.
Разумеется, Сумароков таял от радости и на другой же день доставил ему записку о времени и месте репетиции и почтительнейшее приглашение на них от бывшего тогда директором корпуса князя Юсупова.
И вот великий канцлер чуть не ежедневно являлся на репетицию, восхищался стихами Сумарокова, давал советы, указывая, каким образом лучше достигнуть того или другого эффекта, как исполнить то или другое место, как прочитать тот или другой стих.
Но, разговаривая, давая советы и нахваливая автора, великий канцлер, разумеется, не думал ни о представлении, ни о стихах, ни о пьесе. Он был занял исключительно одним питомцем, мальчиком лет восемнадцати, редкой красоты, которого государыня уже заметила и раза три во время представления изволила к нему подходить и кое о чем расспрашивать. Бестужев, по своей рабской должности, счел нужным узнать, чем и кем интересуется государыня, разумеется, для того, чтобы иметь случай, в чем будет возможно, предупредить ее желания.
Дело в том, что, желая уничтожить князя Зацепина, Бестужев очень боялся и Шувалова, не Ивана Ивановича, нет! Этот был слишком еще молод и неопытен, чтобы разом мог взять силу и стать канцлеру опасным. Но войдет в фавор Иван Иванович, возьмет силу и делами заправлять будет Петр Иванович. А это – враг опасный. Он сумеет справиться. Он же и с Разумовским хорош, и с Трубецким друзья закадычные, да и Мавра Егоровна тут. Ясно, что при таких конъюнктурах Бестужеву несдобровать.
Поэтому нельзя ли вместо Ивана Ивановича подготовить своего и сойтись с ним, сдружиться, как Остерман с Левенвольдом. Тогда никаких поверок, никаких комплотов не надо будет бояться. Тогда, в союзе с Разумовским, у которого настолько-то разума хватит, чтобы не замечать ничего, можно будет и Трубецкого, и Шуваловых в трубу пустить; пожалуй, и в застенке с ними поговорить. Надобно поэтому узнать этого мальчика, познакомиться с ним поближе, обласкать.
Вот по этим-то соображениям канцлер, как ни был он занят, ездил на репетицию чуть ли не каждый день, говорил любезности Сумарокову и принимал такое горячее участие в кадетских представлениях.
Обед у Разумовского проходил среди самых искренних, задушевных излияний. Трубецкой и Бестужев, оба, казалось, только и желали одного – взаимной дружбы. Оказывается, что они, несмотря на ссору, так любили, так уважали друг друга, что других таких друзей и в мире нет. Чтобы отделаться от Зацепина, Бестужев предложил отправить его послом в Париж.
– Ему будет лестно, а мы его с рук сбудем, – говорил Бестужев.
На это, однако ж, к великому удивлению Бестужева, Трубецкой возразил:
– Не жирно ли ему будет быть послом? И к чему с ним такая церемония? Опять и то: если точно фавор близко, то его не соблазнишь быть послом, когда он надеется быть чуть не царем. Нет, отделаться от Зацепина я беру на себя, но, ваше сиятельство, услуга за услугу. Прежде всего, как мы уж с графом говорили, поддержать в чем можно Ивана Ивановича, а потом…
И они начали уславливаться, как поделить между собой власть при посредстве Разумовского, который хотел только одного: отстранить князя Зацепина. Впрочем, чтобы сойтись ближе с Разумовским и закрепить это сближение родственной связью, Бестужев сделал тут же ему предложение соединить законным браком своего сына, графа Андрея Алексеевича, с племянницей графа Разумовского Авдотьей Даниловной, дочерью брата его, казака Данилы, умершего прежде, чем граф Алексей Григорьевич попал в случай, и жившей теперь в качестве фрейлины Зимнего дворца. Предложение было принято, и выпивкой столетнего венгерского закрепился новый союз, к которому присоединился и Трубецкой.
– Позвольте узнать, молодой человек, как ваша фамилия? – спросил Бестужев у красавчика юноши, когда после обеда у Разумовского приехал на репетицию.
– Бекетов, ваше сиятельство, – отвечал молодой человек.
– А как по имени и отчеству? – продолжал спрашивать Бестужев.
– Никита Афанасьевич.
– Так, Никита Афанасьевич. Рад с вами познакомиться. Я знал вашего батюшку, Афанасия Никитича, так, кажется, его звали?