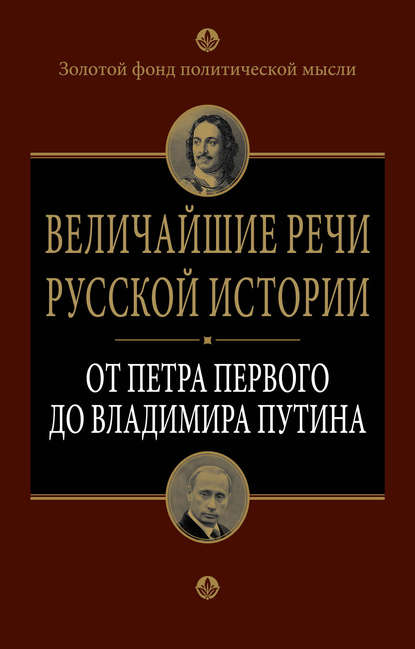По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Величайшие речи русской истории. От Петра Первого до Владимира Путина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мышкин. Если употребляются на дознании такие меры, то где же искать правды? Какой правды! Я правды не буду даже искать, но, по крайней мере, я желал бы, чтобы общество-то знало, какие меры принимаются…
Первоприс[утствующий]. Я не могу дозволить вам говорить об этом…
Мышкин. Сидеть в одиночном заключении, в четырех стенах и при этом не иметь никакой книги – да это хуже всякой пытки. Вот этим и объясняется то громадное число случаев смертности и сумасшествия, которые обнаружились по этому делу. Многие из товарищей моих уже сошли в могилу и не дождались суда…
Первоприс[утствующий]. Если они не дождались суда…
Мышкин. Именно вследствие этой пытки, а вы ценой той каторги, которая меня ожидает, каторги очень продолжительной, не даете права сказать, несколько слов об этом крайнем беззаконии, которому я подвергался…
Первоприс[утствующий]. Вы продолжаете неприлично…
Мышкин. Я не совсем кончил, позвольте мне докончить…
Первоприс[утствующий]. В настоящее время это не относится к делу. Теперь мы производим судебное следствие…
Мышкин. Значит, мне не позволяется…
Первоприс[утствующий]. Вы прерываете ход следствия…
Мышкин. Вот и вы точно так же не позволили мне возразить на общий вывод прокурора. Тогда я считаю себя обязанным сделать последнее заявление. Теперь я вижу, что у нас нет публичности, нет гласности, нет не только возможности располагать всем фактическим материалом, которым располагает противная сторона, но даже возможности выяснить истинный характер дела, и где же? В стенах зала суда! Теперь я вижу, что товарищи мои были правы, заранее отказавшись от всяких объяснений на суде, потому что были убеждены в том, что здесь, в зале суда, не может раздаваться правдивая речь, что за каждое откровенное слово здесь зажимают рот подсудимому. Теперь я имею полное право сказать, что это не суд, а пустая комедия… или… нечто худшее, более отвратительное, позорное, более позорное…
При словах «пустая комедия» [первоприсутствующий сенатор] Петере закричал: – Уведите его…
Жандармский офицер бросился на Мышкина, но подсудимый Рабинович, загородив собою дорогу и придерживая дверцу, ведущую на «голгофу», не пускал офицера; последний после нескольких усилий оттолкнул Рабиновича и другого подсудимого, Стопане, старавшегося также остановить его, и обхвативши одною рукою самого Мышкина, чтобы вывести его, другою стал зажимать ему рот. Последнее, однако ж, не удалось: Мышкин продолжал все громче и громче начатую им фразу:
…более позорное, чем дом терпимости: там женщина из-за нужды торгует своим телом, а здесь сенаторы из подлости, из холопства, из-за чинов и крупных окладов торгуют чужой жизнью, истиной и справедливостью, торгуют всем, что есть наиболее дорогого для человечества.
Когда Мышкин говорил это, на помощь офицеру бросились еще несколько жандармов, и завязалась борьба. Жандармы смяли Рабиновича, преграждавшего им дорогу, схватили Мышкина и вытащили его из залы. Подсудимый Стопане приблизился к решетке, отделяющей его от судей, и громко закричал:
– Это не суд! Мерзавцы! Я вас презираю, негодяи, холопы!
Жандарм схватил его за грудь, потом толкнул в шею, другие подхватили и потащили. То же последовало и с Рабиновичем. Эта сцена безобразного насилия вызвала громкие крики негодования со стороны подсудимых и публики. Публика инстинктивно вскочила со своих мест. Страшный шум заглушил конец фразы Мышкина. Вообще во время этой башибузукской расправы с подсудимыми в зале господствовало величайшее смятение. Несколько женщин из числа подсудимых и публики упали в обморок, с одной случился истерический припадок. Раздавались стоны, истерический хохот, крики:
– Боже мой, что это делают! Варвары! Бьют, колют подсудимых! Палачи, живодеры проклятые!
Защитники, приставы, публика, жандармы – все это задвигалось, заволновалось. Так как публика не обнаружила особой готовности очистить залу, то явилось множество полицейских, и под их напором публика была выпровождена из залы суда. Часть защитников старалась привести в чувство женщин, упавших в обморок. Рассказывают, что туда же сунулся жандармский офицер.
– Что вам нужно? – спрашивает его один из защитников.
– Может быть, понадобятся мои услуги?
– Уйдите, пожалуйста, разве вы не видите, что один ваш вид приводит людей в бешенство? – ответил адвокат.
Офицер махнул рукой и ушел, последовав умному совету. Во время расправы первоприсутствующего с подсудимыми прокурор и секретарь вскочили со своих мест и, видимо, смущенные оставались все время на ногах. Первоприсутствующий ушел и, растерявшись, позабыл объявить заседание закрытым. Пристав от его имени объявил заседание закрытым. Говорят, будто защитники возразили, что им нужно слышать это из уст самого председателя. Поэтому они были приглашены в особую комнату, где первоприсутствующий объявил им о закрытии заседания. Защитники требовали составления протокола о кулачной расправе, но первоприсутствующий не счел нужным удовлетворить их просьбу и даже упрекнул адвокатов в подстрекательстве. [Обер-прокурор Сената] Желеховский воскликнул по этому поводу: – Это чистая революция.
Публикуется по: Журнал Скепсис (http://scepsis.ru/library/id_2964.html#a1 (http://scepsis.ru/library/id_2964.html#a1)) В этой публикации дана стенограмма заседания суда: ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 792. Лл. 60–69, 83–89. Подлинник.
«Процесс ста девяноста трех» («Большой процесс», официальное название – «Дело о пропаганде в Империи») – судебное дело революционеров-народников, разбиравшееся в Петербурге в Особом присутствии Правительствующего сената с 18 (30) октября 1877 по 23 января (4 февраля) 1878 года. К суду были привлечены участники «хождения в народ», которые были арестованы за революционную пропаганду с 1873 по 1877 год. Хотя подсудимые состояли в большом количестве различных организаций, большинство из них привлекалось как организаторы единого тайного революционного сообщества. Главными обвиняемыми стали народники С. Ф. Ковалик, П. И. Войнаральский, Д. М. Рогачев и И. Н. Мышкин. Общее число арестованных по делу достигало четырех тысяч человек, однако многие еще до суда были сосланы в административном порядке, часть была отпущена за отсутствием улик, 97 человек умерли или сошли с ума. Наиболее интересным моментом суда явилась речь Мышкина, в которой он подробно рассказал о причинах и задачах революционного движения, а также обвинил суд в необъективности и некомпетентности, назвав его «домом терпимости». Речь Ипполита Никитича Мышкина настолько потрясла судей, что на следующий день он не был вызван в суд, хотя следствие шло как раз по его делу. На запрос защитника Утина по этому поводу первоприсутствующий ответил, что ни он, ни Особое присутствие «не признает возможным пригласить Мышкина вновь, опасаясь еще других, более неприятных последствий его явки». Невзирая на то, что защитник Утин настаивал на вызове Мышкина в суд (последний, по словам Утина, не отказывается продолжать давать свои объяснения суду), указывая на явное нарушение закона и беспрецедентность такого действия со стороны суда, первоприсутствующий еще раз ответил отказом, добавив, что «суд признает положительно опасным вызывать Мышкина». Эта речь была нелегально издана и распространена.
Процесс получил широкую огласку не только в России, но и за границей; произошло несколько скандалов, связанных со слабостью доказательной базы и обвинениями в необъективности суда.
Петр Алексеев
Речь на «процессе пятидесяти»
9 марта 1877 г.
Мы, миллионы людей рабочего населения, чуть только станем сами ступать на ноги, бываем брошены отцами и матерями на произвол судьбы, не получая никакого воспитания, за неимением школ и времени от непосильного труда и скудного за это вознаграждение. Десяти лет – мальчишками – нас стараются проводить с хлеба долой на заработки. Что же нас там ожидает? Понятно, продаемся капиталисту на сдельную работу из-за куска черного хлеба, поступаем под присмотром взрослых, которые розгами и пинками приучают нас к непосильному труду; питаемся кое-чем, задыхаемся от пыли и испорченного, зараженного разными нечистотами воздуха. Спим, где попало, – на полу, без всякой постели и подушки в головах, завернутые в какое-нибудь лохмотье и окруженные со всех сторон бесчисленным множеством всяких паразитов… В таком положении некоторые навсегда затупляют свою умственную способность, и не развиваются нравственные понятия, усвоенные еще в детстве; остается все то, что только может выразить одна грубо воспитанная, всеми забытая, от всякой цивилизации изолированная, мускульным трудом зарабатывающая хлеб рабочая среда. Вот что нам, рабочим, приходится выстрадать под ярмом капитализма в этот детский период! И какое мы можем усвоить понятие по отношению к капиталисту, кроме ненависти? Под влиянием таких жизненных условий с малолетства закаляется у нас решимость до поры терпеть, с затаенной ненавистью в сердце, весь давящий нас гнет капиталистов и без возражений переносить все причиняемые нам оскорбления.
Взрослому работнику заработную плату довели до минимума; из этого заработка все капиталисты без зазрения совести стараются всевозможными способами отнимать у рабочих трудовую копейку и считают этот грабеж доходом. Самые лучшие для рабочих из московских фабрикантов и те, сверх скудного заработка, эксплуатируют и тиранят рабочих следующим образом. Рабочий отдается капиталисту за задельную работу беспрекословно и с точностью исполнять все рабочие дни и работу, для которой поступил, не исключая и бесплатных хозяйских чередов. Рабочие склоняются перед капиталистом, когда им, по праву или не по праву, пишут штраф, боясь лишиться куска хлеба, который достается им 17-часовым дневным трудом. Впрочем, я не берусь описывать подробности всех злоупотреблений фабрикантов, потому что слова мои могут показаться неправдоподобными для тех, которые не хотят знать жизни работников и не видели московских рабочих, живущих у знаменитых русских фабрикантов: Бабкина, Гучкова, Бутикова, Морозова и других…
Председатель сенатор Петерс. Это все равно. Вы можете этого не говорить.
Петр Алексеев. Да, действительно, все равно, везде одинаково рабочие доведены до самого жалкого состояния. 17-часовой дневной труд – и едва можно заработать 40 копеек! Это ужасно! При такой дороговизне съестных припасов приходится выделять из этого скудного заработка на поддержку семейного существования и уплату казенных податей! Нет! При настоящих условиях жизни работников невозможно удовлетворять самым необходимейшим потребностям человека. Пусть пока они умирают голодной медленной смертью, а мы, скрепя сердце, будем смотреть на них до тех пор, пока освободим из-под ярма нашу усталую руку и свободно сможем тогда протянуть ее для помощи другим! Отчасти все это странно, все это непонятно, темно и отчасти как-то прискорбно, а в особенности сидеть на скамье подсудимых человеку, который чуть ли не с самой колыбели всю свою жизнь зарабатывал 17-часовым трудом кусок черного хлеба. Я несколько знаком с рабочим вопросом наших собратьев-западников. Они во многом не походят на русских: там не преследуют, как у нас, тех рабочих, которые все свои свободные минуты и много бессонных ночей проводят за чтением книг; напротив, там этим гордятся, а о нас отзываются, как о народе рабском, полудиком. Да как иначе о нас отзываться? Разве у нас есть свободное время для каких-либо занятий? Разве у нас учат с малолетства чему-нибудь бедняка? Разве у нас есть полезные и доступные книги для работника? Где и чему они могут научиться? А загляните в русскую народную литературу! Ничего не может быть разительнее того примера, что у нас издаются для народного чтения такие книги, как «Бова королевич», «Еруслан Лазаревич», «Ванька Каин», «Жених в чернилах и невеста во щах» и т. под. Оттого-то в нашем рабочем народе и сложились такие понятия о чтении: одно – забавное, а другое – божественное. Я думаю, каждому известно, что у нас в России рабочие все еще не избавлены от преследований за чтение книг; а в особенности, если у него увидят книгу, в которой говорится о его положении – тогда уж держись! Ему прямо говорят: «ты, брат, не похож на рабочего, ты читаешь книги». И страннее всего то, что и иронии не заметно в этих словах, что в России походить на рабочего то же, что походить на животное. Господа! Неужели кто полагает, что мы, работники, ко всему настолько глухи, слепы и немы, и глупы, что не слышим, как нас ругают дураками, лентяями, пьяницами? Что уж как будто и на самом деле работники заслуживают слыть в таких пороках? Неужели мы не видим, как вокруг нас все богатеют и веселятся за нашей спиной? Неужели мы не можем сообразить и понять, почему это мы так дешево ценимся, и куда девается наш невыносимый труд? Отчего это другие роскошествуют, не трудясь, и откуда берется ихнее богатство? Неужели мы, работники, не чувствуем, как тяжело повисла на нас так называемая всесословная воинская повинность? Неужели мы не знаем, как медленно и нехотя решался вопрос о введении сельских школ для образования крестьян, и не видим, как сумели это поставить? Неужели нам не грустно и не больно было читать в газетах высказанное мнение о найме рабочего класса? Те люди, которые такого мнения о рабочем народе, что он не чувствителен и ничего не понимает, глубоко ошибаются. Рабочий же народ, хотя и остается в первобытном положении и до настоящего времени не получает никакого образования, смотрит на это, как на временное зло, как и на самую правительственную власть, временно захваченную силой, и только для одного разнообразия ворочающую все с лица да на изнанку. Да больше и ждать от нее нечего! Мы, рабочие, желали и ждали от правительства, что оно не будет делать тягостных для нас нововведений, не станет поддерживать рутины и обеспечит материально крестьянина, выведет нас из первобытного положения и пойдет скорыми шагами вперед. Но, увы!
Если оглянемся назад, то получаем полное разочарование, и если при этом вспомним незабвенный, предполагаемый день для русского народа, день, в который он, с распростертыми руками, полный чувства радости и надежды обеспечить свою будущую судьбу, благодарил царя и правительство – 19 февраля. И что же? И это для нас было только одной мечтой и сном! Эта крестьянская реформа 19 февраля 61 года, реформа «дарованная», хотя и необходимая, но не вызванная самим народом, не обеспечивает самые необходимые потребности крестьянина. Мы по-прежнему остались без куска хлеба с клочками никуда не годной земли и перешли в зависимость к капиталисту. Именно, если свидетель, приказчик фабрики Носовых, говорит, что у него за исключением праздничного дня все рабочие под строгим надзором, и не явившийся в назначенный срок на работу не остается безнаказанным, а окружающие ихнюю сотни подобных же фабрик набиты крестьянским народом, живущим при таких же условиях, – значит, они все крепостные!
Если мы, к сожалению, нередко бываем вынуждены просить повышения пониженной самим капиталистов заработной платы, нас обвиняют в стачке и ссылают в Сибирь, – значит, и мы крепостные! Если мы со стороны самого капиталиста вынуждены оставить фабрику и требовать расчета, вследствие перемены доброты материала и притеснения от разных штрафов, нас обвиняют в составлении бунта и прикладом солдатского ружья приневоливают продолжать у него работу, а некоторых, как зачинщиков, ссылают в дальние края, – значит, мы крепостные! Если из нас каждый отдельно не может подавать жалобу на капиталиста и первый же встречный квартальный бьет нас в зубы кулаком и пинками гонит вон, – значит, мы крепостные!
Из всего мною вышесказанного видно, что русскому рабочему народу остается только надеяться на самих себя и не от кого ожидать помощи, кроме как от одной нашей интеллигентской молодежи…
Председатель вскакивает и кричит: «Молчите! Замолчите!»
Петр Алексеев (возвысив голос, продолжает): Она одна братски протянула к нам свою руку. Она одна откликнулась, подала свой голос на все слышанные крестьянские стоны Российском империи. Она одна до глубины души прочувствовала, что значат и от чего это отовсюду слышны крестьянские стоны. Она одна не может холодно смотреть на этого изнуренного, стонущего под ярмом деспотизма, угнетенного крестьянина. Она одна, как добрый друг, братски протянула к нам свою руку и от искреннего сердца желает вытащить нас из затягивающейся пучины на благоприятный для всех стонущих путь. Она одна, не опуская руки, ведет нас, раскрывая все отрасли для выхода всех наших собратьев из этой лукаво построенной ловушки, до тех пор, пока не сделает нас самостоятельными проводниками к общему благу народа. И она одна неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока (говорит, подняв руку) подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда…
Председатель волнуется и, вскочив, кричит: «Молчать! Молчать!»
Петр Алексеев (возвышая голос)…. и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!..
Публикуется по: Две речи. Спб., 1906. С. 7—14.
Петр Алексеевич Алексеев (1849–1891) родился в деревне Новинской Смоленской губернии, в семье бедного крестьянина. С детства работал на ткацких фабриках в Москве и Петербурге. В начале 1870-х гг. сблизился с революционерами-народниками. Вел пропаганду их идей и распространял среди рабочих подрывную литературу. С конца 1874 г. – член Всероссийской социально-революционной организации (оформившейся под этим названием в 1875 г.), целью которой было свержение государственного строя России ради установления «политических свобод». В апреле 1875 г. Алексеев был арестован. Суд над членами Всероссийской социально-революционной организации получил название «процесс 50-ти». Главным обвинением, выдвинутым против подсудимых, было участие в «тайном сообществе, задавшемся целью ниспровержения существующего порядка». 9 марта 1877 Петр Алексеев произнес на суде речь, которая сделала его знаменитым. В своей речи на суде он обрисовал те ужасные условия, в которых жил тогда рабочий класс, дал оценку «крестьянской реформе». Председатель суда несколько раз прерывал Петра Алексеева. Речь Петра Алексеева, произвела огромное впечатление не только на публику, но и на часовых-жандармов и судей. Речь была напечатана в революционном издании «Вперед» (1877, т. 5) и много раз перепечатывалась революционными группами.
П. А. Александров
Судебная речь в защиту Веры Засулич
31 марта 1878 г.
Господа присяжные заседатели!
Я выслушал благородную, сдержанную речь товарища прокурора, и со многим из того, что сказано им, я совершенно согласен; мы расходимся лишь в весьма немногом, но, тем не менее, задача моя после речи господина прокурора не оказалась облегченной. Не в фактах настоящего дела, не в сложности их лежит его трудность; дело это просто по своим обстоятельствам, до того просто, что если ограничиться одним только событием 24 января, тогда почти и рассуждать не придется. Кто станет отрицать, что самоуправное убийство есть преступление; кто будет отрицать то, что утверждает подсудимая, что тяжело поднимать руку для самоуправной расправы?
Все это истины, против которых нельзя спорить, но дело в том, что событие 24 января не может быть рассматриваемо отдельно от другого случая: оно так связуется, так переплетается с фактом совершившегося в доме предварительного заключения 13 июля, что если непонятным будет смысл покушения, произведенного В. Засулич на жизнь генерал-адъютанта Трепова, то его можно уяснить, только сопоставляя это покушение с теми мотивами, начало которых положено было происшествием в доме предварительного заключения. В самом сопоставлении, собственно говоря, не было бы ничего трудного; очень нередко разбирается не только такое преступление, но и тот факт, который дал мотив этому преступлению. Но в настоящем деле эта связь до некоторой степени усложняется, и разъяснение ее затрудняется. В самом деле, нет сомнения, что распоряжение генерал-адъютанта Трепова было должностное распоряжение.
Но должностное лицо мы теперь не судим, и генерал-адъютант Трепов является здесь в настоящее время не в качестве подсудимого должностного лица, а в качестве свидетеля, лица, потерпевшего от преступления; кроме того, чувство приличия, которое мы не решились бы преступить в защите нашей и которое не может не внушить нам известной сдержанности относительно генерал-адъютанта Трепова как лица, потерпевшего от преступления, я очень хорошо понимаю, что не могу касаться действий должностного лица и обсуждать их так, как они обсуждаются, когда это должностное лицо предстоит в качестве подсудимого. Но из того затруднительного положения, в котором находится защита в этом деле, можно, мне кажется, выйти следующим образом.
Всякое должностное, начальствующее лицо представляется мне в виде двуликого Януса, поставленного в храме, на горе; одна сторона этого Януса обращена к закону, к начальству, к суду; она ими освещается и обсуждается; обсуждение здесь полное, веское, правдивое; другая сторона обращена к нам, простым смертным, стоящим в притворе храма, под горой. На эту сторону мы смотрим, и она бывает не всегда одинаково освещена для нас. Мы к ней подходим иногда только с простым фонарем, с грошовой свечкой, с тусклой лампой, многое для нас темно, многое наводит нас на такие суждения, которые не согласуются со взглядами начальства, суда на те же действия должностного лица. Но мы живем в этих, может быть, иногда и ошибочных понятиях, на основании их мы питаем те или другие чувства к должностному лицу, порицаем его или славословим его, любим или остаемся к нему равнодушны, радуемся, если находим распоряжения вполне справедливыми.
Первоприс[утствующий]. Я не могу дозволить вам говорить об этом…
Мышкин. Сидеть в одиночном заключении, в четырех стенах и при этом не иметь никакой книги – да это хуже всякой пытки. Вот этим и объясняется то громадное число случаев смертности и сумасшествия, которые обнаружились по этому делу. Многие из товарищей моих уже сошли в могилу и не дождались суда…
Первоприс[утствующий]. Если они не дождались суда…
Мышкин. Именно вследствие этой пытки, а вы ценой той каторги, которая меня ожидает, каторги очень продолжительной, не даете права сказать, несколько слов об этом крайнем беззаконии, которому я подвергался…
Первоприс[утствующий]. Вы продолжаете неприлично…
Мышкин. Я не совсем кончил, позвольте мне докончить…
Первоприс[утствующий]. В настоящее время это не относится к делу. Теперь мы производим судебное следствие…
Мышкин. Значит, мне не позволяется…
Первоприс[утствующий]. Вы прерываете ход следствия…
Мышкин. Вот и вы точно так же не позволили мне возразить на общий вывод прокурора. Тогда я считаю себя обязанным сделать последнее заявление. Теперь я вижу, что у нас нет публичности, нет гласности, нет не только возможности располагать всем фактическим материалом, которым располагает противная сторона, но даже возможности выяснить истинный характер дела, и где же? В стенах зала суда! Теперь я вижу, что товарищи мои были правы, заранее отказавшись от всяких объяснений на суде, потому что были убеждены в том, что здесь, в зале суда, не может раздаваться правдивая речь, что за каждое откровенное слово здесь зажимают рот подсудимому. Теперь я имею полное право сказать, что это не суд, а пустая комедия… или… нечто худшее, более отвратительное, позорное, более позорное…
При словах «пустая комедия» [первоприсутствующий сенатор] Петере закричал: – Уведите его…
Жандармский офицер бросился на Мышкина, но подсудимый Рабинович, загородив собою дорогу и придерживая дверцу, ведущую на «голгофу», не пускал офицера; последний после нескольких усилий оттолкнул Рабиновича и другого подсудимого, Стопане, старавшегося также остановить его, и обхвативши одною рукою самого Мышкина, чтобы вывести его, другою стал зажимать ему рот. Последнее, однако ж, не удалось: Мышкин продолжал все громче и громче начатую им фразу:
…более позорное, чем дом терпимости: там женщина из-за нужды торгует своим телом, а здесь сенаторы из подлости, из холопства, из-за чинов и крупных окладов торгуют чужой жизнью, истиной и справедливостью, торгуют всем, что есть наиболее дорогого для человечества.
Когда Мышкин говорил это, на помощь офицеру бросились еще несколько жандармов, и завязалась борьба. Жандармы смяли Рабиновича, преграждавшего им дорогу, схватили Мышкина и вытащили его из залы. Подсудимый Стопане приблизился к решетке, отделяющей его от судей, и громко закричал:
– Это не суд! Мерзавцы! Я вас презираю, негодяи, холопы!
Жандарм схватил его за грудь, потом толкнул в шею, другие подхватили и потащили. То же последовало и с Рабиновичем. Эта сцена безобразного насилия вызвала громкие крики негодования со стороны подсудимых и публики. Публика инстинктивно вскочила со своих мест. Страшный шум заглушил конец фразы Мышкина. Вообще во время этой башибузукской расправы с подсудимыми в зале господствовало величайшее смятение. Несколько женщин из числа подсудимых и публики упали в обморок, с одной случился истерический припадок. Раздавались стоны, истерический хохот, крики:
– Боже мой, что это делают! Варвары! Бьют, колют подсудимых! Палачи, живодеры проклятые!
Защитники, приставы, публика, жандармы – все это задвигалось, заволновалось. Так как публика не обнаружила особой готовности очистить залу, то явилось множество полицейских, и под их напором публика была выпровождена из залы суда. Часть защитников старалась привести в чувство женщин, упавших в обморок. Рассказывают, что туда же сунулся жандармский офицер.
– Что вам нужно? – спрашивает его один из защитников.
– Может быть, понадобятся мои услуги?
– Уйдите, пожалуйста, разве вы не видите, что один ваш вид приводит людей в бешенство? – ответил адвокат.
Офицер махнул рукой и ушел, последовав умному совету. Во время расправы первоприсутствующего с подсудимыми прокурор и секретарь вскочили со своих мест и, видимо, смущенные оставались все время на ногах. Первоприсутствующий ушел и, растерявшись, позабыл объявить заседание закрытым. Пристав от его имени объявил заседание закрытым. Говорят, будто защитники возразили, что им нужно слышать это из уст самого председателя. Поэтому они были приглашены в особую комнату, где первоприсутствующий объявил им о закрытии заседания. Защитники требовали составления протокола о кулачной расправе, но первоприсутствующий не счел нужным удовлетворить их просьбу и даже упрекнул адвокатов в подстрекательстве. [Обер-прокурор Сената] Желеховский воскликнул по этому поводу: – Это чистая революция.
Публикуется по: Журнал Скепсис (http://scepsis.ru/library/id_2964.html#a1 (http://scepsis.ru/library/id_2964.html#a1)) В этой публикации дана стенограмма заседания суда: ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 792. Лл. 60–69, 83–89. Подлинник.
«Процесс ста девяноста трех» («Большой процесс», официальное название – «Дело о пропаганде в Империи») – судебное дело революционеров-народников, разбиравшееся в Петербурге в Особом присутствии Правительствующего сената с 18 (30) октября 1877 по 23 января (4 февраля) 1878 года. К суду были привлечены участники «хождения в народ», которые были арестованы за революционную пропаганду с 1873 по 1877 год. Хотя подсудимые состояли в большом количестве различных организаций, большинство из них привлекалось как организаторы единого тайного революционного сообщества. Главными обвиняемыми стали народники С. Ф. Ковалик, П. И. Войнаральский, Д. М. Рогачев и И. Н. Мышкин. Общее число арестованных по делу достигало четырех тысяч человек, однако многие еще до суда были сосланы в административном порядке, часть была отпущена за отсутствием улик, 97 человек умерли или сошли с ума. Наиболее интересным моментом суда явилась речь Мышкина, в которой он подробно рассказал о причинах и задачах революционного движения, а также обвинил суд в необъективности и некомпетентности, назвав его «домом терпимости». Речь Ипполита Никитича Мышкина настолько потрясла судей, что на следующий день он не был вызван в суд, хотя следствие шло как раз по его делу. На запрос защитника Утина по этому поводу первоприсутствующий ответил, что ни он, ни Особое присутствие «не признает возможным пригласить Мышкина вновь, опасаясь еще других, более неприятных последствий его явки». Невзирая на то, что защитник Утин настаивал на вызове Мышкина в суд (последний, по словам Утина, не отказывается продолжать давать свои объяснения суду), указывая на явное нарушение закона и беспрецедентность такого действия со стороны суда, первоприсутствующий еще раз ответил отказом, добавив, что «суд признает положительно опасным вызывать Мышкина». Эта речь была нелегально издана и распространена.
Процесс получил широкую огласку не только в России, но и за границей; произошло несколько скандалов, связанных со слабостью доказательной базы и обвинениями в необъективности суда.
Петр Алексеев
Речь на «процессе пятидесяти»
9 марта 1877 г.
Мы, миллионы людей рабочего населения, чуть только станем сами ступать на ноги, бываем брошены отцами и матерями на произвол судьбы, не получая никакого воспитания, за неимением школ и времени от непосильного труда и скудного за это вознаграждение. Десяти лет – мальчишками – нас стараются проводить с хлеба долой на заработки. Что же нас там ожидает? Понятно, продаемся капиталисту на сдельную работу из-за куска черного хлеба, поступаем под присмотром взрослых, которые розгами и пинками приучают нас к непосильному труду; питаемся кое-чем, задыхаемся от пыли и испорченного, зараженного разными нечистотами воздуха. Спим, где попало, – на полу, без всякой постели и подушки в головах, завернутые в какое-нибудь лохмотье и окруженные со всех сторон бесчисленным множеством всяких паразитов… В таком положении некоторые навсегда затупляют свою умственную способность, и не развиваются нравственные понятия, усвоенные еще в детстве; остается все то, что только может выразить одна грубо воспитанная, всеми забытая, от всякой цивилизации изолированная, мускульным трудом зарабатывающая хлеб рабочая среда. Вот что нам, рабочим, приходится выстрадать под ярмом капитализма в этот детский период! И какое мы можем усвоить понятие по отношению к капиталисту, кроме ненависти? Под влиянием таких жизненных условий с малолетства закаляется у нас решимость до поры терпеть, с затаенной ненавистью в сердце, весь давящий нас гнет капиталистов и без возражений переносить все причиняемые нам оскорбления.
Взрослому работнику заработную плату довели до минимума; из этого заработка все капиталисты без зазрения совести стараются всевозможными способами отнимать у рабочих трудовую копейку и считают этот грабеж доходом. Самые лучшие для рабочих из московских фабрикантов и те, сверх скудного заработка, эксплуатируют и тиранят рабочих следующим образом. Рабочий отдается капиталисту за задельную работу беспрекословно и с точностью исполнять все рабочие дни и работу, для которой поступил, не исключая и бесплатных хозяйских чередов. Рабочие склоняются перед капиталистом, когда им, по праву или не по праву, пишут штраф, боясь лишиться куска хлеба, который достается им 17-часовым дневным трудом. Впрочем, я не берусь описывать подробности всех злоупотреблений фабрикантов, потому что слова мои могут показаться неправдоподобными для тех, которые не хотят знать жизни работников и не видели московских рабочих, живущих у знаменитых русских фабрикантов: Бабкина, Гучкова, Бутикова, Морозова и других…
Председатель сенатор Петерс. Это все равно. Вы можете этого не говорить.
Петр Алексеев. Да, действительно, все равно, везде одинаково рабочие доведены до самого жалкого состояния. 17-часовой дневной труд – и едва можно заработать 40 копеек! Это ужасно! При такой дороговизне съестных припасов приходится выделять из этого скудного заработка на поддержку семейного существования и уплату казенных податей! Нет! При настоящих условиях жизни работников невозможно удовлетворять самым необходимейшим потребностям человека. Пусть пока они умирают голодной медленной смертью, а мы, скрепя сердце, будем смотреть на них до тех пор, пока освободим из-под ярма нашу усталую руку и свободно сможем тогда протянуть ее для помощи другим! Отчасти все это странно, все это непонятно, темно и отчасти как-то прискорбно, а в особенности сидеть на скамье подсудимых человеку, который чуть ли не с самой колыбели всю свою жизнь зарабатывал 17-часовым трудом кусок черного хлеба. Я несколько знаком с рабочим вопросом наших собратьев-западников. Они во многом не походят на русских: там не преследуют, как у нас, тех рабочих, которые все свои свободные минуты и много бессонных ночей проводят за чтением книг; напротив, там этим гордятся, а о нас отзываются, как о народе рабском, полудиком. Да как иначе о нас отзываться? Разве у нас есть свободное время для каких-либо занятий? Разве у нас учат с малолетства чему-нибудь бедняка? Разве у нас есть полезные и доступные книги для работника? Где и чему они могут научиться? А загляните в русскую народную литературу! Ничего не может быть разительнее того примера, что у нас издаются для народного чтения такие книги, как «Бова королевич», «Еруслан Лазаревич», «Ванька Каин», «Жених в чернилах и невеста во щах» и т. под. Оттого-то в нашем рабочем народе и сложились такие понятия о чтении: одно – забавное, а другое – божественное. Я думаю, каждому известно, что у нас в России рабочие все еще не избавлены от преследований за чтение книг; а в особенности, если у него увидят книгу, в которой говорится о его положении – тогда уж держись! Ему прямо говорят: «ты, брат, не похож на рабочего, ты читаешь книги». И страннее всего то, что и иронии не заметно в этих словах, что в России походить на рабочего то же, что походить на животное. Господа! Неужели кто полагает, что мы, работники, ко всему настолько глухи, слепы и немы, и глупы, что не слышим, как нас ругают дураками, лентяями, пьяницами? Что уж как будто и на самом деле работники заслуживают слыть в таких пороках? Неужели мы не видим, как вокруг нас все богатеют и веселятся за нашей спиной? Неужели мы не можем сообразить и понять, почему это мы так дешево ценимся, и куда девается наш невыносимый труд? Отчего это другие роскошествуют, не трудясь, и откуда берется ихнее богатство? Неужели мы, работники, не чувствуем, как тяжело повисла на нас так называемая всесословная воинская повинность? Неужели мы не знаем, как медленно и нехотя решался вопрос о введении сельских школ для образования крестьян, и не видим, как сумели это поставить? Неужели нам не грустно и не больно было читать в газетах высказанное мнение о найме рабочего класса? Те люди, которые такого мнения о рабочем народе, что он не чувствителен и ничего не понимает, глубоко ошибаются. Рабочий же народ, хотя и остается в первобытном положении и до настоящего времени не получает никакого образования, смотрит на это, как на временное зло, как и на самую правительственную власть, временно захваченную силой, и только для одного разнообразия ворочающую все с лица да на изнанку. Да больше и ждать от нее нечего! Мы, рабочие, желали и ждали от правительства, что оно не будет делать тягостных для нас нововведений, не станет поддерживать рутины и обеспечит материально крестьянина, выведет нас из первобытного положения и пойдет скорыми шагами вперед. Но, увы!
Если оглянемся назад, то получаем полное разочарование, и если при этом вспомним незабвенный, предполагаемый день для русского народа, день, в который он, с распростертыми руками, полный чувства радости и надежды обеспечить свою будущую судьбу, благодарил царя и правительство – 19 февраля. И что же? И это для нас было только одной мечтой и сном! Эта крестьянская реформа 19 февраля 61 года, реформа «дарованная», хотя и необходимая, но не вызванная самим народом, не обеспечивает самые необходимые потребности крестьянина. Мы по-прежнему остались без куска хлеба с клочками никуда не годной земли и перешли в зависимость к капиталисту. Именно, если свидетель, приказчик фабрики Носовых, говорит, что у него за исключением праздничного дня все рабочие под строгим надзором, и не явившийся в назначенный срок на работу не остается безнаказанным, а окружающие ихнюю сотни подобных же фабрик набиты крестьянским народом, живущим при таких же условиях, – значит, они все крепостные!
Если мы, к сожалению, нередко бываем вынуждены просить повышения пониженной самим капиталистов заработной платы, нас обвиняют в стачке и ссылают в Сибирь, – значит, и мы крепостные! Если мы со стороны самого капиталиста вынуждены оставить фабрику и требовать расчета, вследствие перемены доброты материала и притеснения от разных штрафов, нас обвиняют в составлении бунта и прикладом солдатского ружья приневоливают продолжать у него работу, а некоторых, как зачинщиков, ссылают в дальние края, – значит, мы крепостные! Если из нас каждый отдельно не может подавать жалобу на капиталиста и первый же встречный квартальный бьет нас в зубы кулаком и пинками гонит вон, – значит, мы крепостные!
Из всего мною вышесказанного видно, что русскому рабочему народу остается только надеяться на самих себя и не от кого ожидать помощи, кроме как от одной нашей интеллигентской молодежи…
Председатель вскакивает и кричит: «Молчите! Замолчите!»
Петр Алексеев (возвысив голос, продолжает): Она одна братски протянула к нам свою руку. Она одна откликнулась, подала свой голос на все слышанные крестьянские стоны Российском империи. Она одна до глубины души прочувствовала, что значат и от чего это отовсюду слышны крестьянские стоны. Она одна не может холодно смотреть на этого изнуренного, стонущего под ярмом деспотизма, угнетенного крестьянина. Она одна, как добрый друг, братски протянула к нам свою руку и от искреннего сердца желает вытащить нас из затягивающейся пучины на благоприятный для всех стонущих путь. Она одна, не опуская руки, ведет нас, раскрывая все отрасли для выхода всех наших собратьев из этой лукаво построенной ловушки, до тех пор, пока не сделает нас самостоятельными проводниками к общему благу народа. И она одна неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока (говорит, подняв руку) подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда…
Председатель волнуется и, вскочив, кричит: «Молчать! Молчать!»
Петр Алексеев (возвышая голос)…. и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!..
Публикуется по: Две речи. Спб., 1906. С. 7—14.
Петр Алексеевич Алексеев (1849–1891) родился в деревне Новинской Смоленской губернии, в семье бедного крестьянина. С детства работал на ткацких фабриках в Москве и Петербурге. В начале 1870-х гг. сблизился с революционерами-народниками. Вел пропаганду их идей и распространял среди рабочих подрывную литературу. С конца 1874 г. – член Всероссийской социально-революционной организации (оформившейся под этим названием в 1875 г.), целью которой было свержение государственного строя России ради установления «политических свобод». В апреле 1875 г. Алексеев был арестован. Суд над членами Всероссийской социально-революционной организации получил название «процесс 50-ти». Главным обвинением, выдвинутым против подсудимых, было участие в «тайном сообществе, задавшемся целью ниспровержения существующего порядка». 9 марта 1877 Петр Алексеев произнес на суде речь, которая сделала его знаменитым. В своей речи на суде он обрисовал те ужасные условия, в которых жил тогда рабочий класс, дал оценку «крестьянской реформе». Председатель суда несколько раз прерывал Петра Алексеева. Речь Петра Алексеева, произвела огромное впечатление не только на публику, но и на часовых-жандармов и судей. Речь была напечатана в революционном издании «Вперед» (1877, т. 5) и много раз перепечатывалась революционными группами.
П. А. Александров
Судебная речь в защиту Веры Засулич
31 марта 1878 г.
Господа присяжные заседатели!
Я выслушал благородную, сдержанную речь товарища прокурора, и со многим из того, что сказано им, я совершенно согласен; мы расходимся лишь в весьма немногом, но, тем не менее, задача моя после речи господина прокурора не оказалась облегченной. Не в фактах настоящего дела, не в сложности их лежит его трудность; дело это просто по своим обстоятельствам, до того просто, что если ограничиться одним только событием 24 января, тогда почти и рассуждать не придется. Кто станет отрицать, что самоуправное убийство есть преступление; кто будет отрицать то, что утверждает подсудимая, что тяжело поднимать руку для самоуправной расправы?
Все это истины, против которых нельзя спорить, но дело в том, что событие 24 января не может быть рассматриваемо отдельно от другого случая: оно так связуется, так переплетается с фактом совершившегося в доме предварительного заключения 13 июля, что если непонятным будет смысл покушения, произведенного В. Засулич на жизнь генерал-адъютанта Трепова, то его можно уяснить, только сопоставляя это покушение с теми мотивами, начало которых положено было происшествием в доме предварительного заключения. В самом сопоставлении, собственно говоря, не было бы ничего трудного; очень нередко разбирается не только такое преступление, но и тот факт, который дал мотив этому преступлению. Но в настоящем деле эта связь до некоторой степени усложняется, и разъяснение ее затрудняется. В самом деле, нет сомнения, что распоряжение генерал-адъютанта Трепова было должностное распоряжение.
Но должностное лицо мы теперь не судим, и генерал-адъютант Трепов является здесь в настоящее время не в качестве подсудимого должностного лица, а в качестве свидетеля, лица, потерпевшего от преступления; кроме того, чувство приличия, которое мы не решились бы преступить в защите нашей и которое не может не внушить нам известной сдержанности относительно генерал-адъютанта Трепова как лица, потерпевшего от преступления, я очень хорошо понимаю, что не могу касаться действий должностного лица и обсуждать их так, как они обсуждаются, когда это должностное лицо предстоит в качестве подсудимого. Но из того затруднительного положения, в котором находится защита в этом деле, можно, мне кажется, выйти следующим образом.
Всякое должностное, начальствующее лицо представляется мне в виде двуликого Януса, поставленного в храме, на горе; одна сторона этого Януса обращена к закону, к начальству, к суду; она ими освещается и обсуждается; обсуждение здесь полное, веское, правдивое; другая сторона обращена к нам, простым смертным, стоящим в притворе храма, под горой. На эту сторону мы смотрим, и она бывает не всегда одинаково освещена для нас. Мы к ней подходим иногда только с простым фонарем, с грошовой свечкой, с тусклой лампой, многое для нас темно, многое наводит нас на такие суждения, которые не согласуются со взглядами начальства, суда на те же действия должностного лица. Но мы живем в этих, может быть, иногда и ошибочных понятиях, на основании их мы питаем те или другие чувства к должностному лицу, порицаем его или славословим его, любим или остаемся к нему равнодушны, радуемся, если находим распоряжения вполне справедливыми.