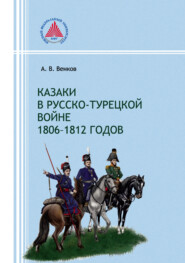По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вёшенское восстание
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вёшенское восстание
Андрей Вадимович Венков
История казачества
Вёшенское восстание является одной из самых трагичных страниц истории Донского казачества. Уникальность этого восстания отмечали уже современники, одна из белогвардейских газет писала: «Мы читали о громадных крестьянских восстаниях в Тамбовской губернии – однако они все задавлены, и только восстание верхне-донцов из всех русских восстаний увенчалось успехом».
Автор книги скрупулёзно восстанавливает атмосферу в станицах накануне восстания, пытается разобраться, что же стало истинной причиной восстания, делается акцент на судьбах участников восстания. Особый интерес вызывает раскрытая автором проблема выбора стороны – белой или красной, стоявшая перед простым казачеством. На страницах книги подробно описывается ход боевых действий, силы повстанцев, Красной Армии и Донской армии.
Андрей Венков
Вёшенское восстание
Вместо введения
Боже, как давно это было!.. Все, кто рассказывал мне о восстании, давно умерли. И материал этот я собираю ни много ни мало – тридцать три года. Собираю время от времени. Двадцать три года назад вышла моя первая книжка о нем, о восстании. Но мне и сейчас многое не ясно. И документы находятся с трудом.
Сама станица сильно изменилась. Выросла раза в три-четыре. Хату под камышовой крышей – «под чаканом» – в ней уже не найдешь. А вот полвека назад – да что полвека, хотя бы лет тридцать – сорок – она была совсем другой.
Мой интерес к событиям 1919 г. возник, можно сказать, случайно. После окончания Ростовского пединститута я работал учителем в Вёшенской средней школе, в которой до этого учился все десять лет. Преподавал я английский язык и историю, а из истории больше всего интересовался наполеоновскими войнами. И диплом в пединституте защитил – «Действия кавалерии в Бородинском сражении».
Какого-то особого интереса к казачеству у меня не было. И кажется мне, что этот интерес как-то гасился окружающими, словно взрослые оберегали детей от неких чрезмерных знаний. У двоюродной прабабки, сестры моего прадеда, высоко на стене висела самая блеклая из фотографий – красавцы-усачи с вензелями на погонах. Но маленькому снизу не разглядеть. А когда я подрос, то к прабабке ходил редко. Чего я у старухи забыл? А у нас дома и такой фотографии не было… Я родился на Урале в городе Магнитогорске и в станицу попал, когда мне было четыре года. Моя бабушка еще в Магнитогорске рассказывала мне, что за покорение Сибири царь Иван Грозный «пожаловал казакам реку Дон со всеми его притоками», но гораздо чаще она горько повторяла: «Казаки – все дураки. Сами не знали, чего искали». Сказанное ею, похоже, относилось к давно умершим, одной ей известным казакам, а ныне живущих хуторян и станичников она как бы и за казаков не считала. Еще с дошкольного возраста я твердо помнил, что мой родной дед Ельпидифор был командиром 1-го взвода 1-й сотни 1-го Кубанского полка 1-й Конной армии. Я и не знал, что по происхождению он был казак Вёшенской станицы.
Потом уже, через много лет, собирала археографическая экспедиция Ростовского краеведческого музея материал в хуторе Антиповском, и я с экспедицией был вроде проводника, и один старик, Иван Терентьевич Кухтин, перечислял, кто из казаков хутора участвовал в восстании: «Борщевы… Ломакины… Бурьяновы… Обуховы…» И не глядя на меня, но явно для меня уточнил: «А Ельпидифор Кисляков был у них в сотне писарем…»
Такие экспедиции и поездки по хуторам были явлением редким, а школьная жизнь – явлением устоявшимся и монотонным.
Но вот в один из субботних дней, когда последние уроки обычно заменяют горящими мероприятиями, нам объявили, что приехал знаменитый шолоховед Константин Прийма и будет выступать у нас в школе.
Прийма был прекрасный оратор («оратур», как говорила моя бабушка), он любил свою тему и, видно, вкладывал в нее душу. Громко и страстно, сопровождая свою речь величественными жестами, Константин Иванович вещал со школьной сцены: «…И вот, умирая, он написал: “Люди урду!..”» Мировое значение творчества Шолохова вставало перед нами «во весь свой прекрасный рост». Но большинству старшеклассников, своими глазами видевших на улицах станицы журналистов из разных стран (а кое-кто из учителей видывал еще Хрущева и Гагарина), было до фонаря, что думали о «Тихом Доне» люди урду, а ученикам восьмых классов само название «урду» было несколько непонятно и даже смешно. На задних рядах постепенно начались разговоры. Легкий, но нервирующий оратора шум грозно навис над залом. Некоторые зевали.
И тогда Прийма стал рассказывать о восстании, о Двадцать восьмом полку, о Харлампии Ермакове, о попытках начать переговоры, о стрельбе по парламентерам… Ох, и говорил же он! Испуганная, звенящая тишина установилась вдруг в зале. То, о чем отрывочно и обычно подвыпив позволяли себе говорить редкие уцелевшие деды (сопровождая рассказы словами «Слухай, как оно на самом деле было, а все, что вам читают, – брехня»), вдруг полилось со школьной сцены и сопровождалось такими подробностями, что где там дедам… Секретные директивы, троцкисты, количество расстрелянных, Сырцов, Кудинов, архив Дзержинского. «Казаки были вынуждены начать восстание!..» Вынуждены! «Да, так оно и было!» – горело у всех в глазах.
«Они смотрели на него, как будто он их реабилитировал и восстанавливал в каких-то правах», – думаю я сейчас, вспоминая ту субботу. А тогда я вместе со всеми слушал, раскрыв рот, и мне казалось, что я давно уже догадывался о существовании здесь, у нас, какой-то тайны, что она несколько раз уже приоткрывалась мне совсем случайно, но я не знал и потому не видел, а теперь наконец увижу, и это будет совершенно невероятная тайна и совершенно блестящее открытие.
Да, перегибы – это очень эффектно. Это бьет по нервам. «В станице Вёшенской планировалось расстрелять 800 казаков. Тех самых, что открыли фронт Красной Армии», – говорил тогда Прийма. И это была правда.
Бросая фронт, казаки подписали мирный договор с Красной Армией, они договорились, что пропустят советские войска на юг добивать Краснова. 28-й полк пришел в окружную станицу Вёшенскую и разогнал все бывшие здесь власти, в том числе и штаб Северного фронта белых. А потом, когда казаки разошлись по домам, их стали арестовывать и расстреливать. Кто? За что? Была секретная директива… Таким образом, троцкисты спровоцировали восстание… Хорошо говорил Константин Иванович. Не знаю, как школьники, а я, учитель, поверил.
Первым делом, придя с работы, я спросил у бабушки: «Ба, расскажи, что за восстание тут было? Из-за чего началось?» – «О-о! Восстание…» Все, что она с готовностью рассказывала мне, дословно я не передам. Что-то горькое, радостное и ускользающее было в ее словах. Теперь я знаю, что некоторые факты и события она намеренно искажала, и за эти искажения я уважаю ее еще больше. Она всегда мне много рассказывала, и очень многое я пропускал мимо ушей. Но в этот раз я ловил каждое слово. Возможно, больше говорил я. Пересказывал ей речь Приймы, а она подтверждала и добавляла от себя. И все было так, да не так… Чего ж не хватало мне тогда? Я настойчиво выспрашивал и требовал подтверждений. Она видела, что мне чего-то не хватает в ее словах, может быть, она даже чувствовала себя виноватой, торопливо вспоминала новые подробности, повторяла старые. Мы оба как на ощупь искали что-то. Что?.. В ее словах не было и тени призыва к восстановлению справедливости, именно того, на что толкала речь Приймы.
«Ведь вы все – красные. Вы – за Ленина. Вас с Лениным троцкисты поссорили. Троцкисты виноваты…» – казалось, вдалбливал нам Прийма. А она вроде бы руками разводила: «Ну какие же мы красные?..»
«Когда восстание началось, дед был во дворе. Глядим, бежит…
– Где ребята? Чтоб сейчас – домой.
Дядя Василий хотел идти, а дед ему:
– Чтоб с хаты ни шагу.
– А где твой отец был?
– Его не было.
– А где ж он был? За Донцом? Отступал?
– Да…
– Ну, дальше…
А потом уже, летом, пришли красные, а мирошник ведет их к деду.
– Здесь такой-то живет?
– Здесь.
Они заехали и говорят:
– Теперь вас никто не тронет. Мы насовсем пришли…
– Когда это было?
– Летом…
Я гляжу, мирошник идет через задний баз.
– Василий Омельяныч дома?
– Дома.
– Тебя, – говорит, – спрашивают.
А дед был на базу, скотине давал. У нас вот так была конюшня, а вот так – катухи, а вот так – навес меж ними. Там всегда бороны стояли, плуги. Так вот, дед что-то под навесом делал. Как осень, он там всегда правил, чинил что-нибудь. А тут скотине давал и под навес зашел…»
И потом (не один же вечер мы говорили о прошлом!) сколько я ни выспрашивал – кого арестовали, кого расстреляли, кто все это делал, – она, как мне кажется, невольно сводила разговор к тому, сколько у них было коров, сколько лошадей, что когда сеяли, когда убирали, сколько в амбаре было закромов и сколько во дворе собак (как сейчас помню – Уркан и Тузик). Может, это и было главным в ее рассказах. Для нее не было восстания самого по себе. Восстание было большой и страшной, но лишь страницей жизни. Чтобы прочитать эту страницу, не обязательно вырывать ее из книги. Лучше прочесть всю книгу, все страницы. А большинство их и было наполнено катухами и амбарами, сенокосами и ярмарками, рождением детей и выходами в церковь.
Позже, в страшные и суматошные 1990-е гг., когда мои собственные дети капризничали и не хотели засыпать, я начинал пересказывать им про то, какие в конюшнях стояли лошади, как звали собак – все, что помнил из рассказов бабушки, – и они странным образом успокаивались и быстро засыпали.
Другие, кого я расспрашивал, тоже особо не распространялись. Шел конец 1970-х гг. – «период расцвета застоя». Порядки казались предельно незыблемыми. Кто собирал материал о «белогвардейцах» и «белогвардейщине», обязан был «разоблачать». Я же хотел наших местных повстанцев «реабилитировать». Очень уж доходчиво Прийма нам тогда все объяснил. Но когда я начинал пересказывать содержание его выступления кому-нибудь вне школьных стен, слушатели относились все равно настороженно, недоверчиво или (те, кто старше) смотрели на меня как на человека очень наивного.
Я собирал, копил материал, много записывал – от руки и на магнитофон. Много чего начитался, много чего наслушался…
Слышишь громкую молву?
«Наши руки не ослабли.
Для похода на Москву
Мы точили наши сабли.
Как отточены клинки,
Пусть враги узнают сами», —
Повторяют казаки —
Волки с синими глазами.
Андрей Вадимович Венков
История казачества
Вёшенское восстание является одной из самых трагичных страниц истории Донского казачества. Уникальность этого восстания отмечали уже современники, одна из белогвардейских газет писала: «Мы читали о громадных крестьянских восстаниях в Тамбовской губернии – однако они все задавлены, и только восстание верхне-донцов из всех русских восстаний увенчалось успехом».
Автор книги скрупулёзно восстанавливает атмосферу в станицах накануне восстания, пытается разобраться, что же стало истинной причиной восстания, делается акцент на судьбах участников восстания. Особый интерес вызывает раскрытая автором проблема выбора стороны – белой или красной, стоявшая перед простым казачеством. На страницах книги подробно описывается ход боевых действий, силы повстанцев, Красной Армии и Донской армии.
Андрей Венков
Вёшенское восстание
Вместо введения
Боже, как давно это было!.. Все, кто рассказывал мне о восстании, давно умерли. И материал этот я собираю ни много ни мало – тридцать три года. Собираю время от времени. Двадцать три года назад вышла моя первая книжка о нем, о восстании. Но мне и сейчас многое не ясно. И документы находятся с трудом.
Сама станица сильно изменилась. Выросла раза в три-четыре. Хату под камышовой крышей – «под чаканом» – в ней уже не найдешь. А вот полвека назад – да что полвека, хотя бы лет тридцать – сорок – она была совсем другой.
Мой интерес к событиям 1919 г. возник, можно сказать, случайно. После окончания Ростовского пединститута я работал учителем в Вёшенской средней школе, в которой до этого учился все десять лет. Преподавал я английский язык и историю, а из истории больше всего интересовался наполеоновскими войнами. И диплом в пединституте защитил – «Действия кавалерии в Бородинском сражении».
Какого-то особого интереса к казачеству у меня не было. И кажется мне, что этот интерес как-то гасился окружающими, словно взрослые оберегали детей от неких чрезмерных знаний. У двоюродной прабабки, сестры моего прадеда, высоко на стене висела самая блеклая из фотографий – красавцы-усачи с вензелями на погонах. Но маленькому снизу не разглядеть. А когда я подрос, то к прабабке ходил редко. Чего я у старухи забыл? А у нас дома и такой фотографии не было… Я родился на Урале в городе Магнитогорске и в станицу попал, когда мне было четыре года. Моя бабушка еще в Магнитогорске рассказывала мне, что за покорение Сибири царь Иван Грозный «пожаловал казакам реку Дон со всеми его притоками», но гораздо чаще она горько повторяла: «Казаки – все дураки. Сами не знали, чего искали». Сказанное ею, похоже, относилось к давно умершим, одной ей известным казакам, а ныне живущих хуторян и станичников она как бы и за казаков не считала. Еще с дошкольного возраста я твердо помнил, что мой родной дед Ельпидифор был командиром 1-го взвода 1-й сотни 1-го Кубанского полка 1-й Конной армии. Я и не знал, что по происхождению он был казак Вёшенской станицы.
Потом уже, через много лет, собирала археографическая экспедиция Ростовского краеведческого музея материал в хуторе Антиповском, и я с экспедицией был вроде проводника, и один старик, Иван Терентьевич Кухтин, перечислял, кто из казаков хутора участвовал в восстании: «Борщевы… Ломакины… Бурьяновы… Обуховы…» И не глядя на меня, но явно для меня уточнил: «А Ельпидифор Кисляков был у них в сотне писарем…»
Такие экспедиции и поездки по хуторам были явлением редким, а школьная жизнь – явлением устоявшимся и монотонным.
Но вот в один из субботних дней, когда последние уроки обычно заменяют горящими мероприятиями, нам объявили, что приехал знаменитый шолоховед Константин Прийма и будет выступать у нас в школе.
Прийма был прекрасный оратор («оратур», как говорила моя бабушка), он любил свою тему и, видно, вкладывал в нее душу. Громко и страстно, сопровождая свою речь величественными жестами, Константин Иванович вещал со школьной сцены: «…И вот, умирая, он написал: “Люди урду!..”» Мировое значение творчества Шолохова вставало перед нами «во весь свой прекрасный рост». Но большинству старшеклассников, своими глазами видевших на улицах станицы журналистов из разных стран (а кое-кто из учителей видывал еще Хрущева и Гагарина), было до фонаря, что думали о «Тихом Доне» люди урду, а ученикам восьмых классов само название «урду» было несколько непонятно и даже смешно. На задних рядах постепенно начались разговоры. Легкий, но нервирующий оратора шум грозно навис над залом. Некоторые зевали.
И тогда Прийма стал рассказывать о восстании, о Двадцать восьмом полку, о Харлампии Ермакове, о попытках начать переговоры, о стрельбе по парламентерам… Ох, и говорил же он! Испуганная, звенящая тишина установилась вдруг в зале. То, о чем отрывочно и обычно подвыпив позволяли себе говорить редкие уцелевшие деды (сопровождая рассказы словами «Слухай, как оно на самом деле было, а все, что вам читают, – брехня»), вдруг полилось со школьной сцены и сопровождалось такими подробностями, что где там дедам… Секретные директивы, троцкисты, количество расстрелянных, Сырцов, Кудинов, архив Дзержинского. «Казаки были вынуждены начать восстание!..» Вынуждены! «Да, так оно и было!» – горело у всех в глазах.
«Они смотрели на него, как будто он их реабилитировал и восстанавливал в каких-то правах», – думаю я сейчас, вспоминая ту субботу. А тогда я вместе со всеми слушал, раскрыв рот, и мне казалось, что я давно уже догадывался о существовании здесь, у нас, какой-то тайны, что она несколько раз уже приоткрывалась мне совсем случайно, но я не знал и потому не видел, а теперь наконец увижу, и это будет совершенно невероятная тайна и совершенно блестящее открытие.
Да, перегибы – это очень эффектно. Это бьет по нервам. «В станице Вёшенской планировалось расстрелять 800 казаков. Тех самых, что открыли фронт Красной Армии», – говорил тогда Прийма. И это была правда.
Бросая фронт, казаки подписали мирный договор с Красной Армией, они договорились, что пропустят советские войска на юг добивать Краснова. 28-й полк пришел в окружную станицу Вёшенскую и разогнал все бывшие здесь власти, в том числе и штаб Северного фронта белых. А потом, когда казаки разошлись по домам, их стали арестовывать и расстреливать. Кто? За что? Была секретная директива… Таким образом, троцкисты спровоцировали восстание… Хорошо говорил Константин Иванович. Не знаю, как школьники, а я, учитель, поверил.
Первым делом, придя с работы, я спросил у бабушки: «Ба, расскажи, что за восстание тут было? Из-за чего началось?» – «О-о! Восстание…» Все, что она с готовностью рассказывала мне, дословно я не передам. Что-то горькое, радостное и ускользающее было в ее словах. Теперь я знаю, что некоторые факты и события она намеренно искажала, и за эти искажения я уважаю ее еще больше. Она всегда мне много рассказывала, и очень многое я пропускал мимо ушей. Но в этот раз я ловил каждое слово. Возможно, больше говорил я. Пересказывал ей речь Приймы, а она подтверждала и добавляла от себя. И все было так, да не так… Чего ж не хватало мне тогда? Я настойчиво выспрашивал и требовал подтверждений. Она видела, что мне чего-то не хватает в ее словах, может быть, она даже чувствовала себя виноватой, торопливо вспоминала новые подробности, повторяла старые. Мы оба как на ощупь искали что-то. Что?.. В ее словах не было и тени призыва к восстановлению справедливости, именно того, на что толкала речь Приймы.
«Ведь вы все – красные. Вы – за Ленина. Вас с Лениным троцкисты поссорили. Троцкисты виноваты…» – казалось, вдалбливал нам Прийма. А она вроде бы руками разводила: «Ну какие же мы красные?..»
«Когда восстание началось, дед был во дворе. Глядим, бежит…
– Где ребята? Чтоб сейчас – домой.
Дядя Василий хотел идти, а дед ему:
– Чтоб с хаты ни шагу.
– А где твой отец был?
– Его не было.
– А где ж он был? За Донцом? Отступал?
– Да…
– Ну, дальше…
А потом уже, летом, пришли красные, а мирошник ведет их к деду.
– Здесь такой-то живет?
– Здесь.
Они заехали и говорят:
– Теперь вас никто не тронет. Мы насовсем пришли…
– Когда это было?
– Летом…
Я гляжу, мирошник идет через задний баз.
– Василий Омельяныч дома?
– Дома.
– Тебя, – говорит, – спрашивают.
А дед был на базу, скотине давал. У нас вот так была конюшня, а вот так – катухи, а вот так – навес меж ними. Там всегда бороны стояли, плуги. Так вот, дед что-то под навесом делал. Как осень, он там всегда правил, чинил что-нибудь. А тут скотине давал и под навес зашел…»
И потом (не один же вечер мы говорили о прошлом!) сколько я ни выспрашивал – кого арестовали, кого расстреляли, кто все это делал, – она, как мне кажется, невольно сводила разговор к тому, сколько у них было коров, сколько лошадей, что когда сеяли, когда убирали, сколько в амбаре было закромов и сколько во дворе собак (как сейчас помню – Уркан и Тузик). Может, это и было главным в ее рассказах. Для нее не было восстания самого по себе. Восстание было большой и страшной, но лишь страницей жизни. Чтобы прочитать эту страницу, не обязательно вырывать ее из книги. Лучше прочесть всю книгу, все страницы. А большинство их и было наполнено катухами и амбарами, сенокосами и ярмарками, рождением детей и выходами в церковь.
Позже, в страшные и суматошные 1990-е гг., когда мои собственные дети капризничали и не хотели засыпать, я начинал пересказывать им про то, какие в конюшнях стояли лошади, как звали собак – все, что помнил из рассказов бабушки, – и они странным образом успокаивались и быстро засыпали.
Другие, кого я расспрашивал, тоже особо не распространялись. Шел конец 1970-х гг. – «период расцвета застоя». Порядки казались предельно незыблемыми. Кто собирал материал о «белогвардейцах» и «белогвардейщине», обязан был «разоблачать». Я же хотел наших местных повстанцев «реабилитировать». Очень уж доходчиво Прийма нам тогда все объяснил. Но когда я начинал пересказывать содержание его выступления кому-нибудь вне школьных стен, слушатели относились все равно настороженно, недоверчиво или (те, кто старше) смотрели на меня как на человека очень наивного.
Я собирал, копил материал, много записывал – от руки и на магнитофон. Много чего начитался, много чего наслушался…
Слышишь громкую молву?
«Наши руки не ослабли.
Для похода на Москву
Мы точили наши сабли.
Как отточены клинки,
Пусть враги узнают сами», —
Повторяют казаки —
Волки с синими глазами.