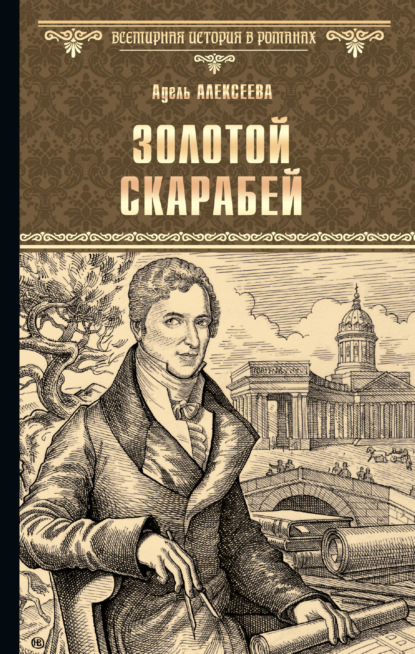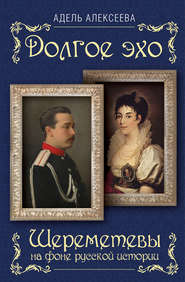По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Золотой скарабей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не ведаю. Незаконный я… Прокопий Акинфович определил меня в Воспитательный дом, там я и жил…
– А вот граф Строганов пол-Европы объехал и говорит: пока не увидишь итальянскую архитектуру, искусство – ничего не поймешь в величественной музыке мира.
– Прокопий Акинфович тоже сказывал, что учиться надобно в Европе.
Михаил поведал и о форейторе, которому махала рукой Эмма Карловна, а также о том, как тайно шептались Лохман и другой, в черном капюшоне. Будто собирают отовсюду… деньги, золото, что-то еще…
– Кто же они? Абреки, что ли? Или цыгане?
– Не знаю, но они говорили: маленький народ выживет, если золота у него будет много.
– Тебе, братец, однако, надобно не о золоте думать, а об искусстве, ежели страсть к рисованию имеется. Согласен?
Андрэ расправил белый лист и стал пристально его рассматривать, видно, что-то прикидывая. Михаил понял: пора покидать сей прекрасный храм – и уже взялся было за бронзовую ручку двери, как вдруг вспомнил: ведь фамилию Строганова называли и те двое.
– Андрэ! – Михаил остановился. – Вы все-таки осторожней во дворце-то с золотом! И за форейтором глядите…
Андрей пожал ему руку и, не обратив внимания на его слова, напутствовал:
– Старайся! Будешь стараться – станешь хорошим художником. И друзей не теряй. Без друзей на сердце худо.
Демидов и Екатерина II
…На площади московской в Толмачах остановились лошади, и из кареты вышел грузный человек, а раньше него соскочил форейтор.
– Эй, дворник! – закричал он. – Что стоишь, не видишь, кто прибыл?
А прибыл сам Демидов.
– Чего стоишь, дверь не открываешь, пентюх? – пробасил он.
– Чего изволите, ваша милость?
– А то надобно, чтобы все дворники сей площади тотчас явились сюда.
Дворники подошли, и Демидов заговорил. Но они, видно, ничего не понимали, ибо лица их были как деревянные. Тогда в объяснения пустился форейтор:
– Чего тут непонятного-то? Барин снимает все комнаты, которые на площадь выходят… окнами… Деньги заплатил. Знаете, какие деньги – демидовские! Чтоб к завтрему тут никого из жителей не осталось! Гостей принимать будем.
Форейтор, которого звали Педро, впрочем, тоже не слишком понимал, что затевается, однако это его не смущало.
Но на следующий день все квартиры, выходящие на площадь, были освобождены, и другие, демидовские, люди заняли места в комнатах.
Что же на сей раз удумал чудак Демидов? Дело это было связано с портретами, которые писал Михаил.
По возвращении из Петербурга Михаил был встречен барином в гневном расположении духа. С утра «жаловался головою», тем не менее прибыл в Воспитательный дом, выразил шумное недовольство порядками, а на обратном пути встретил своего недруга Собакина. Под руку попался Мигель-Михаил, и уж на нем-то барин отыгрался:
– Ты по какой причине так долго в Петербурге был? Не для того тебя туда посылал, чтобы гулял без ума, дурак!
– Но я не более двух месяцев ездил! – вспыхнул тот.
– Ага! Мы не виноваты, что были глуповаты?! От кого получал там приметное удовольствие, признавайся! Учился или баклуши бил? Велено тебе было отразить графа Панина, а ты что?
Михаил в сердцах схватил баул и давай выбрасывать оттуда – один лист, второй, третий… Хозяин увидел те листы и сразу переменил тон.
– О, да это он самый, граф Панин! Узнал! Ай да Мишка, сукин сын! – оглядел его с ног до головы, схватил в охапку и отпрянул. – Ну доставил удовольствие!
Михаил никак не мог уразуметь плана действий барина, однако поспешил добавить:
– Прокопий Акинфович, то ж только рисунки, а я из них живописный портрет сотворю, славно будет! Я видал его…
Демидов сел, подпер рукой голову:
– Да… Только то, братец, половина дела. А надобно мне еще… рыло вице-губернатора московского.
– Собакина? – догадался Миша. – Так я смогу, видал его.
– Вот и сделай…
– А… для чего?
– Не твоего ума дело! Через неделю чтобы готово было, понял? Награду получишь.
Через неделю Демидову показали оба портрета. Он поставил их перед собою и глядел на них с такой хмуростью и злостью, будто на заклятых врагов.
А на другой день, утром, выйдя из дому, люди увидели прикрепленные к воротам портреты. Под ними была бумага и такие слова на ней:
«Собакин архипарикмахер, только что возвратившийся из Парижа, предлагает свои услуги почтеннейшей публике. Адресоваться к г. Панонину». В последнем слове две буквы – «н» и «о» – были замазаны, и читалась, конечно, фамилия Панина.
Как всегда, собрался любопытствующий народ.
– Гляди-ка, – перешептывались прохожие.
– Ой, неладно это, вице-губернатора назвать архипарикмахером!
– А чем он больно хорош-то тебе?
– Однако…
Достиг ли тот слух о новой проделке Демидова ушей Собакина – неизвестно. Скорее всего, он был не так глуп и, услыхав, сделал вид, что его сие не касается. Однако нашлись доброхоты, которые поспешили сообщить об этом императрице.
«Чем сие вызвано?» – недоумевая, спросил Михаил у лакея. Тот объяснил ему: мол, как-то пригласил к себе барин «всю Москву», а Собакин (ну не собака ли он после того?) не явился на приглашение. Демидов велел посадить на его место собаку, породистую, и кормить ее весь вечер… После дошла до него весть, что в Северной столице граф Панин желает назначить Собакина сенатором. Сенатором Собакина?! Этого бездельника! И – закрутилась карусель. Потому и послан был Михаил в столицу: Демидов обид не прощал.
Однако и Екатерина памятлива. Улыбчивая и любезная, она сделалась не похожа на себя, узнав про такое самоуправство Демидова. Панин, по доброте своей, уговаривал ее замять дело – и добился своего. Она согласилась. Но на том не кончилось.
Удовольствоваться молчанием Демидов не желал и устроил еще одну «штуковину»: велел сочинить несколько пасквилей в стихах на Собакина и сделать их известными при дворе. Пусть читают!
Когда же Екатерина увидала те пасквили, она пришла в ярость.