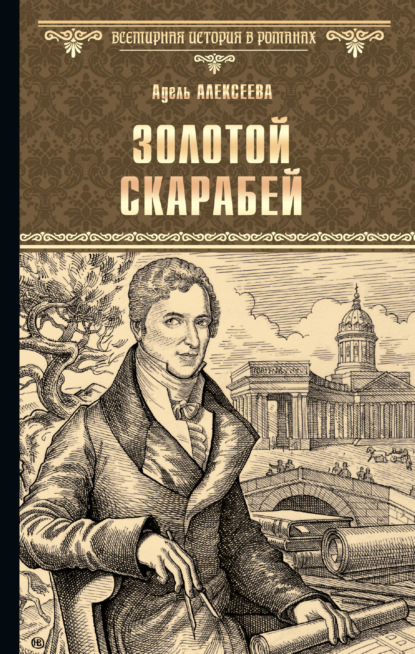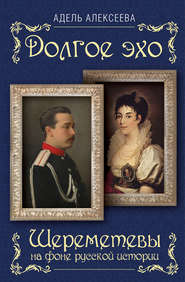По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Золотой скарабей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В конце найденных разрозненных записок были и слова, которые писала сама Екатерина этой самозванке: «Вы навлекли на меня неприятности, Вы – мерзавка, которая взбаламутила Европу. Ваши ухищрения, якобы знание восьми языков, многочисленные любовники… Вы уронили меня в глазах моих родственников… (Уж не имел ли в виду граф Ангальт себя?) Коли Вы готовы отказаться от своего прошлого, если впредь Вы не станете упоминать имя Пугачева, Персии и прочих глупостей…»
«Ах, бедные секретари!
…И все-таки меня отправляют вместе с графом Ангальтом в Германию! Я не смогу узнать конец этой истории, но я увожу в своем сердце милое личико Аграфены Бибиковой».
На этом заканчивались разрозненные страницы секретаря графа Ангальта.
На смену черным дням – забавы, музы, карты, хороводы
Бунт Пугачева, самозванка Тараканова, лишившая всех покоя, война с турками, наводнение на Неве да еще эпидемия, разгулявшаяся по России, – было от чего Екатерине впасть в расстройство или хотя бы в меланхолию. Но не такова она – каждое утро вставала в шесть часов и уже знала, кого надо вызвать, какие указания дать, с кем говорить строго, с кем – ласково. А как только приходило известие о победе над турками, ее было не узнать!
Потемкин и Орлов ссорились, ревновали царицу, но (ого! как ловко пользовалась она этим) это только делало их сильнее. Орлову она дала имя Чесменский, а Потемкину – Таврический.
Екатерина приходила в воодушевление, и гром пушек был для нее веселее самой лучшей музыки.
Отправляя принцессу Ангальт-Цербстскую в Россию, не только гадалки, но и всё окружение «юнгемедхен» верили в ее счастливую звезду, у нее было все: немецкая дисциплина, врожденное честолюбие и тонкий женский ум, а это делало ее непобедимой и заразительной.
Выслушав очередную ссору Орлова и Потемкина, она могла тут же повернуть свою карету к Воронцовым (бывшим в союзе с прежним ее мужем) и устроить там веселое чаепитие. Или – явиться к графу Строганову, сесть за карточный стол, обратить в пух и прах лежебок и лодырей, а вельмож заинтриговать какой-нибудь новой идеей. Она не желала ни в чем отставать от Петра I. А более всего – в почитании искусств, привлечении новых талантов, русских.
Елизавета открыла университет, и Шувалов по ее указанию занимался науками. А искусства? Надо выписывать из-за границы архитекторов, живописцев, скульпторов. И не только! – надо выучить и собственных мастеров.
Екатерина посылала в Европу понимающих людей, они покупали там картины лучших художников. И когда один корабль с тридцатью отобранными картинами потонул – плакала чуть не весь день. Впрочем, какой там день? Поплакала с часок – и снова за конторку.
В моду вошли портреты, писанные европейскими живописцами. Ротари, Кауфман, Вальтер, Валуа – мало ли их? Екатерине нравились работы художницы Кауфман. Однако она оценила и портреты Левицкого, что приехал из Малороссии, был сыном художника. Ему заказали портреты девочек из Смольного института, и Левицкий сделал их превосходно. Екатерина, любившая позировать, уже намеревалась заказать ему свой портрет, обдумывала, как выказать свою особу наиболее законной и превосходной правительницей.
Левицкий писал портреты с большой скоростью, прекрасно и, кажется, не пропустил ни одной выдающейся персоны своего времени – его можно назвать восторженным летописцем века Екатерины.
Между тем в свете уже звенело имя Рокотова, иного стиля художника – мечтателя, поэта (тоже, кажется, внебрачный сын помещика Струйского)… Императрица собиралась позировать и Рокотову. Если Левицкий – мастер передать движение, символ, то Рокотов мог изобразить ее величавость, особенно если возьмет в профиль.
Секретарь императрицы Александр Андреевич Безбородко заказал писать юных учениц Смольного института не кому-нибудь, а именно Левицкому. Чудо изящества, грации, красоты, лукавого озорства… Молчанова – пример скромности, тяги к образованию, только что открывшемуся русской женщине; Нелидова – сама грация; Левшина – величественна и горда; Алымова за арфой – воплощенные хитрость и лукавство… Девочки из небогатых слоев служивого дворянства; лица, сияющие светом, юностью, прелестью, весной. Поразительны живые движения девушек, у них не просто театральные, застывшие позы: руки, ноги, корпус, голова – всё в движении. Так и слышалась с полотен музыка Вивальди, Перголези, Моцарта, тихая музыка – тогда еще не знали страстей Бетховена, изощренности и безумств более поздних композиторов.
И как все это согласовано с цветом! Ни одного кричащего, громкого тона. Нежные оливковые, зеленые, желтоватые, какие-то медовые краски, невесомые, пронизанные светом кружева у Нелидовой, хочется пощупать изломы шелка у Ржевской, претенциозно лежащее платье Алымовой… На выставке «смолянки» очаровали зрителей.
Появились и русские скульпторы, и выделялся из них Федот Шубин.
В архитектуре? Там по-прежнему царила семья Варфоломея Растрелли. Но императрица желала, чтобы работали и русские архитекторы.
При Петре I началась светская живопись, а теперь она должна расцвесть. Недоросли, отроки обучались сами, не писали, а малевали, и тем не менее… Ими, кажется, уже наводнялась провинция. Плохо ли помещику иметь свой портрет! Пусть ухо не на месте, пусть глаза враскос, о красках и не говори! Однако лица были запечатлены: дворяне думали о потомках, об истории – пусть представляют своих предков!
Начиналась живописная летопись времени. Пусть они еще не очень верили в себя, были наивны и простодушны, а к портретам приписывали нечто похожее на объяснительные записки.
Среди архитекторов звенело имя Николая Львова (друга Левицкого), влюбленного в Машу Дьякову. Она дочь тайного советника, он не имеет за душой никакого состояния, кроме чувствительного сердца.
Ах, милый сентиментализм! Милая Маша Дьякова и ее сестры! Тайны сердца и тайны венчания…
Тайное венчание
Пока отцы и деды танцевали на противоположной стороне Невы, на Галерной улице в церкви тайно венчали Николая Львова с его любимой Машенькой. Может быть, читатель удивится, разве такое могло быть в XVIII веке? А вот представьте себе, что так и было! Львов был из небогатого дворянского рода, а отец Машеньки, сенатор, категорически возражал против этого брака. Но не таков был Львов, это был человек смелый, всесторонне талантливый, он и художник, он и архитектор, он и теоретик музыки, и инженер, сочинитель. Именно он первым собрал русские народные песни и издал их отдельной книжечкой. Его любимая женушка, Маша, обнимала его и восхищалась: «Ты у нас как настоящий Петр I, только роста небольшого! Тот был на все руки мастер, и все вокруг него крутилось и крутилось. И ты у нас такой же, Львовинька!» Так что пришлось этому Львовиньке снять квартиру, в которой они с Машей встречались в определенные часы и дни. И как долго это продолжалось? Представьте себе, целых шесть лет! Наконец в семье увидели, что у Машеньки живот уже как два арбуза, узнали, что Львова сама Екатерина пригласила в путешествие по югу России, и вот только тогда были разрешены официальное венчание и свадьба. Маше казалось, что все ее подруги и даже родственницы – все влюблены в ее Николеньку и постоянно писали в своих письмах о нем.
Откуда возникают симпатия и антипатия к людям – никому не ведомо, и даже если богат твой словарный запас – не объяснить. Демидов был человек заковыристый, первую жену, сказывали, невзлюбил, чуть ли не в гроб вогнал, а о второй и не думал. Должно, сам не рад был своему диковатому нраву. Не оттого ли жил подолгу одиночкой? Правда, появлялась в его апартаментах миловидная женщина лет тридцати пяти, терпеливая и заботливая. Дети вздумали выказать недовольство сим обстоятельством – и что же? Прокопий Акинфович отписал одну деревеньку с 30 крепостными душами на двух своих сыновей – и все! Назло!
Язык у него хоть и грубый, но богатый, а еще любил он бравировать происхождением своим: «Мы что, не князья, не графья! Мы кузнецовы дети! Мохнорылые мы!» Он мог квартального в меду и в пуху вывалять, мог оттузить секретаря какого и тут же штраф заплатить. Императрица называла его вралем московским, но прощала «благонамеренные подвиги», мирилась: миллионные деньги отпускал Демидов на городские нужды.
Никто не мог ему угодить. Чуть что – закричит: «Цыц! А не то раздавлю, как лягушек!» Но вот поди ж ты – полюбил барин смуглого безродного недоросля Мишку, поверил в его талант, называл его Богом данным, и всем приходилось с этим мириться. Покорил маленький Мишка сердце самодура и самородка.
– Не пойму, откуда у тебя чернота? Мы-то староверы, а ты кто? Знать, к православной вере примешалась какая другая. Ну да ладно! Все люди – люди, да и моя частица, думаю, содержится в твоей душе, так? Хочу я тебе кое-что сказать на прощанье. Знай: душу свою да совесть надобно беречь. Руки-ноги переломаешь – срастутся, а душу переломаешь – не сживется. Так что живи по совести. А еще велю тебе вот что: выучишься, станешь художником – поезжай на Урал, в мои места… Шайтанка там есть, река Чусовая – такой в Европе не найдешь… Когда возвратишься из дальних Европ, езжай на Урал. Найдешь одно место – получишь самородок золота, хватит надолго. Только у меня три условия: первое – посетить мою могилу; второе – сделать три добрых дела: одно – для княгини Н.А. Голицыной (больно я ее уважаю), другое – построить невеликий воспитательный дом для таких же, как ты, сирот. Третье условие: не изменять православной вере. Ни-ко-гда! Тогда тебе откроется мой клад, мой самородок. Понял? Не забудешь?.. А не то – смотри! – встречу на том свете – не спущу!.. Бойся только знаешь чего? – денег и женщин. Запомни!
Михаил выслушал, но не оробел высказать и свою просьбу:
– Прокопий Акинфович, я хотел вам сказать, что мне от друзей пришла депеша – на Рождество они зовут меня к себе. Дело там есть. А оттуда уж к морю и в Европу
– Полюбил Петрову столицу? – погрозил ему пальцем барин. – Да ладно, что мне? Езжай! – Он встал во весь свой могучий рост. – Ну, прощай! Доживу ли до тебя – неведомо. – И обнял Михаила по-отечески, мягко. – Мир тебе по дороге!
Михаил погрузил свой нехитрый скарб в кибитку, простился с Демидовым, и скоро уже весело бежали лошади, неся торопливую тройку по Санкт-Петербургской дороге. Путник сидел в глубине кибитки, глядя на белые дали, и купался мечтами-мыслями в неясном и чудном будущем. Каким оно будет? Блистательным и широким, полным деяний и подвигов – или понесет его по житейским морям, яко щепку березовую? Лишившись наставника, предастся лени, бездеятельности – или осилит неведомые вершины? И поведет ли его по своему пути искусство?
В памяти вставали столичные знакомцы: шумный Капнист, насмешливый Львов и милый Иван Хемницер. Эмма? И ее вспоминал: ссору с немцем, зловещие звуки его возмущенной скрипки. Какие злые силы поднимались со дна души Лохмана? И что он за злодей?
Приблизившись к Петербургской заставе, Михаил задумался: ехать ли ему на Васильевский остров, в прежний дом, или поискать новую квартиру? Быстро нашел себе оправдание (да и любопытство заедало из-за тех двоих, в черных капюшонах) – и на Васильевский остров.
Эмма встретила его так, будто и не было разлуки. Она не изменилась, только держала теперь табакерку и нет-нет прикладывалась к ней, чихала и весело смеялась. От Лохмана он услыхал обычное ворчание:
– Доннерветтер, Мишель! Шёрт возьми, приехал – когда надо! Зер гут! Работа много, будешь работат?
Немец получил заказ собрать бригаду «потолочников», расписывать потолки в загородном царском дворце великого князя Павла Петровича.
– Много работ – много денег… Сирая краска, сирая потолок… Рисунки – греческая мифология… Лестница високий, голова кругом, а ты – юнге, зер гут!
В сером камзоле, худой, он ходил по комнате, потирая руки, седые волосы его развевались, он был похож на помешанного.
– Ну, будет, будет, – остановила его Эмма. – У меня есть кое-что получше ваших потолков – кофий и мадера! Будем пить!
Глаза ее, как черные ягоды, сверкали, а каштановые волосы, казалось, стали еще волнистее…
Но каково было удивление Михаила, когда следующим, воскресным утром (он еще не встал с постели) увидел он, что у ворот их дома остановился экипаж и из него вышел, направляясь к двери… Василий Васильевич Капнист.
– Здесь живет мастер Лохман?
Эмма провела его к Лохману, а до Михаила сквозь перегородку донесся разговор:
– Просьба друга: сделай шкафчик, дамский… На две стороны дверцы и на каждой рисунок, вот этот…
Еще большее удивление испытал московский гость, когда увидел у Лохмана рисунки для того шкафчика. На одном он не без труда узнал Хемницера, то был его портрет, но какой! – преувеличенно толстогубый, преувеличенно курносый. На другом рисунке – девица, убегающая от сего означенного курносого образа, вернее образины. Присмотревшись, Михаил узнал… Машу Дьякову. Что бы это значило, к чему? Горестное чувство овладело Михаилом. Это проделка Капниста или Львова? Кто из его кумиров задумал подшутить над Иваном Ивановичем? Впрочем, по трезвом размышлении Михаил решил, что еще неизвестно, для кого предназначался шкафчик, так что, возможно, Хемницер никогда и не узнает о нем. И все же…
Не знал Михаил, что таким способом, уезжая в Тверь, Львов решил «пошутить». Хотел выместить свою ревность: пусть его невеста, открыв шкафчик, посмеется над неудачливым соперником; смех – лучшее противоядие амурным чувствам. Оказывается, Капнист должен был вручить тот шкафчик Маше. Но – удивительно – Маша стала так ласкова с Хемницером, что он растаял от полноты чувств и тут же сделал ей предложение!
Шкафчик же Мария Алексеевна велела забросить на чердак, так, чтобы никто его не видел. Может быть, после того она встретила вернувшегося из Твери Львова грозными упреками? Ничуть не бывало! Тем более что Львов, как обнаружилось из чувствительной их беседы, всю дорогу терзаем был раскаянием и сожалением.
Разлука лишь усилила любовь, и, естественно, снова зашла речь о «камне преткновения» – об ее отце Алексее Афанасьевиче. Машенька уже отвергла нескольких женихов, отец и матушка гневались, а время, по своему обыкновению, не просто текло, а, можно сказать, бежало, Маше – увы! – было далеко за двадцать.