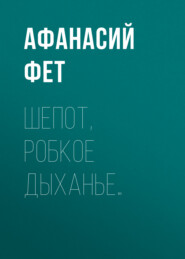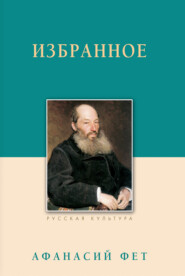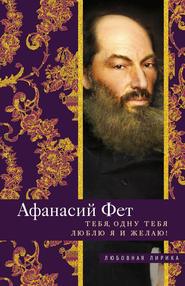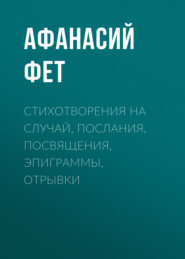По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ранние годы моей жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как ни плох я был в латинской грамматике, тем не менее, приготовившись, с грехом пополам следил за ежедневным чтением Цезаря; а уроки геометрии в нашем классе преподавал Крюммер. На доске рисовал он фигуру новой теоремы, требуя, чтобы до следующего урока мы представили ему правильный рисунок теоремы в большой тетради и буквальное разрешение ее в маленькой. При этом, кроме разрешения задачи, он требовал опрятного письма и присутствия промокательной бумаги, без чего свое V, т. е. «видел», нарочно ставил широкой чернильной полосой чуть не на всю страницу и потом захлопывал тетрадку, а в начале следующего урока, раздавая работы по рукам, кидал такую под стол, говоря: «А вот, Шеншин, и твоя тряпка».
Так как, к счастию, директор начинал свои уроки с первых теорем Евклида, то я тотчас же усердно принялся за геометрию, в которой, как и в алгебре, особенных затруднений не находил. Зато уроки истории были для меня истинным бедствием. Вместо общего знакомства с главнейшими периодами и событиями учитель третьего класса расплывался в неистощимых подробностях о Пипине Коротком, Карле Великом и Генрихе Птицелове, так что я наконец не умел различить этих скучных людей одного от другого. К этому я должен для краткости присовокупить, что, быть может, весьма ученый преподаватель истории во втором классе, где я пробыл два года, буквально из году в год, стоя перед нами и пошатываясь за спинкою стула, вдохновенно повторял рассказы о рыжих германцах, которые на своих пирах старались отпивать ступеньки лестницы, поставленной на бочку с пивом. Но так как проверок по этому предмету было очень мало, и многоречивый учитель охотнее спрашивал наиболее внимательных и способных учеников, то в начале следующего года я учительской конференцией с директором во главе был переведен ввиду успехов моих в математике и в чтении Цезаря во второй класс.
* * *
Для полноты воспроизведения устройства школы следует сказать, что ученики первого класса только частию и предварительно оставались в нашей первой палате, но приближающиеся к экзамену в Дерптский университет перемещались в две большие комнаты над нашими дортуарами, так называемом педагогиуме, находившемся и в умственном и в нравственном отношении под руководством Мортимера. Последний был исключительным преподавателем истории, географии и древних языков, так что на долю главного математика Гульча доставалось преподавание только этой науки.
Так называемые педагогисты имели право сами выбирать время для приготовления уроков и одиночных прогулок по городу; им же дозволялось курение табаку, строго запрещенное всем прочим ученикам.
Чем Мортимер был для первого класса, тем Гульч был для нашего второго, с тою разницей, что он, кроме главных уроков, целый день проводил в нашей первой палате в качестве надзирателя, меняясь через день с французом Симоном.
Обрисовать в своем воспоминании почтенную личность Гульча значит не только воспроизвести весь второй класс, но указать отчасти и на те нравственные складки, которые сложились в душе моей под руками этого незабвенного наставника. Это был совершенная противоположность моих деревянных учителей-семинаристов. В своих уроках он, если можно так выразиться, подвигался плечо в плечо с учеником, которому считал необходимым помочь. При ответах ученика его не столько раздражало незнание, сколько небрежность, мешавшая логически поискать темно сознаваемого ответа. Наводя в таком случае ученика на должный ответ, добродушный Гульч не гнушался и школьным прозвищем ученика. Так весьма способный и прилежный ученик Браж за свое вертлявое искательство получил прозвище «утиного хвоста», иные просто называли его «вертуном». Убеждаясь из ответов, что Браж не дает себе труда сосредоточиться, Гульч восклицал: «Браж, Браж, не вертите!» Сочувственная улыбка проносилась по всему классу, и Браж, подумавши, давал надлежащий ответ. Гульч во всем требовал систематической и логической отчетливости.
Так, задавая задачи по задачнику, от которого ключ был только у него, он до тех пор не допускал до нового вида задач, пока ученик из хорошо усвоенных им не разрешит известного числа, например, пятидесяти без ошибок. Если бы ученик, безошибочно разрешив 49, случайно ошибся на 50-й, то весь предварительный его труд считался ни во что, и надо было начинать сызнова.
Затруднительные задачи Гульч усердно проверял собственным вычислением, и в рабочие уроки я не могу его себе представить иначе, как сидящим за учительским столом с откинутыми на лысеющую голову очками, машинально посасывающим потухающую фарфоровую трубку с отливом и нагибающимся по близорукости к бумаге или грифельной доске. В такие минуты, погруженный в занятие, он ничего стороннего не видал и не слыхал. Шалуны это хорошо знали и пользовались случаем развеселить товарищей. На одной стороне книжной полки на гвозде висел ключ, в котором все попеременно нуждались, иногда только для того, чтобы безвозбранно покурить табаку. Чтобы уйти из палаты, конечно, не во время уроков, нужно было сказаться надзирателю. И вот тут-то опытные шалуны доходили до крайней отваги, громогласно восклицая: «Г. Гульч, могу ли я уехать в Америку?» – разнообразя каждый раз шутку другими отдаленными пунктами земли.
Невзирая на углубление в занятия, Гульч никогда не отказывал подходящим к нему ученикам с недоумениями по поводу приготовления уроков. Подобные вопросы Гульч разрешал с полной симпатией и удовольствием. Хотя в немецком существует несколько выражений соответствующим словам: «я думал», «я предполагал», но самое обычное из них: я верил – ich glaubte. Когда дело шло о математическом вопросе, и ученик в извинение ошибки говорил: «Ich glaubte», Гульч не без волнения говорил: «Оставьте вы свою веру для чего-либо другого, а здесь она совершенно неуместна. Здесь нужно основание и вывод».
Во время рекреаций Гульч рассказывал о разных неразрешимых математических задачах, за разрешение которых там или сям установлены премии. Так говорил он о миллионной премии, назначенной англичанами, за деление геометрическим путем угла на три части.
Будучи стрелком и ружейным охотником, Гульч живо сочувствовал красотам и особенностям природы и однажды пришел в восторг, когда я, умевший несколько рисовать, во время отдыха нарисовал на память ходившую у нас в Новоселках под охотником черноморскую лошадь. Глядя на тяжелую горбоносую голову и прямую из плеч с кадыком шею и круп с выдающимися маслаками, Гульч, заливаясь восторженным смехом, восклицал: «Да, поистине это черноморка!»
Однажды, когда, расхохотавшись подобным образом по поводу вновь воспроизведенной мною на доске черноморки, он хватился оставленной им в своей комнате фарфоровой трубки, за которою ему через весь школьный двор не хотелось идти, я Сказал: «Пожалуйте мне ваш ключ; я в одну минуту сбегаю и набью вам трубку».
– Пожалуйста, – сказал он, добродушно передавая мне ключ.
В комнате Гульча я из только что начатого фунтового картуза «Жукова» набил предварительно вычищенную мною трубку и, вырубив огня, раскурил ее самым лакомым образом.
Возвращаясь через двор с пылающей трубкой, я с таким усердием затягивался благовонным дымом «Жукова», что чуть среди двора не упал от головокружения. Тем не менее трубка была доставлена до принадлежности, и черноморка на классной доске неоднократно доставляла мне удовольствие затянуться «Жуковым».
Между тем неразделимость угла на три части сильно меня мучила, и, понаторевший во всяких вспомогательных математических линиях и подходах, я однажды пришел к убеждению, что задача мною разрешена. Надо было видеть изумленные глаза, с которыми добрый Гульч смотрел на мой рисунок на классной доске.
– Да, воистину, wahrhattig! – восклицал он. – Он разрешил задачу!
Я стоял в каком-то онемении восторга, и вдруг в классе раздался раскатистый хохот Гульча.
– А это что такое? – сказал он, указывая на софистический прием, лишенный всякого математического основания. Фантастический мыльный пузырь мой исчез бесследно.
Латинских уроков Гульч давал нам ежедневно два: утром мы читали Ливия и через день переводили изустно с немецкого на латинский, а после обеда, с половины пятого до половины шестого, неизменно читали Энеиду, из которой, в случае плохой подготовки, приходилось учить стихи наизусть.
Со второго класса прибавлялся ежедневно час для греческого языка, с 11 1/2 ч. до 12 1/2; и если я по этому языку на всю жизнь остался хром, то винить могу только собственную неспособность к языкам и в видах ее отсутствие в школе туторства. Ведь другие же мальчики начинали учиться греческой азбуке в один час со мною. И через год уже без особенного затруднения читали «Одиссею», тогда как я, не усвоив себе с первых пор основательно производства времен, вынужден был довольствоваться сбивчивым навыком.
Не меньшее горе испытал я с игрою на фортепьяно, которой отец положил обучать меня, соображая, что в каждом значительном доме, куда молодому человеку интересно будет войти, есть фортепьяно. То, что было у меня и с другими науками, и в особенности с греческой грамматикой, случилось и с музыкой. Учитель наименовал мне все семь фортепьянных косточек и указал соответственные им пятнышки на дискантных и басовых линейках, и я каждый раз должен был находить ноту на фортепьянах в последовательном алфавитном порядке, отсчитывая соответственное ей пятно и на печатных нотах, так как не умел назвать ее ни там, ни сям по прямому на нее взгляду. Конечно, такая двойная ежеминутная работа превышала мои силы. К этому присовокуплялось еще затруднение: одновременный счет пятнышек басового ключа. Неудивительно, что я объявил учителю музыки, что в единовременном разыгрывании скрипичного и басового ключей вижу невозможное чтение двух книг разом. Так промучился я с фортепьянами целый год у начального учителя; но ввиду безуспешности моих уроков, меня передали главному и более строгому учителю музыки. Когда я, развернувши свои ноты, сел за фортепьяно, учитель спросил меня, знаю ли я ноты? Желая быть правдивым, я сказал: «Не знаю».
– В таком случае вам нечего у меня делать, – сказал он.
Испугавшись дальнейших мытарств, я сказал: «Знаю, знаю», – и стал ковылять двухтактный марш и не более сложный вальс. С этой минуты все свободные часы я должен был сидеть в зале за одним из роялей, между прочим и с 11-ти до половины двенадцатого утра, когда к специальной закуске собирались учителя. Но ежедневные музыкальные мучения нисколько не подвигали дела, и казалось, что чем более я повторял заученные по пальцам пьесы, тем чаще пальцы мои сбивались с толку; так что однажды Крюммер за завтраком при всех учителях громко через всю залу спросил меня: «Ты, большун, или это все та же пьеса, которую ты два года играешь?» Чаша горести перелилась через край: на другой день, набравшись храбрости, я пошел в кабинет директора и объявил ему, что готов идти в карцер и куда угодно, но только играть больше не буду. Так расстались мы навсегда с богиней музыки, ко взаимному нашему удовольствию.
Еще в конце первого года моего пребывания в школе, когда товарищи, привыкнув ко мне, перестали меня дразнить, одно обстоятельство внесло в мою душу сильную смуту и заставило вокруг меня зашуметь злоязычие, подобно растроганной колоде пчел. Дядя, отец и мать по временам писали мне, и чаще всех дядя, изредка влагавший в свое письмо воспитаннику Шеншину сто рублей.
Часто директор по получении почты сам входил в класс и, смотря на конверты, громко называл ученика по фамилии и говорил: «Это тебе, Шеншин», передавая письмо.
Но однажды отец без дальнейших объяснений написал мне, что отныне я должен носить фамилию Фет, причем самое письмо ко мне было адресовано: Аф.
Аф. Фету. Вероятно отец единовременно писал об этом и Крюммеру, который, не желая производить смущения, продолжал передавать мне отцовские письма, говоря по-прежнему: «Это тебе, Шеншин», так как школа никакого Фета не знала. Как ни горька была мне эта нежданная новость, но убежденный, что у отца была к тому достаточная причина, я считал вопрос до того деликатным, что ни разу не обращался за разрешением его ни к кому. «Фет так Фет, – подумал я, – видно так тому и быть. Покажу свою покорность и забуду Шеншина, именем которого надписаны были все мои учебники». Затем в первом письме к дяде я подписался этой фамилией. Через месяц на это письмо я получил ответ дяди:
«Я ничего не имею сказать против того, что быть может в официальных твоих бумагах тебе следует подписываться новым именем; но кто тебе дал право вводить официальные отношения в нашу взаимную кровную привязанность?
Прочитавши письмо с твоей новой подписью, я порвал и истоптал его ногами, и ты не смей подписывать писем ко мне этим именем».
Вся эта передряга могла бы остаться в семейном кругу, так как никто сторонний не читал моих писем. Но однажды Крюммер, стоя у самой двери классной, тогда как я сидел на противоположном ее конце, сказавши: «Шеншин, это тебе», – передал письмо близстоящему для передачи мне. При этом никому не известная фамилия Фет на конверте возбудила по уходе директора недоумение и шум.
– Что это такое? У тебя двойная фамилия? Отчего же нет другой? Откуда ты? Что ты за человек? и т. д., и т. д.
Все подобные возгласы и необъяснимые вопросы еще сильнее утверждали во мне решимость хранить на этот счет молчание, не требуя ни от кого из домашних объяснений…
* * *
‹…›Троицын день у лютеран в особенном почете, и если я не ошибаюсь, в школе он праздновался в течение трех суток. Тут младших два класса под предводительством надзирателей уходили на какую-нибудь ближайшую ферму, а нам, старшим, предоставлялось право нанимать верховых лошадей и под предводительством надзирателя пускаться в довольно отдаленные прогулки.
Так однажды, я помню, мы не только добрались до Нейхаузена, с его историческими развалинами замка, но проехали и до Печор, где побывали и в монастыре, и в прилегающих к нему пещерах, углубляющихся в гору наподобие киевских, с которыми мне пришлось познакомиться позднее.
В пограничной Псковской корчме, где мы давали вздохнуть нашим наемным коням, мы наткнулись на великорослых русских троечников, везших какой-то товар. Обрадовавшись землякам, я тотчас же пустился в разговоры и должен был в свою очередь отвечать на их вопросы.
– Так сами-то вы, – добивался мой ражий собеседник, – как сюда зашли? – А затем, выслушав мои объяснения, прибавил: – Значит разными иностранными языками обучаетесь.
Когда мы за Нейхаузеном, перешедши через мосток, очутились на русской земле, я не мог совладать с закипевшим у меня в груди восторгом; слез с лошади и бросился целовать родную землю…
Однажды зимою в нашей школе появился толстоватый и неуклюжий на вид пожилой человек, приведший черного, кудрявого и высокорослого сына совершенно цыганского типа, но, как оказалось, получавшего до 15-летнего возраста воспитание в Швейцарии и говорившего только гнусливым и малопонятным французским языком.
У нас он поступил, несмотря на свой рост, в меньшой класс. Фамилия его была Воейков. Услыхав, что я русский, старик Воейков, проживший в гостинице около недели, выпросил у Крюммера позволение взять меня вместе с сыном своим к себе.
Я забыл сказать, что по рукописной книге борисовской библиотеки я дома познакомился с большинством первоклассных и второстепенных русских поэтов от Хераскова до Акимова включительно, и помнил стихи, наиболее мне понравившиеся. Я заметил, что грубоватому Воейкову было приятно, что я помнил много куплетов из его «Сумасшедшего дома». Просил он меня принять участие в его сыне, но участие мое ни к чему не повело: молодой Воейков не оказывал никаких успехов ни по части общежительности и дружбы, ни по части наук. Кажется, в течение того же года отец взял его из школы, и дальнейшая судьба его мне неизвестна.
Мое качество коренного русского обратило на себя внимание лифляндского помещика испанского происхождения Перейры, обрусевшего в русской артиллерии, в которой, достигнув чина полковника, он женился на весьма милой дочери лифляндского богача Вульфа, обладавшего, как мне говорил сам директор Крюммер, 360-ю больших и малых имений и фольварков. Отставной артиллерийский полковник Перейра получил за женою в приданое прекрасное имение и прижил с нею двух детей: мальчика Альфонса и девочку, носившую имя матери Елизавета. Молодой Перейра, малый моих лет, был во второй палате и никак не выше третьего класса, но зато отличался всякого рода шалостями и непокорством. Считая, вероятно, для сына, предназначаемого в военную службу, мое товарищество полезным, хотя бы в видах практики в русском языке, полковник сперва упросил Крюммера отпускать меня в гостиницу в дни, когда сам приезжал и брал к себе сына, а затем, узнавши, что изо всей школы на время двухмесячных каникул я один останусь в ней по отдаленности моих родителей, он упросил Крюммера отпустить меня к ним вместе с сыном.
Полковник Перейра, оказалось, был человек зажиточный, содержавший имение и дом при помощи приветливой и красивой блондинки жены в примерном порядке. Мы с Альфонсом пользовались полною свободой, но причудам и шалостям последнего представлялось в имении отца слишком тесное поприще, так как всякая из выходок могла дойти до отца, который, поставляя меня в пример благонравия, не щадил сына резкими замечаниями. За неимением лучшего развлечения Альфонс забавлялся преследованием своей милой сестры, гонялся за ней и нещадно теребил ее за прекрасные светло-русые косы. Бедная девочка кричала и плакала; на голос ее выходила мать и останавливала шалуна, но по уходе ее преследования сестры начинались снова, так что я нередко вступался за девочку. Зато когда нас привозили по соседству в знаменитое имение Сербигаль к богатому деду Альфонса Вульфу, проказам и своеволию мальчика не было границ.
‹…›Вероятно, наша ночная оргия в Сербигале сильно не понравилась отцу Перейры, который, должно быть, пришел к заключению, что мое товарищество мало способствует нравственному воспитанию Альфонса. Перейры более не брали меня к себе на каникулы; и, оставаясь один в громадной пустой школе и пустом для меня городе, я слонялся бесцельно целый день, напоминая более всего собаку, потерявшую хозяина. К счастью моему, Гульч женился на очень милой девушке, и я хотя изредка заходил в небольшой их домик. Раза с два я увязывался даже за Гульчем на болотную охоту, причем городской его товарищ по охоте любезно снабжал меня двуствольным ружьем и патронташем. В первый раз я лихо срезал первым выстрелом взлетевшего передо мной бекаса, но затем промах следовал за промахом. На следующий раз, когда, уставши равняться со старыми охотниками, я поставил кремневую двустволку со взведенными курками прикладом на ягдташ, приклад, неожиданно соскочив, заставил меня внезапно сжать шейку ружья; палец мой попал на левую собачку, и раздался никем не ожидаемый выстрел. Мне было совестно и больно на обожженной правой щеке.
– Что такое? Что такое? – спрашивали мои товарищи, между которыми я шел, и вдруг Гульч, взглянув на меня, разразился гомерическим смехом: правая щека моя представляла подбородок негра. При вспышке полка, находящаяся прямо против правой щеки, закоптила последнюю и глубоко загнала в нее пороховые зерна.
На другой день Крюммер, увидавши на полу моей классной около умывальника громадную дохлую крысу, спросил: «Это, должно быть, та дичина, которую ты вчера застрелил?»
Чтобы не остаться татуированным на всю жизнь, я вынужден был иглою выковыривать засевшие в щеку порошинки.
Вследствие неудачи я опять пошел по целым дням бесцельно и тоскливо слоняться по городу, причем щеголял пестрым бухарским архалуком, купленным мною, по примеру одного из франтоватых товарищей, у проезжего татарина.