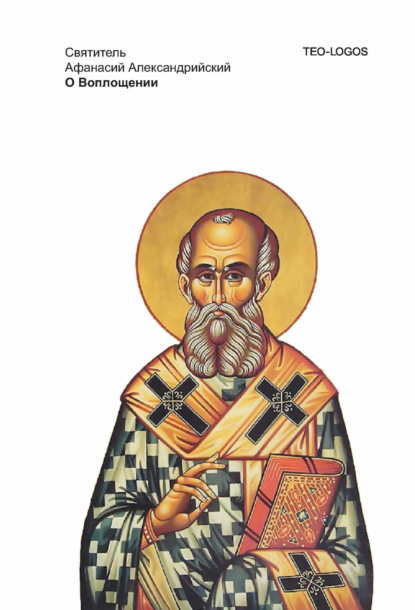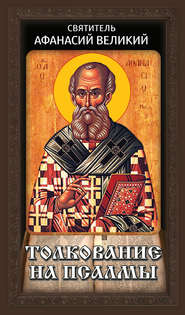По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
О Воплощении
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
О Воплощении
Святитель Афанасий Великий
TEO-LOGOS
Святитель Афанасий Александрийский, прозванный Великим, первый богослов, обосновавший догмат Воплощения как необходимую часть христианской жизни. Он соединил в себе аскетический настрой, философскую проницательность и умение формулировать догматы как всеобщие истины. Церковное учение было для него самим дыханием христианских добродетелей. Труды Афанасия Великого и в наши дни раскрывают церковные догматы как правила, по которым в христианском мире действуют вера, надежда и любовь.
Святитель Афанасий Александрийский
О Воплощении
????????? ????????????
? ??????????? ??? ?????
* * *
Перевод под редакцией проф. П. С. Делицына
Вступительная статья А. В. Маркова
© Марков А. В., вступительная статья, 2018
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2018
Предисловие
Когда великим называют ученого, художника или полководца, конечно, вспоминают раннюю смелость: доказанную в юности теорему, поражавшие мастеров карандашные рисунки, или командование отрядом, в котором все были старше по возрасту. Когда великим называют богослова, внимают не только смелости, но и милости. Великий богослов – тот, кто милостив даже тогда, когда ему приходится взять небывалую суровую ответственность за все благополучие Церкви: так именуются римские папы Лев Великий и Григорий Великий, так именуется Афанасий Великий.
Афанасий Великий родом был из состоятельной александрийской семьи, но с самого начала жизни принадлежал не только ей. Он с детства был отдан на воспитание александрийскому патриарху Александру, по старому римскому обычаю: кто желал быть среди патрициев, кто хотел научиться принимать ответственные решения, тот с первых лет, едва научившись строить фразы, уже обязан был посещать заседания Сената, внимая и понимая, что обсуждается на них, сопровождать наставника и за едой, и в путешествиях, и в разборе бумаг, тем самым перенимая спокойствие его величия. Но Афанасий учился не только ведению дел епархии, но и участию в просветительских беседах: не только торжественным выступлениям, но и не менее ответственным высказываниям по самому незаметному поводу.
Когда Афанасий Александрийский, сопровождая наставника, отправился на Первый Вселенский Собор в 325 г., ему точно не было еще и тридцати: он не мог быть даже рукоположен диаконом, и поэтому служил на низшей должности анагноста-чтеца. В обязанности чтеца входило чтение библейских книг перед народом, с целью просвещения и утешения; иногда чтец мог также объяснять прочитанное, или же вести разговоры с новообращенными. Но главное, что от него требовалось – умение читать выразительно, нараспев, музыкально, во всеуслышание. Нам, знающим по преимуществу лишь актерскую декламацию, трудно представить себе, сколь важным было ритуальное чтение для столь разных культур, как ближневосточная и греко-римская. На Ближнем Востоке умение читать вслух – первое умение будущего мудреца, умение привлечь к себе внимание слушателей хотя бы ненадолго, чтобы после мудрость старших пленила их надежно. Это умение вернуть документ, официальный учет, летопись или бухгалтерскую ведомость, из стен канцелярии к открытому обсуждению. В древней Греции нараспев читали стихи как объявления богов, например, так декламировали оды Пиндара, воспевавшие победителей олимпийских состязаний, избранных богами – чтец тогда был как сейчас изготовитель афиш для зрелища, или как рекламист, или как корреспондент, ведущий прямой репортаж: прежде чем величие самого зрелища увидит и старый, и молодой, монументальность чтения, запечатлевающего событие, документировала его лучше любой записи. Чтецом Афанасий прослужил не меньше шести лет, и это означало, что он учился мудрости у наставника-епископа, одновременно обучаясь беседе с самыми различными аудиториями.
В 328 году, по одним рассказам в 33 года, по другим даже раньше, Афанасий становится александрийским патриархом, сменив умершего вскоре после Первого Вселенского собора патриарха Александра. Египетская Александрия до сих пор – нарицательное название космополитического города, как центра образования, при этом таинственного даже в бытовых жестах, не говоря уже о щемящей тайне культурной памяти о нем. Если в античности как не стихающую боль утрат цветущих городов вспоминали Трою и Микены, Фивы и Делос, то в новое время стало принято вспоминать Александрию; даже декадентскую манерность иногда называли «александризмом», имея в виду смутные мистические увлечения и многоязычие. Поэты символистских школ воспевали древнюю Александрию бледных писцов и мучительных красавиц. Но на самом деле Александрия была городом с постоянно меняющимся населением, бунтами, дороговизной, со всеми пороками портового города. Город грузчиков и торговцев постоянно угрожал взрывом страстей, сметающих все на пути и меняющих все расклады привычек к мирной жизни.
Уже из этого понятно, чем должен был заниматься юный церковный администратор и помощник в проповедях. Жители Александрии, как и любого космополитического города, думали каждый о собственной славе, легко сговаривались одни против других и с недопустимым легкомыслием подчиняли ум всяческим суевериям. Афанасий боролся с такими настроениями: ответственность за каждого, с кем подружился, была для него важнее успеха.
Афанасий Александрийский прежде всего известен как противник Ария, александрийского священника, желавшего быть епископом, но не преуспевшего в этом. Арий встал во главе богословского синтеза, который, если бы не Афанасий и другие серьезные богословы, стал бы единственным официальным богословием Империи после принятия ею христианства. Арий рассуждал так: следствие никогда не бывает больше причины, и значит, Сын не может обладать всеми теми же свойствами, что Отец. Три лица Троицы – это три разных уровня Божества, связанные единым действием, но не единой природой. Христианский Бог оказался похож на любой позднеримский пантеон.
Но не нужно считать Ария просто мастером компромиссов, который представлял христианство удобным для недавних язычников образом; иначе мы не поймем, почему на несколько десятилетий на стороне Ария оказалась большая часть Империи, от самых верхов до низов. Арий был, как сказали бы тогда, «технолог»: иначе говоря, он переносил в богословие правила логического и риторического искусств. Логика требовала, чтобы причина была первична, а риторика, чтобы она была непритворным началом всех наших притворных суждений. Можно сказать, что Арий, сочинитель популярной оратории «Талия» (текст до нас не дошел, но по рассказам, это была именно поп-музыка), развертывал перед умственным взором своих слушателей настоящее шоу, в котором разные искусства создают неотразимый образ Божества.
Дебютом противников Ария стал Первый Вселенский собор, на котором был сформулирован догмат о единосущии Отца и Сына. Термин единосущие звучал необычно: в Библии его нет, сущность – сложное философское понятие, вряд ли сразу доступное простым христианам. Но отцы Первого Вселенского собора смело ввели новый термин как единственный, позволяющий созерцать Бога без предварительных условий; тогда как арианство было именно попыткой найти те интеллектуальные условия, которые позволят созерцать Бога.
Афанасий Александрийский, выступая против Ария и его последователей, приводил простые доводы, почему нельзя считать Сына не равным Отцу. Если продумать высказывания Ария, то Сын окажется бесконечно зависим от обстоятельств – от решения о нем, от отцовской заботы, отцовской мысли и разнообразных обстоятельств этой мысли. Сын тогда окажется хуже творений, потому что если творения несут на себе следы мудрости и заботы Бога, то Сын окажется лишь переменной, зависящей от уже проявленной мудрости и заботы, окажется всего-навсего символом, которому временные обстоятельства припишут любое значение. Вместо торжествующей картины Отца, возвышающегося в возвышенном создании Сына, которую хотел видеть Арий, мы остаемся наедине с унижением со стороны случайных обстоятельств, выдающих себя за необходимость.
Другая слабость богословских построений Ария – подрыв библейских именований Бога. Само слово Сын подразумевает рождение и единство природы, – и если мы будем считать Сына лучшим творением, собранием желаний и задач Бога-Отца, каких-то невнятных порывов свыше, то мы просто перестанем ориентироваться в духовном опыте, заблудившись в лесу незавершенных замыслов: любой духовный факт нас будет только озадачивать, и мы растворимся в собственных бесплодных желаниях. Не узнавая истину, мы будем узнавать лишь сравнения и подобия, всё больше запутываясь в них. Только созерцание единства природы показывает, как созерцание качественно меняет наши привычки всё со всем сравнивать: по-настоящему созерцая, мы по-настоящему знаем самые основания сравнения.
Как епископ, Афанасий соблюдал обычай объезжать все храмы своей епархии, везде проповедуя и беседуя с народом. Иногда ему приходилось скрываться, и тогда он обращался за помощью к монашеству. Так, в 335 г. Афанасий был осужден Тирским собором по обвинению в организации убийства священника Арсения. Арсений придерживался позиций Мелития, сурово относившегося к отступникам, считавшего, что священник, уклонившийся от мученичества, может далее быть в Церкви лишь мирянином. Арсению приходилось подолгу скрываться от толпы, чем и воспользовались клеветники, заявившие, будто бы Афанасий убил Арсения и пользуется его рукой в магических целях. На самом деле Арсений действительно потерял руку во время самосуда над ним, но остался в живых, – и Афанасию удалось доказать свою невинность: Арсений нашелся в одном из городских монастырей. Его поэтому осудили по обвинению в растрате церковного имущества: якобы он распродал или сжег какие-то книги. Смысл этой клеветы не будет нам ясен, если мы не поймем, что в Египте было особое отношение к останкам: мумии, обернутые в свитки папируса, словно в книгу, считались достоверными свидетелями событий, и поэтому останки могли признаваться в мире суеверных умов магическим инструментом власти над событиями, над их учетом, присланными из вечности бухгалтерами и управленцами. Афанасия обвиняли по сути в том, что он присвоил себе власть над всеми церковными делами. И как всегда, при обвинениях со стороны горожан его выручали монахи, которые могли приютить изгнанника и передавать в Александрию его письма и наставления.
Монашество начального времени было уделом сильных, даже яростных людей – решительности действий которых не могли вместить обычные города. Также в монахи шли дети самых влиятельных и богатых семейств: не усматривая радости в высоких административных постах в эпоху превратности политических судеб, они отправлялись в пустыню одерживать победу над собой. Идеал власти над собой как высшей власти обосновала школа стоиков, в лице таких всемирных писателей, как Цицерон, но христианство развернуло в бесконечность милосердия то, что у стоиков никогда не было до конца свободно от эгоизма. В монашестве заявила о себе таинственная связь со всеми соседними отшельниками: не видя лиц друг друга, монахи как никто чувствовали чужую беду и знали, как ей помочь, отзываясь на первый зов. Афанасий в Житии Антония Великого изобразил этот идеал монашества: не просто знать всех, кто встал на путь подвига, но и сразу понимать, какому навыку кто научился, в чем преуспел – тогда любые завоевания будут служить деятельной любви. Мы научимся не просто оказывать помощь, но и учить других спешить на помощь. Но конечно, основное занятие монашества – борьба со страстями, с ошибочными решениями; и в этом смысле его можно сопоставить с образованием, с обучением в течение многих лет взвешенности в суждениях и поступках. Дружба Афанасия Великого с монахами и создала новый канон свидетельства: с той поры в нашем мире свидетельствуют не гробницы, мумии и кости, но живая запись любви на скрижали сердца, и трепетная плоть сердца важнее мертвого учета даже самых значительных событий.
Другое дело, что обвинения против Афанасия Великого поступали очень часто, и в конце концов, император Константин Великий сослал его в Галлию, нынешний город Трир, при этом запретив выбирать нового епископа Александрии, дабы не вспыхнула гражданская война – это последнее решение и позволило Афанасию при первой возможности вернуться в Александрию. Афанасий Великий где бы ни оказывался, убеждал всех в преимуществе богословия равенства лиц Троицы.
В 337 г. император Константин умер, и императором стал его сын Констанций, убежденный последователь Ария. Констанций считал, что богословие Ария, как богословие, в котором Отец не столько рождает Сына, сколько организует Его как собственную мудрость и силу, триумфальные проявления собственной воли и красоту вдруг развернувшегося величия, больше всего отвечает государственному интересу сложно устроенной империи. Весь двор Констанция стал арианским, быть последователем Ария и означало строить империю; и Афанасий не мог уже оставаться епископом имперского мегаполиса. Он бежал в Рим на целых три года, где чиновники старой выучки и старых обычаев не принимали тщеславия Констанция, но разумно полагали, что богословские вопросы должны решаться в храмах, а не при дворе. По сути, тогда и окончательно утверждалось представление о «кафедре»: о том, что епископ не только инспектирует подчиненные ему общины, но и учит публично во всеуслышание. В Риме это представление о том, что высказанное ex cathedra истинно, развивалось и дальше; и нынешние университетские кафедры – тени этого образа интеллектуальной неподкупности.
В 346 г. Афанасий торжественно вернулся в Александрию, где сразу провел небывалую реформу: стал возводить на епископские кафедры монахов. До этого епископами становились опытные в придворных или административных делах христиане, умевшие общаться с властями. Монашеский епископат становился самоуправляемым – ему не нужно было выстраивать отношения с чиновниками, напротив, чиновники должны были научиться правильно общаться с новыми епископами. Констанций был недоволен самостоятельностью Афанасия, вызывал его не раз к себе, – но даже захват действующей армией всех храмов не позволил задержать Афанасия, которого опять спрятали монахи, а обычные горожане не питали никакой приязни к бесчинству солдат. С 356 по 362 г. Афанасий жил в пустыне, писал трактаты и письма; при этом ему удавалось ездить за пределы Египта и даже много раз навещать Александрию, где он частным образом вел беседы с единомышленниками.
Парадоксальным образом возвращению Афанасия в Александрию способствовал император Юлиан, возродивший язычество как официальную религию Империи. Юлиан считал, что управлять множеством народов, входящих в Империю, можно только с помощью могущественных символов. Солнце и Луна, Олимп и Парнас годились на роль таких символов, тогда как в Библии, считал Юлиан, раскрываются только частные судьбы отдельных людей. Конечно, язычество Юлиана было слишком притворным для того, чтобы стать живой исторической силой: сам Юлиан был рядовым философом, умеющим поставить религию на службу своим рациональным целям, а вовсе не религиозным вождем. Рассчитывая на скорый крах христианской церкви под тяжестью внутренних споров, Юлиан распорядился в 362 г. вернуть всех епископов на их кафедры. Но император неверно представлял себя жизнь Церкви: он считал, что православные и арианские епископы окончательно разрушат церковь выяснениями, кто должен быть на кафедре – но так можно разрушить философскую школу, а не Церковь. В Церкви одаренный епископ сможет найти себе друзей, и вернуть себе влияние благодаря чувству внутренней правоты, которое разделят с ним и его друзья – какие-либо интриги, опрокидывающие самого интригана в ту же пропасть недоумений, здесь просто не нужны. Дружба сердец подскажет те решения, которые не будут стратегическими или тактическими, но просто станут единственной возможностью прожить в согласии после долгих смут. В конце концов, Юлиан сам испугался того влияния, которое Афанасий стал приобретать в Александрии, и распорядился его задержать – Афанасию пришлось в очередной раз прятаться в пустыне среди монахов.
После смерти императора Юлиана на поле боя Афанасий вернулся в Александрию. Из 40 лет его епископства 17 пришлось на ссылки и беженство. Последние годы жизни, до кончины в 373 г., прошли сравнительно спокойно, во что поверить трудно, зная нравы Александрии. Только в 366 г. язычники сожгли кафедральный собор, но Афанасий не стал восстанавливать его, а велел строить новый собор в другом месте. Вероятно, для Афанасия возможность проповедовать на любом месте была важнее продолжения борьбы с язычниками и арианами, где можно было ждать новых провокаций. В новом храме нелепо было бы искать «скелеты в шкафу» и разного рода фальсификации врагов, которые не прочь были подбросить чьи-то останки как доказательство мнимого преступления.
«Слово о воплощении» и «Слово против язычников» – ранние произведения Афанасия Великого, написанные, вероятно, около 318 г. (двадцатилетним церковным чтецом!). Вполне возможно, что они были доработаны около 335 г., для нужд мира и богословского развития в Александрии, но не менее вероятно, что эти произведения одареннейшего юноши уже заключали в себе всё будущее богословие. Часто в юности мы переживаем мысли как программу для всего нашего будущего, как меру взрослости; и дальнейшие размышления и построения – только более-менее последовательное изложение пережитого тогда. Так было и со словами Афанасия Великого: это не краткое описание готового богословия, но умение измерить то, каким оно должно стать, чтобы за мысли Церкви не принимали то, что мыслями Церкви быть не может.
«Четыре слова против ариан» – это уже результат реальной полемики против богословов, разделявших систему Ария, причем не столько дерзких, сколько боязливых, опасавшихся, что слово «единосущный» будет понято как указание на какую-то безличную сущность, вдруг проявляющуюся лицами Троицы. Афанасий Великий объяснял, что сущность – это не вещь, не предмет, но само существование, которое не приспосабливает к себе вещи и не лишает их неповторимости. Мы просто привыкли пользоваться вещами как взаимно заменяемыми, и ариане боятся замен и подмен; но ничего вещественного нельзя сказать о божественном бытии. Лица Троицы потому и действуют вместе, что не могут заменить друг друга. Божественное бытие скорее могло бы быть выражено на человеческом языке не словом «бытие», а словом «свобода» или «факт», или как-то еще.
Божественное бытие – это то существование, основанием которого и оказывается неповторимость и равенство лиц Троицы: ведь неповторимые только тогда поневоле не уничтожают друг друга, когда они равны. Без равенства не обойдемся мы и в нашей повседневной жизни: только равное доверие позволяет всем поступать равно честно. Без равенства не обойдется даже природа: жизнью равно наделены длящие свою жизнь существа, а срыв этого продолжения жизни в ее недостаток и называется смертью.
Божественная природа не знает этих срывов, и потому становится любимым предметом мысли: интеллектуальная любовь – это и есть умение думать о Боге. Так находя основание в лицах (слово «ипостась» и значит «основание утверждения», «сбывшееся»), божественная природа, она же сущность, сбывается как сама честность Бога; и нечестно поэтому было бы думать, как ариане, что Бог наводит в себе какой-то порядок, как будто творя заговор против себя. Так у Афанасия Великого всегда переплетены нравственные аргументы, коренящиеся в переживании бытия как такового, и созерцание бытия, исследующее минимальные условия существования любви.
Иван Васильевич Попов (1867–1938), статью которого «Религиозный идеал св. Афанасия» мы включили в этот сборник, профессор Московской духовной академии, был одним из самых необычных церковных деятелей своего времени. Аскет, посвящавший науке дни и ночи, он был невероятно открытым человеком: именно благодаря ему «Богословский вестник» стал трибуной для обсуждения важнейших вопросов культуры; и решая редакторские задачи «Богословского вестника», великим теоретиком культуры стал Павел Флоренский. После революции И. В. Попов во многом поддерживал благополучие гонимой, и, вероятно, приговоренной к уничтожению Церкви: в 1924 г. он вел переписку с Константинопольским патриархом, убеждая его поддерживать Московского патриарха, в 1926 г. в заключении в Соловецком лагере вместе с ссыльными епископами и священниками составил «Соловецкое послание», с обоснованием, почему советская власть не должна посягать на существование Церкви, в 1928 г. в ссылке в селе Ситомино на реке Обь организовал передачу продуктов для митрополита Петра, законного главы Российской Церкви, сосланного в эти края. При этом он во всех ссылках был организатором образования на местах, обучал рабочих и заключенных, создавал учебные пособия, находил врачей для нуждающихся – как деятель международного Красного Креста он и был в очередной раз сослан за шпионаж в пользу Ватикана и расстрелян за «контрреволюционную агитацию». Так И. В. Попов прожил горестную судьбу своих любимых собеседников, включая Афанасия Александрийского, и теперь беседует с нами, напоминая, сколь опасны любые подмены понятий, напоминая, что открытость к культуре как к возможности правде сбыться прямо сейчас, спасает богословие от ханжества, а политику – от нарочитой поспешности, грозящей лагерями и смертными приговорами.
Множество богословов, от святителя Григория Назианзина, прозванного Богословом, до теологов наших дней, восхищаются Афанасием Великим как человеком, не просто добродетельным в жизни, но добродетельным в каждом своем слове, мысли и жесте. Бывают люди решительные в своих идеях и построениях, часто это великие мыслители, но их решительность движима страхом инерции или ошибки. Афанасий Великий – уникальный в мировой истории философии случай, когда решительность мысли не реактивна, а активна, когда она исходит из того созерцания, на которое доброе слово, взвешенное, справедливое и примиряющее – единственный достойный ответ. Завершить это вступление хотелось бы глубокими словами преподобномученицы Марии (Скобцовой): «Питавшая Византию греческая культура и философия целиком и неразрывно связана с… первоначальным периодом истории Церкви. Более напряженного и громкого слова человечество не создавало тогда… Быть может, период Афанасия Великого, – период гармонического сочетания божественного Откровения и человеческой мудрости, – был воистину золотым веком в истории христианского человечества». И русская Церковь, и русская культура скажут «аминь» слову матери Марии.
Александр Марков,
Профессор РГГУ и ВлГУ,
31 декабря 2017 г.
Свт. Афанасий Великий (Александрийский)
О Воплощении
(сборник)
Слово на язычников
1) Ведение богочестия и вселенской истины не столько имеет нужды в человеческом наставлении, сколько познается само собою, потому что едва не вопиет о себе ежедневно в делах и светлее солнца открывает себя в Христовом учении. Но поелику тебе, блаженный, желательно слышать о сем, то, по мере сил своих, предложу нечто о вере Христовой; тем паче, что, хотя и сам ты можешь найти это в Божием Слове, однако же с любовию слушаешь, что говорят и другие. Ибо как святых и богодухновенных Писаний достаточно к изъяснению истины, так и блаженными нашими Учителями сочинены об этом многие книги. И если кто будет читать их, то найдет в них некоторым образом истолкование Писаний и придет в состояние приобрести желаемое им ведение. Но поелику не имеем в руках теперь сочинений этих Учителей, то, чему научился я из них, – разумею же о вере во Христа Спасителя, – необходимо изложить и сообщить это тебе письменно, чтобы учения, заключающегося в слове нашем, не почел кто маловажным и не стал предполагать, будто бы вера во Христа не разумна.
Такие же клеветы в укоризну нашу слагают язычники. Они громко смеются над нами, указывая не на иное что, а только на крест Христов. Но тем паче можно пожалеть о бесчувствии их. Клевеща на крест, не видят они силы креста, наполнившей целую вселенную, не видят, что крестом стали явны для всех дела Боговедения. Ибо если бы сами они искренно вникли умом в Божество Христово, то не стали бы столько насмехаться; а напротив того, познали бы сего Спасителя миру, познали бы, что в кресте – не вред, но врачевство твари. Если с явлением креста уничтожено всякое идолослужение и крестным знамением прогоняется всякое бесовское мечтание; если единому Христу поклоняются и чрез Него познается Отец; если противоречащие постыжаются, и Христос с каждым днем невидимо преклоняет к Себе души прекословов, то вправе мы сказать язычникам: как же можно это дело признать человеческим, а не исповедать паче, что Восшедший на крест есть Божие Слово и Спаситель мира? Мне кажется, что с язычниками делается то же, что и с человеком, который бы стал унижать солнце, закрытое облаками, и потом – дивиться его свету, видя, что озаряется им вся тварь. Как прекрасен свет, а еще прекраснее виновник света – солнце; так, поелику наполнение целой вселенной Боговедением есть Божие дело, необходимо виновником и вождем в таком успешном действии быть Богу и Божию Слову.
Итак, сперва обличу, сколько могу, невежество неверующих, чтобы, по обличении лжи, сама собою воссияла, наконец, истина, и для тебя несомненно было, что уверовал ты в истину и, познав Христа, не впал в обман. Думаю же, что с тобою, как с Христолюбцем, прилично рассуждать о Христе. Ибо уверен, что ведение о Нем и веру в Него предпочитаешь всему.
2) В начале не было зла; потому что и теперь нет его во святых, и для них вовсе не существует оно. Но люди впоследствии сами против себя начали примышлять и воображать злое. Отсюда же, конечно, образовали себе и первую мысль об идолах, не-сущее представляя как сущее.
Создатель мира и Царь царей Бог, превысший всякой сущности и человеческого примышления, как благий и все превосходящий добротою, сотворил род человеческий по образу Своему, собственным Словом Своим, Спасителем нашим Иисусом Христом, и чрез уподобление Себе соделал его созерцателем и знателем сущего, дав ему мысль и ведение о собственной Своей вечности, чтобы человек, сохраняя это сходство, никогда не удалял от себя представления о Боге и не отступал от сожития со святыми, но, имея в себе благодать Подателя, имея и собственную свою силу от Отчего Слова, был счастлив и собеседовал с Богом, живя невинною, подлинно блаженною и бессмертною жизнию. Ни в чем не имея препятствия к ведению о Боге, человек, по чистоте своей, непрестанно созерцает Отчий образ, Бога Слова, по образу Которого и сотворен, приходит же в изумление, уразумевая Отчее чрез Слово о всем промышление, возносясь мыслию выше чувственного и выше всякого телесного представления, силою ума своего касаясь божественного и мысленного на небесах. Когда ум человеческий не занят телесными предметами и не примешивается к нему совне возбуждаемое ими вожделение, но весь он горе и собран в себе самом, как было в начале: тогда, преступив за пределы чувственного и всего человеческого, парит он в горних, и, взирая на Слово, видит в Нем Отца Слову, услаждаясь созерцанием Его и обновляясь в любви к Нему. Так и Священные Писания о первом сотворенном человеке, который на еврейском языке назван Адамом, говорят, что в начале с непостыдным дерзновением устремлен был он умом к Богу и сожительствовал со Святыми в созерцании мысленного, какое имел в том месте, которое святой Моисей, в переносном смысле, наименовал раем (Быт. 2, 8). А к тому, чтобы видеть в себе Бога, достаточно душевной чистоты, как и Господь говорит: «блажени чистии сердцем; яко тии Бога узрят» (Мф. 5, 8).
3) Таким, по сказанному, Создатель соделал род человеческий и желал, чтобы таким же и пребыл он. Но люди, вознерадев о совершеннейшем и поленившись постигнуть его, охотнее взыскали того, что ближе к ним; ближе же к ним были тело и телесные чувства. Посему уклонили они ум свой от мысленного, начали же рассматривать самих себя. А рассматривая себя, занявшись телом и иными чувственными вещами, и обольщаясь этим, как своею собственностью, впали в самовожделение, предпочетши собственное созерцанию Божественного, и закоснев в этом, не хотя оставить ближайшаго к ним, смятенную и возмущенную всякими вожделениями душу свою подавили плотскими удовольствиями; наконец же забыли о своих силах, дарованных Богом вначале. Что это истинно, – можно видеть то и на первосозданном человеке, как говорят о нем Священные Писания. Пока ум его устремлен был к Богу и к созерцанию Бога, – он отвращался от воззрения на тело. Когда же, по совету змия, оставил мысль о Боге и начал рассматривать себя самого, тогда впал в плотское вожделение. «И уразумеша, яко нази бегла» (Быт. 3, 7), и уразумев, устыдились. Узнали же наготу свою не столько по недостатку одежд, но и потому, что совлеклись созерцания Божественного и обратили мысль к противоположному. Ибо, уклонившись от мысленного устремления к Единому и Сущему (разумею Бога) и от любви к Нему, вдались уже в различные и частные пожелания тела. Потом, как обыкновенно бывает, допустив в себя вожделение каждой вещи и вдруг многих вещей, начали иметь привязанность и к самим вожделениям; а потому стали бояться оставить их.
От сего произошли в душе и боязнь, и страх, и удовольствие, и мысли свойственные смертному. Душа, не желая оставить вожделений, боится смерти и разлучения с телом; снова же вожделевая и не достигая подобного прежнему, научается убивать и делать неправду. А почему и это делает душа, уместно будет объяснить это по мере сил.
Святитель Афанасий Великий
TEO-LOGOS
Святитель Афанасий Александрийский, прозванный Великим, первый богослов, обосновавший догмат Воплощения как необходимую часть христианской жизни. Он соединил в себе аскетический настрой, философскую проницательность и умение формулировать догматы как всеобщие истины. Церковное учение было для него самим дыханием христианских добродетелей. Труды Афанасия Великого и в наши дни раскрывают церковные догматы как правила, по которым в христианском мире действуют вера, надежда и любовь.
Святитель Афанасий Александрийский
О Воплощении
????????? ????????????
? ??????????? ??? ?????
* * *
Перевод под редакцией проф. П. С. Делицына
Вступительная статья А. В. Маркова
© Марков А. В., вступительная статья, 2018
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2018
Предисловие
Когда великим называют ученого, художника или полководца, конечно, вспоминают раннюю смелость: доказанную в юности теорему, поражавшие мастеров карандашные рисунки, или командование отрядом, в котором все были старше по возрасту. Когда великим называют богослова, внимают не только смелости, но и милости. Великий богослов – тот, кто милостив даже тогда, когда ему приходится взять небывалую суровую ответственность за все благополучие Церкви: так именуются римские папы Лев Великий и Григорий Великий, так именуется Афанасий Великий.
Афанасий Великий родом был из состоятельной александрийской семьи, но с самого начала жизни принадлежал не только ей. Он с детства был отдан на воспитание александрийскому патриарху Александру, по старому римскому обычаю: кто желал быть среди патрициев, кто хотел научиться принимать ответственные решения, тот с первых лет, едва научившись строить фразы, уже обязан был посещать заседания Сената, внимая и понимая, что обсуждается на них, сопровождать наставника и за едой, и в путешествиях, и в разборе бумаг, тем самым перенимая спокойствие его величия. Но Афанасий учился не только ведению дел епархии, но и участию в просветительских беседах: не только торжественным выступлениям, но и не менее ответственным высказываниям по самому незаметному поводу.
Когда Афанасий Александрийский, сопровождая наставника, отправился на Первый Вселенский Собор в 325 г., ему точно не было еще и тридцати: он не мог быть даже рукоположен диаконом, и поэтому служил на низшей должности анагноста-чтеца. В обязанности чтеца входило чтение библейских книг перед народом, с целью просвещения и утешения; иногда чтец мог также объяснять прочитанное, или же вести разговоры с новообращенными. Но главное, что от него требовалось – умение читать выразительно, нараспев, музыкально, во всеуслышание. Нам, знающим по преимуществу лишь актерскую декламацию, трудно представить себе, сколь важным было ритуальное чтение для столь разных культур, как ближневосточная и греко-римская. На Ближнем Востоке умение читать вслух – первое умение будущего мудреца, умение привлечь к себе внимание слушателей хотя бы ненадолго, чтобы после мудрость старших пленила их надежно. Это умение вернуть документ, официальный учет, летопись или бухгалтерскую ведомость, из стен канцелярии к открытому обсуждению. В древней Греции нараспев читали стихи как объявления богов, например, так декламировали оды Пиндара, воспевавшие победителей олимпийских состязаний, избранных богами – чтец тогда был как сейчас изготовитель афиш для зрелища, или как рекламист, или как корреспондент, ведущий прямой репортаж: прежде чем величие самого зрелища увидит и старый, и молодой, монументальность чтения, запечатлевающего событие, документировала его лучше любой записи. Чтецом Афанасий прослужил не меньше шести лет, и это означало, что он учился мудрости у наставника-епископа, одновременно обучаясь беседе с самыми различными аудиториями.
В 328 году, по одним рассказам в 33 года, по другим даже раньше, Афанасий становится александрийским патриархом, сменив умершего вскоре после Первого Вселенского собора патриарха Александра. Египетская Александрия до сих пор – нарицательное название космополитического города, как центра образования, при этом таинственного даже в бытовых жестах, не говоря уже о щемящей тайне культурной памяти о нем. Если в античности как не стихающую боль утрат цветущих городов вспоминали Трою и Микены, Фивы и Делос, то в новое время стало принято вспоминать Александрию; даже декадентскую манерность иногда называли «александризмом», имея в виду смутные мистические увлечения и многоязычие. Поэты символистских школ воспевали древнюю Александрию бледных писцов и мучительных красавиц. Но на самом деле Александрия была городом с постоянно меняющимся населением, бунтами, дороговизной, со всеми пороками портового города. Город грузчиков и торговцев постоянно угрожал взрывом страстей, сметающих все на пути и меняющих все расклады привычек к мирной жизни.
Уже из этого понятно, чем должен был заниматься юный церковный администратор и помощник в проповедях. Жители Александрии, как и любого космополитического города, думали каждый о собственной славе, легко сговаривались одни против других и с недопустимым легкомыслием подчиняли ум всяческим суевериям. Афанасий боролся с такими настроениями: ответственность за каждого, с кем подружился, была для него важнее успеха.
Афанасий Александрийский прежде всего известен как противник Ария, александрийского священника, желавшего быть епископом, но не преуспевшего в этом. Арий встал во главе богословского синтеза, который, если бы не Афанасий и другие серьезные богословы, стал бы единственным официальным богословием Империи после принятия ею христианства. Арий рассуждал так: следствие никогда не бывает больше причины, и значит, Сын не может обладать всеми теми же свойствами, что Отец. Три лица Троицы – это три разных уровня Божества, связанные единым действием, но не единой природой. Христианский Бог оказался похож на любой позднеримский пантеон.
Но не нужно считать Ария просто мастером компромиссов, который представлял христианство удобным для недавних язычников образом; иначе мы не поймем, почему на несколько десятилетий на стороне Ария оказалась большая часть Империи, от самых верхов до низов. Арий был, как сказали бы тогда, «технолог»: иначе говоря, он переносил в богословие правила логического и риторического искусств. Логика требовала, чтобы причина была первична, а риторика, чтобы она была непритворным началом всех наших притворных суждений. Можно сказать, что Арий, сочинитель популярной оратории «Талия» (текст до нас не дошел, но по рассказам, это была именно поп-музыка), развертывал перед умственным взором своих слушателей настоящее шоу, в котором разные искусства создают неотразимый образ Божества.
Дебютом противников Ария стал Первый Вселенский собор, на котором был сформулирован догмат о единосущии Отца и Сына. Термин единосущие звучал необычно: в Библии его нет, сущность – сложное философское понятие, вряд ли сразу доступное простым христианам. Но отцы Первого Вселенского собора смело ввели новый термин как единственный, позволяющий созерцать Бога без предварительных условий; тогда как арианство было именно попыткой найти те интеллектуальные условия, которые позволят созерцать Бога.
Афанасий Александрийский, выступая против Ария и его последователей, приводил простые доводы, почему нельзя считать Сына не равным Отцу. Если продумать высказывания Ария, то Сын окажется бесконечно зависим от обстоятельств – от решения о нем, от отцовской заботы, отцовской мысли и разнообразных обстоятельств этой мысли. Сын тогда окажется хуже творений, потому что если творения несут на себе следы мудрости и заботы Бога, то Сын окажется лишь переменной, зависящей от уже проявленной мудрости и заботы, окажется всего-навсего символом, которому временные обстоятельства припишут любое значение. Вместо торжествующей картины Отца, возвышающегося в возвышенном создании Сына, которую хотел видеть Арий, мы остаемся наедине с унижением со стороны случайных обстоятельств, выдающих себя за необходимость.
Другая слабость богословских построений Ария – подрыв библейских именований Бога. Само слово Сын подразумевает рождение и единство природы, – и если мы будем считать Сына лучшим творением, собранием желаний и задач Бога-Отца, каких-то невнятных порывов свыше, то мы просто перестанем ориентироваться в духовном опыте, заблудившись в лесу незавершенных замыслов: любой духовный факт нас будет только озадачивать, и мы растворимся в собственных бесплодных желаниях. Не узнавая истину, мы будем узнавать лишь сравнения и подобия, всё больше запутываясь в них. Только созерцание единства природы показывает, как созерцание качественно меняет наши привычки всё со всем сравнивать: по-настоящему созерцая, мы по-настоящему знаем самые основания сравнения.
Как епископ, Афанасий соблюдал обычай объезжать все храмы своей епархии, везде проповедуя и беседуя с народом. Иногда ему приходилось скрываться, и тогда он обращался за помощью к монашеству. Так, в 335 г. Афанасий был осужден Тирским собором по обвинению в организации убийства священника Арсения. Арсений придерживался позиций Мелития, сурово относившегося к отступникам, считавшего, что священник, уклонившийся от мученичества, может далее быть в Церкви лишь мирянином. Арсению приходилось подолгу скрываться от толпы, чем и воспользовались клеветники, заявившие, будто бы Афанасий убил Арсения и пользуется его рукой в магических целях. На самом деле Арсений действительно потерял руку во время самосуда над ним, но остался в живых, – и Афанасию удалось доказать свою невинность: Арсений нашелся в одном из городских монастырей. Его поэтому осудили по обвинению в растрате церковного имущества: якобы он распродал или сжег какие-то книги. Смысл этой клеветы не будет нам ясен, если мы не поймем, что в Египте было особое отношение к останкам: мумии, обернутые в свитки папируса, словно в книгу, считались достоверными свидетелями событий, и поэтому останки могли признаваться в мире суеверных умов магическим инструментом власти над событиями, над их учетом, присланными из вечности бухгалтерами и управленцами. Афанасия обвиняли по сути в том, что он присвоил себе власть над всеми церковными делами. И как всегда, при обвинениях со стороны горожан его выручали монахи, которые могли приютить изгнанника и передавать в Александрию его письма и наставления.
Монашество начального времени было уделом сильных, даже яростных людей – решительности действий которых не могли вместить обычные города. Также в монахи шли дети самых влиятельных и богатых семейств: не усматривая радости в высоких административных постах в эпоху превратности политических судеб, они отправлялись в пустыню одерживать победу над собой. Идеал власти над собой как высшей власти обосновала школа стоиков, в лице таких всемирных писателей, как Цицерон, но христианство развернуло в бесконечность милосердия то, что у стоиков никогда не было до конца свободно от эгоизма. В монашестве заявила о себе таинственная связь со всеми соседними отшельниками: не видя лиц друг друга, монахи как никто чувствовали чужую беду и знали, как ей помочь, отзываясь на первый зов. Афанасий в Житии Антония Великого изобразил этот идеал монашества: не просто знать всех, кто встал на путь подвига, но и сразу понимать, какому навыку кто научился, в чем преуспел – тогда любые завоевания будут служить деятельной любви. Мы научимся не просто оказывать помощь, но и учить других спешить на помощь. Но конечно, основное занятие монашества – борьба со страстями, с ошибочными решениями; и в этом смысле его можно сопоставить с образованием, с обучением в течение многих лет взвешенности в суждениях и поступках. Дружба Афанасия Великого с монахами и создала новый канон свидетельства: с той поры в нашем мире свидетельствуют не гробницы, мумии и кости, но живая запись любви на скрижали сердца, и трепетная плоть сердца важнее мертвого учета даже самых значительных событий.
Другое дело, что обвинения против Афанасия Великого поступали очень часто, и в конце концов, император Константин Великий сослал его в Галлию, нынешний город Трир, при этом запретив выбирать нового епископа Александрии, дабы не вспыхнула гражданская война – это последнее решение и позволило Афанасию при первой возможности вернуться в Александрию. Афанасий Великий где бы ни оказывался, убеждал всех в преимуществе богословия равенства лиц Троицы.
В 337 г. император Константин умер, и императором стал его сын Констанций, убежденный последователь Ария. Констанций считал, что богословие Ария, как богословие, в котором Отец не столько рождает Сына, сколько организует Его как собственную мудрость и силу, триумфальные проявления собственной воли и красоту вдруг развернувшегося величия, больше всего отвечает государственному интересу сложно устроенной империи. Весь двор Констанция стал арианским, быть последователем Ария и означало строить империю; и Афанасий не мог уже оставаться епископом имперского мегаполиса. Он бежал в Рим на целых три года, где чиновники старой выучки и старых обычаев не принимали тщеславия Констанция, но разумно полагали, что богословские вопросы должны решаться в храмах, а не при дворе. По сути, тогда и окончательно утверждалось представление о «кафедре»: о том, что епископ не только инспектирует подчиненные ему общины, но и учит публично во всеуслышание. В Риме это представление о том, что высказанное ex cathedra истинно, развивалось и дальше; и нынешние университетские кафедры – тени этого образа интеллектуальной неподкупности.
В 346 г. Афанасий торжественно вернулся в Александрию, где сразу провел небывалую реформу: стал возводить на епископские кафедры монахов. До этого епископами становились опытные в придворных или административных делах христиане, умевшие общаться с властями. Монашеский епископат становился самоуправляемым – ему не нужно было выстраивать отношения с чиновниками, напротив, чиновники должны были научиться правильно общаться с новыми епископами. Констанций был недоволен самостоятельностью Афанасия, вызывал его не раз к себе, – но даже захват действующей армией всех храмов не позволил задержать Афанасия, которого опять спрятали монахи, а обычные горожане не питали никакой приязни к бесчинству солдат. С 356 по 362 г. Афанасий жил в пустыне, писал трактаты и письма; при этом ему удавалось ездить за пределы Египта и даже много раз навещать Александрию, где он частным образом вел беседы с единомышленниками.
Парадоксальным образом возвращению Афанасия в Александрию способствовал император Юлиан, возродивший язычество как официальную религию Империи. Юлиан считал, что управлять множеством народов, входящих в Империю, можно только с помощью могущественных символов. Солнце и Луна, Олимп и Парнас годились на роль таких символов, тогда как в Библии, считал Юлиан, раскрываются только частные судьбы отдельных людей. Конечно, язычество Юлиана было слишком притворным для того, чтобы стать живой исторической силой: сам Юлиан был рядовым философом, умеющим поставить религию на службу своим рациональным целям, а вовсе не религиозным вождем. Рассчитывая на скорый крах христианской церкви под тяжестью внутренних споров, Юлиан распорядился в 362 г. вернуть всех епископов на их кафедры. Но император неверно представлял себя жизнь Церкви: он считал, что православные и арианские епископы окончательно разрушат церковь выяснениями, кто должен быть на кафедре – но так можно разрушить философскую школу, а не Церковь. В Церкви одаренный епископ сможет найти себе друзей, и вернуть себе влияние благодаря чувству внутренней правоты, которое разделят с ним и его друзья – какие-либо интриги, опрокидывающие самого интригана в ту же пропасть недоумений, здесь просто не нужны. Дружба сердец подскажет те решения, которые не будут стратегическими или тактическими, но просто станут единственной возможностью прожить в согласии после долгих смут. В конце концов, Юлиан сам испугался того влияния, которое Афанасий стал приобретать в Александрии, и распорядился его задержать – Афанасию пришлось в очередной раз прятаться в пустыне среди монахов.
После смерти императора Юлиана на поле боя Афанасий вернулся в Александрию. Из 40 лет его епископства 17 пришлось на ссылки и беженство. Последние годы жизни, до кончины в 373 г., прошли сравнительно спокойно, во что поверить трудно, зная нравы Александрии. Только в 366 г. язычники сожгли кафедральный собор, но Афанасий не стал восстанавливать его, а велел строить новый собор в другом месте. Вероятно, для Афанасия возможность проповедовать на любом месте была важнее продолжения борьбы с язычниками и арианами, где можно было ждать новых провокаций. В новом храме нелепо было бы искать «скелеты в шкафу» и разного рода фальсификации врагов, которые не прочь были подбросить чьи-то останки как доказательство мнимого преступления.
«Слово о воплощении» и «Слово против язычников» – ранние произведения Афанасия Великого, написанные, вероятно, около 318 г. (двадцатилетним церковным чтецом!). Вполне возможно, что они были доработаны около 335 г., для нужд мира и богословского развития в Александрии, но не менее вероятно, что эти произведения одареннейшего юноши уже заключали в себе всё будущее богословие. Часто в юности мы переживаем мысли как программу для всего нашего будущего, как меру взрослости; и дальнейшие размышления и построения – только более-менее последовательное изложение пережитого тогда. Так было и со словами Афанасия Великого: это не краткое описание готового богословия, но умение измерить то, каким оно должно стать, чтобы за мысли Церкви не принимали то, что мыслями Церкви быть не может.
«Четыре слова против ариан» – это уже результат реальной полемики против богословов, разделявших систему Ария, причем не столько дерзких, сколько боязливых, опасавшихся, что слово «единосущный» будет понято как указание на какую-то безличную сущность, вдруг проявляющуюся лицами Троицы. Афанасий Великий объяснял, что сущность – это не вещь, не предмет, но само существование, которое не приспосабливает к себе вещи и не лишает их неповторимости. Мы просто привыкли пользоваться вещами как взаимно заменяемыми, и ариане боятся замен и подмен; но ничего вещественного нельзя сказать о божественном бытии. Лица Троицы потому и действуют вместе, что не могут заменить друг друга. Божественное бытие скорее могло бы быть выражено на человеческом языке не словом «бытие», а словом «свобода» или «факт», или как-то еще.
Божественное бытие – это то существование, основанием которого и оказывается неповторимость и равенство лиц Троицы: ведь неповторимые только тогда поневоле не уничтожают друг друга, когда они равны. Без равенства не обойдемся мы и в нашей повседневной жизни: только равное доверие позволяет всем поступать равно честно. Без равенства не обойдется даже природа: жизнью равно наделены длящие свою жизнь существа, а срыв этого продолжения жизни в ее недостаток и называется смертью.
Божественная природа не знает этих срывов, и потому становится любимым предметом мысли: интеллектуальная любовь – это и есть умение думать о Боге. Так находя основание в лицах (слово «ипостась» и значит «основание утверждения», «сбывшееся»), божественная природа, она же сущность, сбывается как сама честность Бога; и нечестно поэтому было бы думать, как ариане, что Бог наводит в себе какой-то порядок, как будто творя заговор против себя. Так у Афанасия Великого всегда переплетены нравственные аргументы, коренящиеся в переживании бытия как такового, и созерцание бытия, исследующее минимальные условия существования любви.
Иван Васильевич Попов (1867–1938), статью которого «Религиозный идеал св. Афанасия» мы включили в этот сборник, профессор Московской духовной академии, был одним из самых необычных церковных деятелей своего времени. Аскет, посвящавший науке дни и ночи, он был невероятно открытым человеком: именно благодаря ему «Богословский вестник» стал трибуной для обсуждения важнейших вопросов культуры; и решая редакторские задачи «Богословского вестника», великим теоретиком культуры стал Павел Флоренский. После революции И. В. Попов во многом поддерживал благополучие гонимой, и, вероятно, приговоренной к уничтожению Церкви: в 1924 г. он вел переписку с Константинопольским патриархом, убеждая его поддерживать Московского патриарха, в 1926 г. в заключении в Соловецком лагере вместе с ссыльными епископами и священниками составил «Соловецкое послание», с обоснованием, почему советская власть не должна посягать на существование Церкви, в 1928 г. в ссылке в селе Ситомино на реке Обь организовал передачу продуктов для митрополита Петра, законного главы Российской Церкви, сосланного в эти края. При этом он во всех ссылках был организатором образования на местах, обучал рабочих и заключенных, создавал учебные пособия, находил врачей для нуждающихся – как деятель международного Красного Креста он и был в очередной раз сослан за шпионаж в пользу Ватикана и расстрелян за «контрреволюционную агитацию». Так И. В. Попов прожил горестную судьбу своих любимых собеседников, включая Афанасия Александрийского, и теперь беседует с нами, напоминая, сколь опасны любые подмены понятий, напоминая, что открытость к культуре как к возможности правде сбыться прямо сейчас, спасает богословие от ханжества, а политику – от нарочитой поспешности, грозящей лагерями и смертными приговорами.
Множество богословов, от святителя Григория Назианзина, прозванного Богословом, до теологов наших дней, восхищаются Афанасием Великим как человеком, не просто добродетельным в жизни, но добродетельным в каждом своем слове, мысли и жесте. Бывают люди решительные в своих идеях и построениях, часто это великие мыслители, но их решительность движима страхом инерции или ошибки. Афанасий Великий – уникальный в мировой истории философии случай, когда решительность мысли не реактивна, а активна, когда она исходит из того созерцания, на которое доброе слово, взвешенное, справедливое и примиряющее – единственный достойный ответ. Завершить это вступление хотелось бы глубокими словами преподобномученицы Марии (Скобцовой): «Питавшая Византию греческая культура и философия целиком и неразрывно связана с… первоначальным периодом истории Церкви. Более напряженного и громкого слова человечество не создавало тогда… Быть может, период Афанасия Великого, – период гармонического сочетания божественного Откровения и человеческой мудрости, – был воистину золотым веком в истории христианского человечества». И русская Церковь, и русская культура скажут «аминь» слову матери Марии.
Александр Марков,
Профессор РГГУ и ВлГУ,
31 декабря 2017 г.
Свт. Афанасий Великий (Александрийский)
О Воплощении
(сборник)
Слово на язычников
1) Ведение богочестия и вселенской истины не столько имеет нужды в человеческом наставлении, сколько познается само собою, потому что едва не вопиет о себе ежедневно в делах и светлее солнца открывает себя в Христовом учении. Но поелику тебе, блаженный, желательно слышать о сем, то, по мере сил своих, предложу нечто о вере Христовой; тем паче, что, хотя и сам ты можешь найти это в Божием Слове, однако же с любовию слушаешь, что говорят и другие. Ибо как святых и богодухновенных Писаний достаточно к изъяснению истины, так и блаженными нашими Учителями сочинены об этом многие книги. И если кто будет читать их, то найдет в них некоторым образом истолкование Писаний и придет в состояние приобрести желаемое им ведение. Но поелику не имеем в руках теперь сочинений этих Учителей, то, чему научился я из них, – разумею же о вере во Христа Спасителя, – необходимо изложить и сообщить это тебе письменно, чтобы учения, заключающегося в слове нашем, не почел кто маловажным и не стал предполагать, будто бы вера во Христа не разумна.
Такие же клеветы в укоризну нашу слагают язычники. Они громко смеются над нами, указывая не на иное что, а только на крест Христов. Но тем паче можно пожалеть о бесчувствии их. Клевеща на крест, не видят они силы креста, наполнившей целую вселенную, не видят, что крестом стали явны для всех дела Боговедения. Ибо если бы сами они искренно вникли умом в Божество Христово, то не стали бы столько насмехаться; а напротив того, познали бы сего Спасителя миру, познали бы, что в кресте – не вред, но врачевство твари. Если с явлением креста уничтожено всякое идолослужение и крестным знамением прогоняется всякое бесовское мечтание; если единому Христу поклоняются и чрез Него познается Отец; если противоречащие постыжаются, и Христос с каждым днем невидимо преклоняет к Себе души прекословов, то вправе мы сказать язычникам: как же можно это дело признать человеческим, а не исповедать паче, что Восшедший на крест есть Божие Слово и Спаситель мира? Мне кажется, что с язычниками делается то же, что и с человеком, который бы стал унижать солнце, закрытое облаками, и потом – дивиться его свету, видя, что озаряется им вся тварь. Как прекрасен свет, а еще прекраснее виновник света – солнце; так, поелику наполнение целой вселенной Боговедением есть Божие дело, необходимо виновником и вождем в таком успешном действии быть Богу и Божию Слову.
Итак, сперва обличу, сколько могу, невежество неверующих, чтобы, по обличении лжи, сама собою воссияла, наконец, истина, и для тебя несомненно было, что уверовал ты в истину и, познав Христа, не впал в обман. Думаю же, что с тобою, как с Христолюбцем, прилично рассуждать о Христе. Ибо уверен, что ведение о Нем и веру в Него предпочитаешь всему.
2) В начале не было зла; потому что и теперь нет его во святых, и для них вовсе не существует оно. Но люди впоследствии сами против себя начали примышлять и воображать злое. Отсюда же, конечно, образовали себе и первую мысль об идолах, не-сущее представляя как сущее.
Создатель мира и Царь царей Бог, превысший всякой сущности и человеческого примышления, как благий и все превосходящий добротою, сотворил род человеческий по образу Своему, собственным Словом Своим, Спасителем нашим Иисусом Христом, и чрез уподобление Себе соделал его созерцателем и знателем сущего, дав ему мысль и ведение о собственной Своей вечности, чтобы человек, сохраняя это сходство, никогда не удалял от себя представления о Боге и не отступал от сожития со святыми, но, имея в себе благодать Подателя, имея и собственную свою силу от Отчего Слова, был счастлив и собеседовал с Богом, живя невинною, подлинно блаженною и бессмертною жизнию. Ни в чем не имея препятствия к ведению о Боге, человек, по чистоте своей, непрестанно созерцает Отчий образ, Бога Слова, по образу Которого и сотворен, приходит же в изумление, уразумевая Отчее чрез Слово о всем промышление, возносясь мыслию выше чувственного и выше всякого телесного представления, силою ума своего касаясь божественного и мысленного на небесах. Когда ум человеческий не занят телесными предметами и не примешивается к нему совне возбуждаемое ими вожделение, но весь он горе и собран в себе самом, как было в начале: тогда, преступив за пределы чувственного и всего человеческого, парит он в горних, и, взирая на Слово, видит в Нем Отца Слову, услаждаясь созерцанием Его и обновляясь в любви к Нему. Так и Священные Писания о первом сотворенном человеке, который на еврейском языке назван Адамом, говорят, что в начале с непостыдным дерзновением устремлен был он умом к Богу и сожительствовал со Святыми в созерцании мысленного, какое имел в том месте, которое святой Моисей, в переносном смысле, наименовал раем (Быт. 2, 8). А к тому, чтобы видеть в себе Бога, достаточно душевной чистоты, как и Господь говорит: «блажени чистии сердцем; яко тии Бога узрят» (Мф. 5, 8).
3) Таким, по сказанному, Создатель соделал род человеческий и желал, чтобы таким же и пребыл он. Но люди, вознерадев о совершеннейшем и поленившись постигнуть его, охотнее взыскали того, что ближе к ним; ближе же к ним были тело и телесные чувства. Посему уклонили они ум свой от мысленного, начали же рассматривать самих себя. А рассматривая себя, занявшись телом и иными чувственными вещами, и обольщаясь этим, как своею собственностью, впали в самовожделение, предпочетши собственное созерцанию Божественного, и закоснев в этом, не хотя оставить ближайшаго к ним, смятенную и возмущенную всякими вожделениями душу свою подавили плотскими удовольствиями; наконец же забыли о своих силах, дарованных Богом вначале. Что это истинно, – можно видеть то и на первосозданном человеке, как говорят о нем Священные Писания. Пока ум его устремлен был к Богу и к созерцанию Бога, – он отвращался от воззрения на тело. Когда же, по совету змия, оставил мысль о Боге и начал рассматривать себя самого, тогда впал в плотское вожделение. «И уразумеша, яко нази бегла» (Быт. 3, 7), и уразумев, устыдились. Узнали же наготу свою не столько по недостатку одежд, но и потому, что совлеклись созерцания Божественного и обратили мысль к противоположному. Ибо, уклонившись от мысленного устремления к Единому и Сущему (разумею Бога) и от любви к Нему, вдались уже в различные и частные пожелания тела. Потом, как обыкновенно бывает, допустив в себя вожделение каждой вещи и вдруг многих вещей, начали иметь привязанность и к самим вожделениям; а потому стали бояться оставить их.
От сего произошли в душе и боязнь, и страх, и удовольствие, и мысли свойственные смертному. Душа, не желая оставить вожделений, боится смерти и разлучения с телом; снова же вожделевая и не достигая подобного прежнему, научается убивать и делать неправду. А почему и это делает душа, уместно будет объяснить это по мере сил.
Другие электронные книги автора Святитель Афанасий Великий
Толкование на псалмы




 4.67
4.67