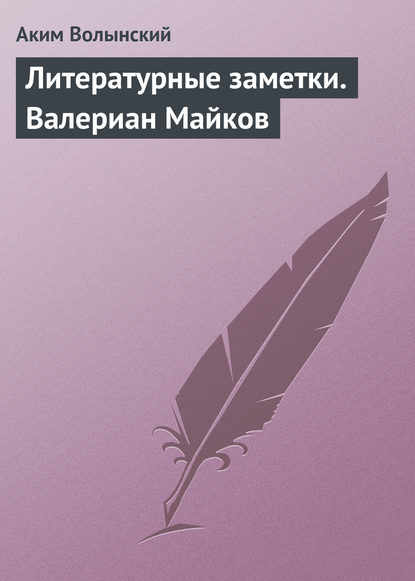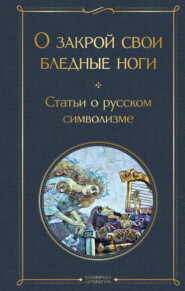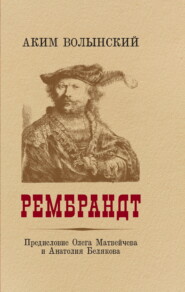По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Литературные заметки. Валериан Майков
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Литературные заметки. Валериан Майков
Аким Львович Волынский
«Литературная деятельность Валериана Майкова продолжалась недолго. Появившись впервые в печати в 1845 г., он проработал около двух лет в трех различных журналах. 15-го июля 1847 г. его уже не стало: он утонул, купаясь в пруде недалеко от Петербурга, на двадцать четвертом году от рождения. За это короткое время усиленного умственного труда молодой писатель успел привлечь к себе внимание выдающихся деятелей тогдашней литературы, вызвать горячие возражения со стороны Белинского, который не захотел обойти молчанием некоторые взгляды нового критика, а в среде, близко стоявшей к редакции „Отечественных Записок“, возбудить глубокую симпатию шириною своего научного кругозора…»
Аким Волынский
Литературные заметки. Валериан Майков
Эстетические и общественные вопросы перед судом социологической критики.
I
Литературная деятельность Валериана Майкова продолжалась недолго. Появившись впервые в печати в 1845 г., он проработал около двух лет в трех различных журналах. 15-го июля 1847 г. его уже не стало: он утонул, купаясь в пруде недалеко от Петербурга, на двадцать четвертом году от рождения. За это короткое время усиленного умственного труда молодой писатель успел привлечь к себе внимание выдающихся деятелей тогдашней литературы, вызвать горячие возражения со стороны Белинского, который не захотел обойти молчанием некоторые взгляды нового критика, а в среде, близко стоявшей к редакции «Отечественных Записок», возбудить глубокую симпатию шириною своего научного кругозора. Многим казалось в то время, что Майков с полным достоинством займет в русской литературе место умирающего Белинского. Его склонность к теоретическим обобщениям по вопросам эстетики и народности, при некоторой новизне приемов анализа, внушала надежду, что он окончательно приведет к единству спорные вопросы, рассеет сомнения и противоречия, волновавшие современных читателей статей Белинского и твердыми научными доводами выведет русскую критику, а с нею и всю русскую литературу на путь реализма. Потребность в каких-нибудь определенных взглядах на искусство была так велика, что ограниченная по существу теория Майкова, в которой, однако, чувствовалось движение новых умственных настроений, получила ход среди молодых работников либеральной журналистики. Не подлежало сомнению, что мировоззрение Майкова, несмотря на всю его незаконченность, являлось некоторой поправкой к литературной критике Белинского, пережившей три различных, друг другу противоречащих, периода развития и ни в одном из них не давшей полной и удовлетворительной эстетической теории. Можно было подумать, что Майкову суждено спасти искусство от разрушительных требований тенденциозности, которые стали вторгаться в критические суждения по вопросам литературного творчества и развить новую теорию народности, не только не делающую ни малейшей уступки патриотическим мечтаниям славянофильской партии, но и превосходящую все требования умеренного западничества духом полного, непримиримого и принципиального отрицания всякой национальной ограниченности. При живом, смелом стиле, страдающем, правда, иногда растянутостью, философские мысли Майкова производили впечатление некоторого научного новаторства. Реалистическая эпоха, так-сказать, предсказанная в последних статьях Белинского, окончательно выступала вперед в рассуждениях писателя, прошедшего хорошую школу юридического образования, вынесшего из университета горячее убеждение о необходимости особой социальной философии, в качестве высшей самостоятельной науки. Оригинальный взгляд на тайну художественного творчества, на его цели и средства, привлекал к нему сочувствие всех, желавших вместе с интересами искусства спасти и утилитарные принципы всякой умственной деятельности…
Обратимся, однако, к немногочисленным статьям Майкова. Проследим его литературную деятельность в её главных чертах и посмотрим, представляют-ли его критические взгляды некоторый шаг вперед по сравнению со взглядами Белинского. Обладал-ли Майков настоящим критическим талантом? Представляет-ли его эстетическая теория новое, светлое обобщение, дающее возможность глубже разбираться в явлениях художественного творчества? Наконец, какое значение имеют его социальные воззрения для понимания вопросов искусства, для определения роли народности в историческом развитии человечества? На все эти вопросы мы должны дать краткие, но решительные ответы. Оценивая научное достоинство литературных работ Майкова, мы найдем возможность лишний раз убедиться в том, что законы, цели и формы поэтического творчества, красота в литературе, как и красота в природе и жизни, не поддаются никаким эмпирическим объяснениям. Критика художественного процесса, чтобы осветить игру идей в живых формах искусства, должна обратиться к философии, т. е. к науке об идеальных началах человеческой души, принадлежащих не внешнему, а высшему, духовному миру. Никакая критическая робота не может исполнить своей задачи иначе, как разрешив целый ряд эстетических вопросов – не с той или другой временной, исторической точки зрения, прибегая не к анализу низших, первобытных сил и влечений души, а подвергнув самому широкому истолкованию высшие потребности и отвлеченные идеи красоты и совершенства, переходящие с разными видоизменениями от поколения к поколению, из одной эпохи в другую. Будучи средством теоретического понимания сложного, страстного движения души к светлым началам, проникающим мировую жизнь, с её трагическими контрастами и постоянными сменами событий, характеров и умственных веяний, художественная критика по необходимости должна войти в глубокое изучение не одной только психологии, но и метафизики человеческого существования. Поэтические образы искусства обнаруживают свой настоящий смысл только в ярком освещении идеалистической эстетики, улавливающей все проявления духовной красоты от низших до высших ступеней художественного процесса. В этой эстетике мы можем найти не только оправдание, но и широкое теоретическое объяснение фантастического элемента в искусстве, без которого его создания выступали бы в пространствах, ограниченных узким бытовым кругозором, временными понятиями и задачами. Только эта эстетика, раздвигая горизонты эпохи, открывает в искусстве его вечную, непреходящую основу, одинаковую для всех родов человеческого вдохновения, сближающую между собою сферы нравственного, религиозного и поэтического творчества.
Первые литературные труды Майкова стали появляться в 1845 г. Он принял почти одновременно участие в двух изданиях – в «Карманом словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка» и в «Финском Вестнике», выходившем под официальною редакциею Ф. Дершау. В обоих изданиях молодой писатель сразу занял положение фактического руководителя, дававшего тон и направление всему, что в них печаталось. В «Карманном словаре», задуманном штабс-капитаном Кириловым, Майкову принадлежат несколько важнейших, принципиальных статей, лучшие объяснения наиболее трудных в научном отношении иностранных слов и выражений. Несмотря на миниатюрный характер издания, оно преследовало определенные цели и, проникнутое живою, интеллигентною мыслью, могло возбуждать и двигать умы в известном направлении своими коротенькими, в два-три небольших столбца, определениями, всегда выдержанными в духе современной науки, иногда проникнутыми тонким публицистическим ядом, иногда намечающими кой-какие новые политические перспективы. В двух дошедших до нас выпусках этого симпатичного предприятия, прекратившегося по независящим от издателя обстоятельствам, мы не нашли ни одной заметки, составленной без надлежащего знания предмета или страдающей небрежностью в научном отношении. При твердом университетском образовании и более или менее обширном знакомстве с политическими и юридическими теориями европейской науки, Майков сумел влить живое содержание в каждую отдельную характеристику того или другого понятия. Бодрая юношеская мысль, увлекаемая собственными успехами, пробивается в его кратких рассуждениях, не имеющих значения каких-либо особенно оригинальных умственных открытий, но делающих популярными выводы современного знания в области политики, экономики и социальной нравственности. Стоя по характеру своих индивидуальных умственных влечений на реалистическом пути, Майков передает свои основные научные принципы в небольшой статейке об анализе и синтезе, составляющей боевую часть первого выпуска Словаря. На пяти столбцах, в одушевленном изложении – не без оттенка профессорского красноречия – автор рисует движение научного знания с древних времен до настоящего исторического момента. С особенным сочувствием указывает он на аналитическую работу человеческой мысли, на её принципиальное значение в добывании всякого рода знаний, на её пригодность для разрушения унаследованных предрассудков и фантомов наивного или невежественного мышления. «Без анализа,» говорит Майков, «мы вечно бродили-бы в каком-то туманном представлении всего существующего, как новорожденные младенцы». При каждом познавательном акте мы прежде всего обращаемся к анализу, чтобы ярко поставить перед глазами, главные признаки предмета, его составные части, его отдельные, самостоятельные силы. Но, расчленяя то или другое явление, мы сейчас-же стремимся восстановить его в прежнем виде, возвратить ему в новом и глубоком освещении его первоначальную физиономию. Всякая умственная работа, начавшись анализом, должна завершиться научным синтезом, без которого мы не понимали-бы связи предметов между собою, их высшего единства, их принадлежности к более сложному целому. Очевидно, замечает Майков, что в науке оба способа человеческого познания, обе деятельности ума должны находиться «в самой тесной неразрывности», хотя исторические факты показывают нам, что истина, ясная для сознания современного человека, оказывалась недоступною людям прежних культурных эпох. То «коснея в тумане синтеза», то утопая «в бездонном море анализа», ум человеческий постоянно попадал в противоположные крайности – временами сводя все тайны жизни к одному какому-нибудь началу, временами изучая только разрозненные явления и отбрасывая от себя всякую попытку постигнуть связь, существующую между частями мира. Анализ прокладывает дорогу к самым светлым открытиям в области природы и человеческой жизни. Но защитники чисто-синтетического метода думают иначе. Пренебрегая опытным знакомством с явлениями жизни, они произвольно, «наугад», составляют себе разные общие понятия и вносят их в изучение неизвестных фактов. Все унаследованные заблуждения европейской цивилизации суть ничто иное, как «синтетическия (априорические) идеи, укорененные в наших умах тысячелетиями». Уничтожить эти пагубные «априорические» призраки, рассеять эти унаследованные «априорические» предрассудки, провести все, что составляет человеческую жизнь, «сквозь спасительное горнило основательного размышления» – вот та задача, которую должна себе поставить современная научная философия. Пусть противники прогресса жалуются, что, анализируя явления, мы лишаем себя возможности наслаждаться ими, разбиваем множество пленительных обманов, подготовляем обильный материал для самого глубокого разочарования. Но в стремлениях к истине и к добру, с некоторой пылкостью возражает Майков воображаемым противникам научного прогресса, – не должна-ли поддерживать нас надежда на осуществление заветных наших мыслей? Анализ ничего не убивает – он только изобличает ничтожество разных произвольных понятий и фантастических построек. «Если смотреть на современную науку, – говорится в заключении статейки об анализе и синтезе, как на начальную деятельность ума, решившегося беспристрастно пересмотреть и пересоздать все, что до сих пор было им сделано, то нельзя не согласиться, что человечество решилось идти к истине самым прямым и естественным путем»[1 - Карманный словарь. С.-Петербург MDCCCXLV, стр. 10.]…
С такими общими взглядами Майков и приступил к своим первым научным работам. Заявив себя горячим сторонником аналитического метода, он не дал настоящего философского объяснения тех путей, какими развивается человеческое познание. Самое представление о задачах науки вышло под его пером чересчур поверхностным, не коснулось главного психологического вопроса, не показало самого познавательного процесса в его живом, непосредственном движении. Майков как-бы не видит, что наука должна осветить глубокие основы нашей умственной деятельности, открыть те идеальные принципы, которые направляют весь опыт, вносят свет понимания в каждое наше прикосновение с внешним миром, с людьми, с политическими и социальными фактами. В самом низшем познавательном акте, в наших простых ощущениях главною творческою силою является не анализ, а синтез. Синтезом начинается работа ума, потому что всякое обращение к действительному миру требует постоянного вмешательства личного сознания, участия известных идей, предшествующих опыту, делающих его возможным в том или другом объеме. Анализ есть дальнейшая ступень – отвлеченное разъединение на части, по определенным признакам, того, что в живом психологическом процессе постоянно выступает цельными, слитными явлениями, завершенными событиями известного порядка. В каждой умственной работе, как она совершается непосредственно, синтез и анализ переплетаются вместе и дают в результате определенный предмет, тот или другой факт, который в свою очередь может быть подвергнут новому философскому обследованию. Мир, в который мы вступаем с нашими ограниченными средствами научного изучения, получает известную форму от нашего сознания, одевается цветами нашего воображения. Прежде, чем анализировать природу, открывать в ней строгую последовательность и преемственность явлений, мы должны воспринять ее известным образом, а это восприятие уже заключает в себе самостоятельный, оригинальный, субъективный элемент, который, соединяясь с внележащим материалом, и образует синтетический акт познания – основу всякого опыта. Научный анализ вскрывает только то, что до него уже вложено нашей умственной деятельностью в мир явлений, как внутренних, так и внешних. Обыденное и научное познание развиваются двумя различными путями, не противоречащими друг другу, но приводящими наше понимание жизни к настоящему, полному совершенству. Бессознательные акты души, которыми вносится наше творческое начало во все, что доходит до нашего чувства, в науке освещается с различных сторон, осмысливается идеями, приведенными в строгий порядок и систему. Анализ, говорит один из первых представителей новой итальянской философии, есть чтение великой книги жизни, созданной синтезом. Ошибка Майкова заключается в том, что он не провел границы между научным процессом изучения природы и непосредственным восприятием её явлений, в котором основная роль принадлежит синтезу. В его обрисовке вся задача научного анализа сводится к чисто внешнему расчленению предмета, к малозначащему сопоставлению различных его частей. Но собирая и разъединяя по случайным признакам отдельные элементы явлений, мы не изучаем при этом их сущности, их скрытой природы – того внутреннего идеального центра, около которого вращается мировая жизнь. При эмпирическом взгляде на задачу науки исчезают из кругозора те основы мира, без которых вся её работа превращается в сухую схоластику, в собирание мертвых фактов, не говорящих ничего живому воображению, не дающих возможности обнять человеческий опыт в одной цельной и законченной системе идей и понятий. Как это подтверждается и отдельными отзывами Майкова о Канте, Фихте, Шеллинге и Гегеле, он не стоял на высоте новейшей критической философии, и потому, – несмотря на природную склонность к теоретическим обобщениям, – его рассуждения о задачах науки, в связи с вопросом об анализе и синтезе, носят поверхностный, псевдо-прогрессивный характер.
II
В 1845 г. Майков, как мы уже говорили, принял близкое участие, в качестве негласного редактора, в новом журнале, под названием «Финский Вестник». В программе этого издания, приложенной к первой его книге и написанной Майковым, мы уже встречаемся с некоторыми отголосками тех самых научных симпатий, которые выразились в главных заметках Карманного Словаря Кирилова. Анализ, говорится в этой программе, развился так сильно во всей Европе, что «нравоописания почти поглотили изящную литературу». Это новое направление в искусстве обнаружилось и в России – не в силу пустой моды, а вследствие серьезных исторических причин. Русское общество вступило в эпоху полного самосознания. Мы делаем первые шаги на поприще истинной культуры. Россия выходит на арену истории с новой миссией, заключающейся не в чем ином, как «в критическом разборе всех стихий цивилизации, которою призваны мы пользоваться позже всех других народов Европы». Старая европейская культура уже не может вызвать никакого восторга в её учениках, «полных юности и энергии…»
С такими оптимистическими мыслями, навеянными некоторыми новыми течениями, Майков и приступил к своей первой крупной статье «Общественные науки в России», не оконченной печатанием в «Финском Вестнике», но дополненной в отдельном издании его сочинений, вышедшем в 1891 г., но бумагам, сохранявшимся в семейном архиве Майковых. То, что в словаре Кирилова не могло получить широкой разработки, вследствие его миниатюрности, что в программе нового журнала могло быть намечено только в самых общих чертах, здесь развито и закончено с большою ясностью. Майков является в этой статье теоретиком новой социальной науки, о которой до него и в этом направлении в русских журналах почти ничего не говорилось. Выступая все с тою же научною программою, о которой мы только что говорили, он подробно рисует хаотическое состояние отдельных отраслей знания – экономических, юридических и нравственных наук, указывает точные границы каждой из этих областей, неизбежную зависимость отдельных исследований от одной, высшей научной дисциплины. Старое представление об анализе и синтезе подсказывает ему ряд мыслей, при помощи которых легко понять самую конструкцию этой новой науки, её объем, её главные методы, её теоретические и практические цели при современном движении умов, взбудораженных важными вопросами антропологического и национального характера. «Без социальной философии, говорит Майков, без общей теории общественной жизни, науки гибнут в анархии, тщетно стремясь к организации, которая дала бы каждой из них новую жизнь, водворила бы между ними порядок и сделала их причастными живой деятельности, освободив из оков одностороннего анализа». Существование отдельной философии общества не уничтожает существования права, политической экономии и педагогики, как обширный взгляд на явления мира не вытесняет отдельных частных взглядов, которые разрабатываются в специальных областях. Живая идея общественных наук, проникающая и политическую экономию, и право, и педагогику, в социальной философии изучается во всей её логической полноте, независимо от каких бы то ни было ограничений, неизбежных во всяком частном исследовании. Общественная философия рассматривает всю жизнь людей, как жизнь цельного органического тела, одаренного индивидуальностью, как гармонию экономических, нравственных и политических сил, действующих в каждом государстве. В этом заключается аналитическая часть её обширной научной работы, имеющей глубокое практическое значение, потому что ни одно положение, ни один принцип не может быть внесен в жизнь иначе, как через её посредство. Отдельные истины политической экономии, нрава и педагогики вступают в сферу человеческих отношений не иначе, как «пройдя сквозь горнило философии общества, науки, рассматривающей их в той живой гармонии, в том взаимном проникновении, какое представляют действительные явления мира экономического, нравственного и политического». Следовательно, только под влиянием философии общества частные, общественные науки могут получить практическое значение, заключает Майков. Таковы взаимные отношения различных социальных наук, открытые философским анализом. Ограничив точными определениями три научных области, Майков нашел и отдельный предмет для новой науки – идею общественного благосостояния, которая в праве, экономике и педагогике разрабатывается по частям, иногда в противоположных направлениях, и потому должна получить окончательное, полное, всеобъемлющее истолкование в какой-нибудь высшей области человеческого знания. Порядок вещей, говорит Майков, оправдываемый одною из общественных наук, может быть одобрен безусловно только тогда, когда и другие науки его оправдывают. История показывает, что интересы политические, экономические и нравственные так тесно связаны между собою, что успех или упадок одной стороны благосостояния неминуемо влечет, за собою ряд параллельных явлений и в двух остальных. Если бы различные стороны общественного благосостояния не находились между собою в таких гармонических отношениях, социальная сфера представляла бы хаотическое состояние и быстро уничтожилась бы совершенно борьбою своих собственных стихий. Но представив в таком виде задачу социальной философии и теоретические интересы, размежеванные на отдельные группы, Майков в сущности придал узкий характер всему своему учению. По его мнению, в юридических науках может и должен господствовать только политический принцип без всякой примеси каких-нибудь других идейных элементов, в чистом выражении государственного закона, установленного и санкционированного верховной властью. Так, напр., разбирая современный взгляд на гражданское право, Майков становится в решительную оппозицию ко всяким притязаниям цивилистов давать широкие определения, с нравственно философским оттенком, различных гражданских институтов. Современная наука гражданского права, говорит он, хочет проникнуть в существенное содержание гражданских законов. Она не ограничивается исследованием тех гарантий, которые верховная власть установила в этой области. Но для чего же, спрашивает Майков, существует нравственная философия, с её теориями личности и с идеей так называемого естественного права? Исследовать взаимные права и обязанности членов общества без отношения к верховной власти – не значит-ли это захватывать понятия из чуждых гражданскому праву отраслей знания? Никакое юридическое право не должно, по твердому убеждению Майкова, заключать в своих пределах никаких антропологических или моральных вопросов. Отвлеченные права личности рассматриваются в этике. Как основы общественной нравственности, они рассматриваются в педагогике. Остается только изучение права с узко-государственной точки зрения, и в этом именно заключается функция юридической науки. По общепринятому определению гражданское право есть «исследование прав и обязанностей членов гражданского общества»; по определению Майкова, изгоняющему из этой науки животворящий нравственный элемент, гражданское право есть наука, исследующая «меры верховной власти для определения и ограждения личных прав»[2 - «Критические опыты», изд. 1891, стр. 574-575.]. Стоя на той же почве, Майков пытается сузить и смысл уголовного права. С убеждением открытого защитника государственности, он принимает сторону официальной репрессии в борьбе с человеческою преступностью. По его мнению, наказание ведет к сокращению числа правонарушений и потому необходимость этой меры будет неоспорима до тех пор, пока не воцарятся на земле добро и разум, пока нравственность не приобретет того могущества, при котором требования эгоизма примиряются с требованиями человеколюбия. «До тех пор внешняя сила останется единственным средством к поддержанию законного порядка вещей». До тех пор в каждом государстве определенное число судей так же необходимо, как войско в борьбе народов. Уголовный закон гарантирует все другие законы общежития страхом наказания. В уголовном праве, так же как и в гражданском, элемент политический играет первенствующую роль. Пусть утописты мечтают об уничтожении репрессивных мер. Но пока они не показали, какими средствами можно довести человека до идеального совершенства, необходимость наказания будет так же очевидна, как необходимость внешней власти[3 - «Критические опыты», стр. 578-579.].
С такими-же ограничениями выступают в изложении Майкова науки экономические и нравственные. Он не допускает антропологического начала при изучении вопросов материального благосостояния. По привычке постоянно сообразоваться в наших рассуждениях с потребностями отдельного лица, мы «персонифируем общество там, где оно совершенно отличается от частного человека». Склонные делать человека мерилом в вопросах нравственного и философского характера, мы забываем, что «в глазах социалиста [социалога] потребности теряют всю свою непосредственность», что в экономической науке имеют решающее значение не сами потребности людей, а только орудия их удовлетворения. Экономист погружен в искусственный мир условий, в мир «средств к достижению целей, которых важность принимается за данное». С этой-же ограничительной тенденцией мы встречаемся и в нравственной сфере, замечает Майков, если смотреть на нее с точки зрения общественного благосостояния. Рассуждая о науке, об искусстве, о различных сторонах высшей моральной деятельности, педагогика только определяет те условия, при которых может с большей или меньшей энергией развиваться в обществе свободная работа ума, творческого воображения и воли.
Не подлежит сомнению, что Майков воздвигает социальную философию на крайне шатких теоретических соображениях. Вынимая из юридических, экономических и нравственных наук ту идейную основу, которая сродняет их между собою и каждую из них ставит в зависимость от одного общего философского понятия, Майков должен был придти к крайне узкому, формальному представлению о праве, экономике и педагогике. Мы видели, до каких пределов сдавливается в его схоластическом толковании самая идея права, составляющая, можно сказать, душу всей юриспруденции вообще. Права личности, которые должны быть осью вращения всех юридических наук, в его изображении получили характер какой-то добровольной дани со стороны высших житейских авторитетов подначальному плебсу. Уголовная наука опирается, как на незыблемую аксиому, на идею карающей власти, ведущей человечество к юридическому благополучию путем беспощадного возмездия за всякое отступление от предписаний и запретов юридических кодексов. Экономическая наука под этим условным углом зрения приняла тот-же узкий, непринципиальный характер. Педагогика превратилась в слепое орудие какой-то внешней дисциплины во имя нравственных начал, исследуемых опять-таки за её пределами. Ни одна общественная наука не занимается существом дела. Каждая из них вращается только в сфере мертвых схоластических определений и форм, держится на понятиях, критика которых не подлежит её компетенции. Стремления этих наук проникнуться настоящим идейным содержанием Майков, с горячностью молодого приверженца чисто-аналитического метода, провозглашает незаконными, вредными для их правильного и прямолинейного развития. То, что является для них живительным началом, то, что вливает в них прогрессивный элемент, то, что может соединить их общим духом гуманности, изгоняется Майковым из его системы и выделяется в особую науку под очень громким названием.
Покончив с аналитической стороной социальной философии, Майков посвящает несколько страниц выяснению её синтетической части. До сих пор, говорит он, мы рассматривали общество, как целое, состоящее из частей, теперь-же мы должны посмотреть на него, как на часть высшего целого. В этом пункте философия общества соприкасается с антропологией. Если высшая социальная наука исследует внешние формы человеческой жизни, то отсюда понятно, что её главные принципы должны подчиниться принципам той науки, в которой рассматривается самая сущность предмета, сам человек с его типическими признаками характера и темперамента. Анализ явлений социальной жизни приводит к более обширному взгляду на все общественные вопросы, к теории народности – «не как эгоистического начала, разделяющего нации, но как органического условия их единства». Народность есть одно из проявлений человеческой природы, которое кладет свою печать на все общественные науки – на политическую экономию, право и нравственность. Каждый народ, заявляет Майков, имеет свою науку, свое искусство, свою нравственность, и при разнообразии национальных особенностей, – все виды человеческой деятельности только служат общечеловеческому мировому началу. Проникаясь идеею народности, социальная наука вступает в союз с антропологией, без которой её теоретические и практические выводы не могли-бы иметь плодотворного влияния на действительную жизнь человеческих обществ. «Народность, рассматриваемая в её отношении к интересам человечества, вот основание социального синтеза и антропологическая основа общественного благосостояния». Национальность в народе то-же, что темперамент в отдельном человеке. её настоящая сила – не в формах быта, а в понятиях. Обставьте народ какими угодно условиями жизни, – он не изменит своего характера, своей национальности, потому что, говорит Майков, его типические черты неизгладимо врезаны в его натуру. Не отделяясь от цивилизации других народов, каждый народ своими личными способностями и умственными стремлениями представляет одно из условий органического развития всего человечества. Обращаясь от этих незаконченных и тусклых рассуждений о синтезе социальной науки к характеристике русской народности, Майков в следующих пышных выражениях рисует её главные черты и признаки. Русский ум, говорит он, не удовлетворяется ни чистым умозрением, ни голым опытом. Одно он называет мечтою, другое – механическим трудом. При антипатии ко всяким внешним эффектам, искусственному блеску, оскорбляющему его степенность и строгость, русский человек глубоко сознает внутреннее равенство между анализом и синтезом и потому в области науки может оказаться одним из самых прогрессивных деятелей настоящего времени. К этой характеристике русского ума, которую сам Майков готов назвать панегириком, молодой писатель прибавляет еще одну блистательную черту, «на которую до сих пор не обращено надлежащего внимания». Русский ум, говорит он, «отличается необыкновенною смелостью». То, что в западной Европе развивалось медленно, путем самых трудных исторических превращений, рядом серьезнейших умственных и социальных катастроф, в России с неимоверною быстротой обходило все слои интеллигентного общества. В незаметный миг времени, без волнений, «в лоне мирного сознания» решались у нас вопросы огромной важности. Философия энциклопедистов разлилась по всей России, не встретив никакой серьезной задержки. Смелый тон нашего убеждения, презирающего всякие странные понятия общественной учтивости, резкие, ни перед чем не останавливающиеся приговоры, с явным оттенком критической беспощадности – при таких качествах нельзя бояться подпасть под владычество каких-либо авторитетов. Итак, заключает Майков, гармония аналитического воззрения с синтетическим, строгая простота выражения и энергическая смелость – таковы отличительные достоинства русского ума[4 - «Критические опыты», стр. 600.].
Вот в самых главных чертах вся философия первой большой статьи Майкова, обратившей на себя внимание в интеллигентных кружках того времени. Отсутствие в русском обществе каких-нибудь серьезных умственных преданий, непривычка рассуждать на трудные философские темы, внешние признаки прогрессивности в самой постановке новой научной задачи, некоторая, хотя и очень ординарная увлекательность в изложении – все это бросилось в глаза и показалось чем-то многознаменательным, имеющим широкую будущность. В статьях Белинского философские мысли, выраженные с большою страстью, производили всегда впечатление поэтических излияний. Овладевая чувством, они оставляли часто без удовлетворения живую потребность в простой, ясной, холодной логике, опирающейся на несокрушимые доводы науки. Безмятежная, слегка докторальная, хотя и многословная манера Майкова, при его постоянных ссылках на новейшие европейские имена и выдающиеся сочинения по разным политическим и социальным вопросам, не могли не возбудить в обществе и в литературе некоторых надежд. Среди деятелей молодой журналистики не было ни одного человека, который был способен подвергнуть строгой критике его общие философские положения. В каких изданиях сороковых годов можно было найти серьезные рассуждения о разных научных методах, о целях и приемах общественных наук, рассматриваемых с точки зрения одной высшей социальной идеи? Вопрос о национальности, служивший предметом горячих препирательств между Белинским и деятелями «Москвитянина», ни кем в то время не был поставлен на почву социологии. Майков своим трактатом сразу внес в журнальную литературу дух научно-философского исследования, который должен был расшевелить умы в совершенно новом, неожиданном для той эпохи направлении. При свежих перспективах старые интересы, разделявшие главных деятелей литературы на противоположные лагери, выступали, наконец, в солидных, импозантных формах, допускающих чисто логическое обсуждение с разных объективных и доступных точек зрения. Майков придал национальному вопросу, на первых порах своей литературной деятельности, характер научной теоремы, необходимой для завершения, для полного округления социальной философии. Вот несомненная заслуга этого рано умершего писателя, не обладавшего крупным литературным талантом, по своему сухому, рассудочному темпераменту мало подходившего для роли эстетического критика, но по всему своему умственному складу несомненно призванного для университетской кафедры. Это педантическое разграничение между отдельными науками одной и той-же категории, с полным изгнанием из них жгучего, идейно-протестантского элемента, эти уверенные рассуждения о праве с узко-формальной, государственной точки зрения, это схоластическое понимание самой задачи социологии, представленной в виде какой-то высшей контрольной палаты по вопросам трех различных порядков – все это, вместе взятое, дает характерную физиономию молодого двигателя образования в узкой рамке патриотической педагогики и казенных предначертаний. При всей симпатии к новым обобщениям, Майков не поднимался над уровнем обычной посредственной учености, которая не могла оставить глубокого следа в развитии общества. Его идеи, изложенные в его первых статьях, возбудив внимание в небольшом кругу журнальных деятелей, очень скоро совершенно затерялись и даже, в измененном виде, не пустили никаких корней в публицистической и философской литературе России. При внешних признаках новаторства, в работах Майкова не было большего внутреннего содержания и той острой научной критики, которая от общих положений быстро обращается к частным фактам, чтобы на них, с художественной рельефностью, осветить и оправдать известную теорию, известную систему понятий. Мысли его, при схематической стройности, не сплочены внутренней психологической силой, страстно прочувствованным убеждением, которое во всех формах личной и общественной жизни ищет отражения неизменных начал мирового процесса, тех общечеловеческих течений, которые проходят через души цельных и ярких людей, независимо от степени их образования и литературного таланта.
Мы уже видели, с какими педантическими ограничениями Майков рассмотрел и очертил аналитическую работу социальной философии. Отдельные её части оказались совершенно формальными, бледными науками с случайным направлением понятий, определяемым внешними историческими силами. Сама социальная философия получила, в его изложении, характер внешнего надзора за деятельностью этих наук в узко отмежеванных границах. Но на этом не остановилась ограничительная тенденция Майкова в важной области научного разбора общественных явлений. В учении о социальном синтезе, искусственно сведенном к идее народности, вся его философия становится источником мертвящих принципов, оплотом рутинных взглядов и оправданием грубых шовинистических инстинктов и алокультурных народов. Наука, которая, по природе своей, должна вырабатывать только идеи высшего мирового порядка, суженная поверхностным анализом в самом центре философского исследования, в заключительных соображениях сведена к фабрикации каких-то рецептов местного благоустройства, составляющего самостоятельную часть общечеловеческого благоустройства. Политическая экономия должна иметь строго-национальный характер. Понятия о праве и справедливости видоизменяются для каждого отдельного народа. Даже нравственные идеалы, которые, несомненно, должны были-бы представлять незыблемый устой среди меняющихся веяний истории, подчинены национальным и расовым особенностям. В умственном развитии человечества не оказывается ничего объединяющего, мирового, стоящего выше случайных народных стремлений и направляющего культуру к вечным идеальным целям. Приписав ошибочное значение национальной идее, Майков не разгадал и не открыл её истинной природы. Не давая материала для заключительных обобщений социальной науки, которые соединяют ее с общими, основными философскими понятиями, идея народности представляет громадный интерес в другом, психологическом отношении, на который Майков не обратил никакого внимания. Сказав однажды, что народность заключается в духе, а не в формах быта, он при этом не дал понять, что под духом здесь следует разуметь исключительно народный темперамент, сферу чувств, оригинальных настроений, оттеняющих общечеловеческие стремления и идеи в данной умственной и социальной среде. Национальность – не в различии понятий, не в разнообразии нравственных и философских взглядов, исходящих из общечеловеческих духовных источников, а только в характере, в темпе внутренних волнений и ощущений, сопровождающих каждое духовное восприятие, каждый порыв ума к универсальной истине. При единстве общечеловеческих идей справедливости и свободы, при коренном сходстве в идеалах красоты и совершенства, разные народы постоянно вносят индивидуальный колорит в свою историческую работу, в произведения своих лучших и характернейших художественных талантов. Общие мировые идеи, стесненные определенными бытовыми условиями, границами тех или других расовых и психических индивидуальностей, выступают, в переработке отдельных народов, односторонними типическими явлениями единого духовного порядка. Вот в каком смысле уместно говорить об идее народности: она имеет значение для чисто психологического понимания душевной жизни масс, как идея индивидуальности, она может пролить некоторый свет при изучении истории отдельных обществ, создаваемой борьбою инстинктов, чувств и страстей, она дает возможность проникнуть в капризные, подвижные формы творчества, отвечающие интимным особенностям отдельных темпераментов. Давая ключ к объяснению того, что создается непосредственными чувствами и симпатиями, она не может быть руководящим принципом при оценке явлений, имеющих умственное, теоретическое значение. Только в жизненном и художественном воплощении общечеловеческих идей естественно проявляется индивидуальное разнообразие, ибо каждое выражение бесплотной по природе мысли неизбежно принимает рельефность и яркость оригинального колорита вместе с ограниченностью и условностью всякой чувственной формы. Но по скольку национальная печать отмечает теоретические идеи известного порядка, по стольку она извращает значение этих идей, потому что в области духа, в области отвлеченной мысли не должно быть и не может быть двух истин по отношению к одному и тому-же предмету.
Дли полноты характеристики Майкова в этом моменте его литературной деятельности отметим несколькими критическими замечаниями то, что им сказано о свойствах русского ума. С чувством особого патриотического удовлетворения Майков, как мы видели, усматривает в русском народе гармоническое сочетание аналитических и синтетических «воззрений». При ненависти к ничтожному остроумию и блистательной фразеологии, русский человек счастливо соединил в себе умение разлагать каждое явление на части и затем вновь соединять эти части по строго-логическому, трезвому методу. Такова наивная, не глубокая, хотя пылкая характеристика, вышедшая из под пера молодого фактического редактора «Финского Вестника». Изгоняя из своих рассуждений строго научное представление о вне-опытных, мистических элементах духовной жизни и сведя всю деятельность человеческого ума к какому-то внешнему процессу, Майков не мог заглянуть в глубь индивидуальности русского народа. Если принять характеристику Майкова, то пришлось-бы допустить, что в России находятся на одинаковой высоте и то, что производится аналитическою работою человека, и то, что создается его синтетическими силами. Можно подумать, что русское художественное творчество и русская культура стоят на одинаковом уровне развития. Политическая история русского общества и русская политическая наука, если верить Майкову, если держаться его поверхностно-оптимистического взгляда, должны представлять целый ряд триумфов, свидетельствующих о несокрушимом житейском и теоретическом анализе русского ума. Искусство, для которого прежде всего требуется своеобразное восприятие действительности в непосредственном идеальном свете сознания, искусство, которое начинается синтезом, продолжается синтезом и никогда не переходит в рассудочный последовательный анализ, искусство, запечатленное, в своих красках и формах, оригинальностью характера и темперамента – вот в чем обнаружилась истинная духовная сила русского общества. При бедной культуре, двигающейся робкими и неверными путями, при крайней ограниченности политической мысли, при убожестве и грубости публицистических орудий, при общей банальности и мелкости научно-философских приемов и стремлений, одно только русское поэтическое творчество представляет законченное самобытное явление, имеющее общечеловеческое, мировое значение. Анализ не показал себя до сих пор в России сколько-нибудь заметной, развитой способностью. В области гуманитарных знаний, ведущих общество по пути нравственного и умственного прогресса, мы не имеем еще до настоящей минуты ни одного особенно крупного факта, который мог-бы выдержать сравнение с однородными проявлениями могущественного анализа европейской мысли. Русская социальная наука влачится в прахе, цепляясь за самые поверхностные течения в культурной жизни других народов, раболепствуя перед собственными ничтожными кумирами, постоянно приснащаясь к случайным публицистическим интересам. Русская философская мысль до сих пор еще находится под запретом у коноводов журнальной печати, испуганно содрогаясь от крикливых, нагло-невежественных обвинений в склонности к метафорическим бредням. Где-же можно открыть, хотя-бы теперь, через полвека после громкого заявления Майкова, какие-нибудь яркие следы настоящего научного анализа, плодотворной умственной работы, соединяющей в себе обе стороны человеческого мышления, захватывающей в одном цельном построении результаты синтеза и анализа? Где доказательства того, что русская натура обладает такими разносторонними духовными способностями, такой «энергичной смелостью» при органической симпатии к строгой правде, если даже в практической сфере все её прогрессивные стремления сводятся к каким-то жалким, быстро проходящим, «благим порывам»?..
Теперь мы исчерпали все, что относится к социальной философии в рассуждениях Майкова. Анализ, синтез, вопрос о национальности в его теоретической постановке и частный вопрос о характерных свойствах русской народности – эти различные темы и составляют главное содержание обширной статьи Майкова «Общественные науки в России». С этими мыслями, без посредствующего эстетического звена, было бы невозможно прямо обратиться к предмету настоящей литературной критики, и вот мы находим в отрывках Майкова, не напечатанных в свое время, но обнародованных, как мы уже сказали, в полном собрании его работ, несколько мыслей, получивших дальнейшее развитие в его следующих статьях. Майков, на двух страницах, делает первый набросок своей эстетической теории. Он старается отметить главный типический признак искусства вне определении «школьной эстетики». Изящно все то, говорит он, что только производит какое-нибудь впечатление на человеческое чувство. «Изящное произведение тем и отличается от других произведений свободной деятельности духа, что действует на чувство, и что без того оно не было бы изящным». Наука обращается к уму и никто не может требовать, чтобы она управляла волею и «раздражала чувство». Истины, добытые путем научного исследования, не действуя «на чувствительную сторону человеческой души», не производят никакого влияния и на нравственность. Аполлон Бельведерский ничего собою не доказывает, ни к чему не подвигает, но «смотря на этот антик, вы трепещете от восторга, видя перед собой осуществление душевной и телесной красоты». Он до основания поражает нашу чувствительность. В опровержение этого взгляда на искусство часто приводят, замечает Майков, примеры таких произведений, которые в одно время удовлетворяют и требованиям ума, и требованиям изящного. Утверждают, что писатель может и доказывать и пленять художественностью формы. Но такое представление Майков считает совершенно ложным: «поэзия, говорит он, доказательств не терпит, ибо доказательство необходимо приводит к чистой мысли, разоблаченной от жизненных форм»…[5 - «Критические опыты», стр. 613.] Вот вкратце эстетические взгляды, выраженные Майковым в статье его «Общественные науки в России», взгляды, представляющие, несмотря на отсутствие пространных доказательств, некоторый литературный интерес.
Не углубляясь пока в критику этой эстетической теории, укажем её главные общие недостатки. Во-первых, определение изящного, сделанное Майковым, не заключает в себе типических признаков художественного произведения и в то же время не выделяет его из необъятной сферы явлений, так или иначе действующих на наше чувство. Нельзя считать изящным все то, что производит на нас какое-нибудь впечатление. Наши впечатления разнообразны, как мир. Наши чувства приходят в движение по самым различным мотивам, потому что нет такого явления, которое, вступая в нашу душу с большей или меньшей силой, не вызвало бы волнения в области наших ощущений. Волнение эстетическое имеет свою собственную окраску, тенденцию, и задача эстетики заключается именно в том, чтобы точно определить его природу. Но от такой научной постановки вопроса Майков, по крайней мере в данном рассуждении, стоял очень далеко. Во-вторых, нельзя не признать крайне односторонним понятие об изящном, как о чем-то радикально отличном от истинного. Майков не уразумел, что изящное есть только правильное воплощение истинного. Вынимая из художественного произведения разумный элемент, который не может не действовать на сознание, двигать его в ту или другую сторону, возбуждать в нем, вместе с кипением чувств, диалектическую работу и борьбу различных идей и понятий, Майков опять обнаруживает непонимание синтетического характера художественного процесса. Бессознательно развертываясь в произведениях искусства, выступая в полном слиянии с определенною внешнею формою, идеи составляют душу всякого художественного творения и, по самой своей природе, могут быть постигнуты только сознанием. Именно в этом и заключается отличительный характер эстетических чувств, их идейным происхождением и объясняется их возвышенность и утонченность, находящаяся в прямом отношении к степени умственной и нравственной культурности человека. Не терпя никаких рассудочных доказательств, искусство полно жгучей диалектики, овладевающей умом с властною, ничем непобедимою силою.
Мы оставим без внимания две совершенно незначительных заметки Майкова о кн. Одоевском и Тургеневе в библиографическом отделе «Финского Вестника» и перейдем к новому и последнему периоду его литературной деятельности – в «Отечественных Записках».
III
За год до отъезда в Зальцбрунн, Белинский разорвал с «Отечественными Записками» и собирал труды друзей своих для обширного альманаха «Левиафан». Тургенев, рассказывает Анненков, был из первых, обещавших Белинскому свою лепту, а между тем, но лукавству, составляющему обычное явление в литературных кружках, он вовсе не искал и не хотел конечной гибели «Отечественных Записок»[6 - П. В. Анненков. Молодость И. С. Тургенева, «Вестник Европы», 1881. № 2, стр. 468.]. Сочувствуя, как начинающему писателю, В. Майкову, Тургенев свел его с Краевским, который и поручил ему главные части критического отдела своего журнала. Эстетика Майкова, замечает Анненков, построенная на этнографических данных, могла дать окраску этому либеральному изданию, и пятнадцать месяцев усердного участия Майкова в «Отечественных Записках», с апреля 1846 г. по июль 1847 г., до некоторой степени поддерживало их старую репутацию, не смотря на переход Белинского в «Современник». Майков возбудил своими статьями, которые именно теперь приобрели более или менее яркий колорит, довольно оживленные прения в журнальных кругах, вновь и с особенною силою поставил и разрешил старый вопрос о народности, подробно и ясно изложил эстетическое учение, отличающееся коренным образом от теоретических воззрений Белинского в этом последнем периоде его литературной деятельности. Публика, знакомая со статьею Майкова в «Финском Вестнике», знала его общие социальные идеи, но вовсе не могла подозревать в нем какие-нибудь определенные критические стремления в области эстетических вопросов. За исключением двух – трех фраз, в которых говорится, что никакая «новая мысль не может быть выражена эстетически», что поэзия не терпит доказательств и что задача истинного художника заключается в том, чтобы глубоко прочувствовать общую идею века и творчески воплотить ее «в животрепещущий образ», за исключением этих и некоторых других попутных, случайных замечаний, в первых работах Майкова нельзя найти ничего определенного, ясного, твердого на тему об искусстве. В «Отечественных Записках» литературная деятельность Майкова, за выбытием из состава редакции Белинского, должна была развернуться шире – именно в сфере эстетических вопросов. Приходилось постоянно отвлекаться от предметов юридических и экономических, всего более отвечавших его внутренним склонностям, чтобы давать своевременные отчеты о явлениях чисто литературных, о художественных произведениях, сколько-нибудь выделяющихся по таланту и значительности идейного содержания. Около таких произведений и явлений яркое дарование Белинского достигло вершины своего развития, и писатель, который решился занять его место на страницах одного из самых видных органов того времени, должен был явиться перед публикой с определенными эстетическими убеждениями и художественными симпатиями. Надо было обнаружить известную систему понятий и тонкий вкус, действующий не безотчетно, не по капризу авторских пристрастий, а по определенному критическому принципу, доступному для спора и возражений с каких-нибудь других точек зрения. Майков, по-видимому, хорошо понимал ответственность своего положения в качестве первого критика журнала. С первых же шагов он старается, по разным важным и неважным поводам, занять известную позицию по отношению к задачам искусства, разбирая современные произведения художественного и поэтического творчества, давая мимолетные характеристики выходящим книгам. Он пишет о Жадовской, высмеивает стихотворные упражнения В. Аскоченского, набрасывает несколько неуверенную, хотя в общем сочувственную рецензию на сборник А. Плещеева и довольно часто распространяется об исторических судьбах русской литературы, о Пушкине, Лермонтове. Он проводит параллель между Гоголем и Достоевским, адресует несколько похвальных замечаний Герцену, выражает скорбь, с оттенком возмущения и протеста, о том что бездарные вирши, порождения самолюбивой затейливости, часто вытесняют такие истинно талантливые поэтические произведения, как стихотворения Тютчева. Рядом с краткими оценками отдельных эстетических явлений, мы постоянно встречаемся в статьях Майкова этого периода с пространными рассуждениями теоретического характера. Не умея сгущать выражения своих мыслей и постоянно прибегая к разным малозначащим историческим иллюстрациям, Майков теперь окончательно развивается перед читателем определенное учение об искусстве и творчестве, стоящее по-видимому в принципиальном противоречии с утилитарными взглядами Белинского – почти накануне его смерти. Он не только не изменяет своим научным симпатиям, как они определились в рассмотренных статьях «Карманного Словаря» и «Финского Вестника», но еще с большею уверенностью провозглашает великое значение аналитического метода, как он его понял. Он нашел приложение своим понятиям, воспитанным в школе формальных юридических определений, и отныне его журнальная деятельность направляется к двум, не совсем однородным целям. Продолжая начатые работы, он завершает свою эстетическую теорию и окончательно перестраивает прежнюю теорию народности, подробно разобранную нами выше.
Главные мысли Майкова об искусстве собрались в статье его о Кольцове. Обширная и растянутая, статья эта трактует о многих предметах, но её главное содержание может быть разбито на две части. В первой говорится о тайне художественного творчества, во второй – о народности в жизни и литературе. После длинных рассуждений о классицизме и романтизме, Майков, установив свое отношение к критике Белинского, которую он обвиняет в отсутствии определенных, неизменных научных доказательств, в бессознательном стремлении к диктаторству, переходит к чисто теоретическим вопросам. Он проводит твердое разграничение между явлениями, входящими в область искусства и явлениями, относящимися к научной сфере. Никоим образом не следует смешивать вещей занимательных с тем, что волнует наше чувство. Все, лежащее вне нас, не сродное с нами по природе, все, наделенное собственною, еще не ясною для нас индивидуальностью – все это возбуждает любознательность, мучит и манит нас в даль, пока таинственное не становится ясным, отдаленное близким и понятным. В этой области действует наука, постоянно разъясняя то, что подстрекнуло любопытство, возбудило интерес ума, в известном направлении. Вот где не может проявиться никакое поэтическое творчество, требующее иного материала, иных сил, иных горизонтов. Искусство имеет дело с тем, что симпатично, сродно с нашими человеческими интересами, тождественно с нами по существу. Мы умеем сочувствовать только тому, в чем нашли самих себя. Мы восторгаемся природою, потому что ощущаем ее внутри себя. Нет на свете ни одного неизящного, непленительного предмета, если только художник, изображающий его, обладает достаточным, талантом, чтобы отделить в нем «безразличное от симпатического», чтобы не смешать «симпатического с занимательным». В искусстве все дело не в художественности форм, которые никогда не могут быть лучше живых форм действительности, в каких она движется перед нашими глазами, а в поэтической мысли, радикально отличной от научно-дидактической мысли. Всякая художественная идея никогда не выливается в форму сухого, рассудочного силлогизма, не заключает в себе никакого доказательства и влияет на нас своими общечеловеческими, симпатическими свойствами. Художественная идея рождается в форме живой любви или живого отвращения от предмета изображения, У великих талантов каждая поэтическая черта одушевлена человеческим чувством. Истинный художник умеет открывать присутствие человеческого интереса в том мире явлений, которым занято его воображение. Мы не можем проследит, как возникает и как затем выражается художественная мысль в определенной форме, но для научной эстетики достаточно, что она в праве установить следующую несомненную истину: «тайна творчества состоит в способности верно изображать действительность с её симпатической стороны, иными словами: художественное творчество есть пересоздание действительности, совершаемое не изменением её форм, а возведением их в мир человеческих интересов, в поэзию»[7 - «Критические опыты», стр. 44.].
Вот в общих словах главные черты новой эстетической теории Майкова. Искусство не имеет дела с тем, что занимательно, тайна его воздействия на людей заключается в том, что оно воспроизводит действительность с её симпатической стороны, что оно гуманизирует ее, переводит ее в сферу человеческих интересов. В искусстве не должно быть никакой дидактики, потому что сухое логическое рассуждение убивает все виды чистой поэзии, даже сатиру, в которой привыкли искать назидания и поучения. Современная эстетика раз навсегда отказалась «от титла руководительницы» художественных талантов, сфера её влияния ограничивается исключительно «опытным исследованием обстоятельств, сопровождающих зачатие, развитие и выражение художественной мысли»[8 - Ibidem. Нечто о русской литературе в 1846 г., стр. 342.]. О самой художественной идее, в отличие её от идеи научно-дидактической, Майков высказывается с некоторой сбивчивостью, при всей решительности отдельных фраз. На одной и той же странице говорится, что всякая поэтическая идея рождается в форме живой любви или отвращения от предмета изображения и тут же, через несколько строк, прибавляется новый оттенок к её определению. Художественная мысль, говорит Майков, есть ничто иное, как чувство тождества, чувство общения какой бы то ни было действительности с человеком. Очевидно, Майков не делает никакого различия между поэтической идеей и поэтическим чувством. Если прибавить к этим определениям задачи и цели искусства соображения Майкова о том, что художественное творчество не допускает никакой копировки внешнего мира, мы будем иметь все его эстетическое учение, в полном объеме его главных и второстепенных положений. Борьба с дидактикой и открытие симпатических сил искусства – вот те новые принципы, которыми Майков хотел, по-видимому, оказать решительное научное сопротивление начавшемуся в журналистике брожению утилитарных понятий. Оградив искусство от чуждых ему элементов. Майков в то же время указывает ему высокую задачу в области живых человеческих интересов. Однако, если внимательно присмотреться к этому учению, легко заметить в нем недостатки философского характера, имеющие немаловажное значение. Во-первых, самое деление предметов на занимательные и симпатические, играющее в теории Майкова первенствующую роль, надо признать совершенно условным. Как мы уже говорили, все, что входит в сознание человека, что интересует его в том или другом отношении, не может не произвести известного впечатления на чувство. В каждом акте познания мир открывается нам с «симпатической» стороны, т. е. со стороны, задевающей и волнующей нашу душу. Научное исследование известных явлений так же овладевает нашими чувствами, как и художественное воспроизведение природы, тех или других событий в жизни людей. Когда мы говорим о теле, замечает Жуковский в письме своем к Гоголю, мы можем определенно означать каждую отдельную его часть. Но когда мы говорим: ум, воля, мы разными именами означаем одно и то же – всю душу, неразделимо действующую в каждом частном случае. Но если-бы искусство поражало только чувство, оно не могло бы иметь такого широкого культурного значения, какое оно имеет в развитии каждого общества. Во-вторых, характеристика творческого процесса вышла у Майкова крайне узкою, недостаточною для борьбы с утилитарными представлениями о задаче искусства. В этой характеристике особенно ярко выступил его ошибочный взгляд на самую природу художественного процесса, в котором синтез является в действительности настоящею творческою силою. Майков выдвигает на первый план вопрос о человеческих интересах, с которыми должно слиться всякое художественное произведение. Но понятие о человеческих интересах, не развитое философским образом, даже не связанное в рассуждении Майкова с каким-нибудь определенным психологическим содержанием, дает совершенно случайное мерило при оценке истинно талантливых созданий искусства. Художник должен изображать, говорится в вышеупомянутом письме Жуковского, не одну собственную человеческую идею, не одну свою душу, но широкую мировую идею, проникающую все доступное нашему созерцанию. Задумав бороться с дидактикой, Майков не сумел, однако, возвыситься до теории настоящего свободного искусства, которое не только не подчиняется никаким временным человеческим интересам, но и самые эти интересы подчиняет непреходящим объективным целям и мировым принципам красоты и правды. Мало изгонять из искусства холодное резонерство. Надо показать его важную философскую задачу в цельной системе, отражающей самые таинственные, бескорыстные, вдохновенные стремления человеческой души. В-третьих, наконец, деление идей на художественные и дидактические представляется искусственным, формальным делением, лишенным истинно научного и эстетического значения. Все без исключения идеи могут быть предметом искусства: они становятся художественными, поэтическими, когда получают гармоническое, правильное, не случайное выражение в определенной конкретной форме. Майков не придает значения тому, что в искусстве стоит на первом плане, как его внешняя природа. Художественные формы, говорит он, всегда останутся тождественными с формами действительности. Но в том-то и дело, что между искусством и действительностью нет такого соответствия и каждый предмет, перенесенный из внешнего мира на полотно, в литературное произведение, высеченный из мрамора, совершенно преображается в идеальный, законченный, символический образ. Если в мире грубых фактов нашего внешнего опыта, в мире жизненных явлений мы можем еще не видеть и не чувствовать за ними присутствия высшей духовной стихии, то, обращаясь к произведениям человеческого творчества, мы неизбежно соприкасаемся и разумом, и чувствами с верховными силами и законами, с животрепещущим воплощением безусловной истины. Не поняв действительных свойств ни обыденного, ни научного синтеза, Майков не мог оценить и синтеза художественного, которым в каждое произведение вносится целое миросозерцание, ряд эстетических и нравственных понятий, высоко поднимающих все его образы, все повествование над повседневными явлениями жизни Идеи, влагаемые художником в его творения, суть те же самые идеи, которые разрабатываются в науке, приводятся в систему в философии, которые становятся дидактическими в сухом логическом рассуждении. Выраженные;в поэтической форме, они получают как бы живое индивидуальное существование и говорят одновременно и воображению, и чувству, и разуму.
Подходя с своими позитивными эстетическими взглядами к различным явлениям русской словесности, Майков не дал ни одной настоящей характеристики, которая могла бы остаться в литературе, как образец таланта и тонкого критического вкуса. О Пушкине он не сумел сказать ни одного яркого, оригинального слова, хотя вся деятельность Белинского, полная противоречий в этом вопросе, должна была бы возбудить на работу его лучшие умственные силы, если бы он был создан для настоящего литературно-критического дела. Лермонтова он сравнивает с Байроном на том основании, что произведения обоих «выражают собою анализ и отрицание людей, дошедших до того и другого путем борьбы, страдания и скорбных утрат». Гоголем Майков занимается во многих заметках. Он считает его главным представителем новейшего русского искусства, основателем натуральной школы, в произведениях которого «торжество русского анализа, анализа мощного, бестрепетного и торжественно-спокойного» достигло своего апогея. Собрание сочинений Гоголя Майков, с чувством наивного удовлетворения, называет «художественной статистикой России». Его рассуждения о Достоевском, о Герцене – при всем его глубоком сочувствии к этим писателям, не обнаруживают никакой особенной проницательности. Следует, между прочим, заметить, что не поняв существенного тождества дидактических и художественных идей, отрицая в искусстве чисто-идейное содержание и усматривая на примерах с беллетристическими произведениями какое то противоречие с основными своими убеждениями, Майков решился создать по этому случаю новую полу-дидактическую, смешанную форму искусства. На этой фальшивой почве не было никакой возможности глубоко постигнуть и осмыслить тот новый, широко развившийся впоследствии род творчества, которому присвоено название романа. Наконец, характеристика Кольцова, несмотря на пространность, не отличается ни глубиною, ни меткостью. «Думы» Кольцова он совершенно отвергает, как «неудачные попытки самоучки заменить истину, к которой стремился, призраками, которые для самого его имели силу кратковременно действующего дурмана». Белинскому Майков, как мы видели, делает упреки за стремление к диктаторству и спорит с ним, между прочим, по случайному вопросу о термине «гениальный талант».
Остается рассмотреть еще новую теорию народности, предложенную Майковым в той-же статье о Кольцове, оттененную некоторыми отдельными замечаниями в других его статьях библиографического отдела «Отечественных Записок». По прошествии одного только года, взгляды Майкова изменились самым радикальным образом. Теперь он иначе определяет значение идеи народности в развитии человечества, переделывает все прежние выводы и является защитником безусловного космополитизма. Не заботясь о приведении в надлежащую систему своих воззрений на социальную философию, в связи с новыми своими мыслями, он идет теперь совершенно другим путем, излагает свои убеждения без малейших ссылок на прежние научно-философские теоремы. Рассуждения Майкова приурочены к вопросу о том, можно-ли считать Кольцова национальным поэтом, что такое народность в литературе и дух народности в жизни отдельных людей. Майков следующим образом разрешает все сомнения, возникавшие и возникающие на этой почве, и в заключение формулирует новый закон, до сих пор не оцененный, как он говорит, этнографами, но вполне выражающий собою «отношение национальных особенностей к человечности и указывающий на путь, но которому народы стремятся к идеалу». Вот его собственные слова, напечатанные в «Отечественных Записках» особенным, крупным шрифтом. «Каждый народ, говорит Майков, имеет две физиономии. Одна из них диаметрально противоположна другой: одна принадлежит большинству, другая – меньшинству. Большинство народа всегда представляет собою механическую подчиненность влиянию климата, местности, племени и судьбы. Меньшинство-же впадает в крайность отрицания этих явлений»[9 - «Критические опыты», стр. 69.]. Обе эти крайности – типические черты народных масс и умственные и нравственные качества людей из интеллигентных слоев – представляют уклонение от нормального человека с его коренными, прирожденными психическими особенностями. Человек вообще, к какому-бы племени он ни принадлежал, говорит Майков, под каким бы градусом он ни родился, должен быть и честен, и великодушен, и умен, и смел. Общий всем людям идеал человека составлен из положительных свойств, которые обыкновенно называются добродетелями. Ни одна добродетель не приходит извне. Нет такой добродетели, зародыш которой не таился-бы в природе человека. Но в противоречии с положительными силами, прирожденными человеку, все пороки суть ничто иное, как добрые наклонности – «или сбитые с прямого пути, или вовсе не уваженные внешними обстоятельствами». В устройстве стихий нашей жизненности, замечает Майков, господствует полная гармония, и потому совершенно несправедливо видеть в самом человеке источник его несовершенств. Но народные массы, живущие среди тяжелых условий, обессиливаются в своих лучших, человеческих чертах и, под долгим гнетом исторических обстоятельств, обростают каким-то безобразным внешним покровом, которому название общенациональной физиономии присваивается только по ошибке. В народной толпе всегда находятся люди, которые высоко поднимаются над своими современниками, над инертными культурными слоями, над их привычками и умственными стремлениями. Оби выходят из среды своего народа, отрешаются от его типических особенностей и развивают в себе черты прямо противоположного характера. Проникаясь иными идеями, побеждая в себе всякую подчиненность внешним силам, угнетающим народную жизнь, эти люди делают спасительный шаг к богоподобию, хотя и впадают при этом, как уже сказано, в новые крайности. Они являются защитниками настоящей цивилизации, в которой не может быть ничего народного. Подобно тому, как мы должны считать наиболее совершенным того человека, который ближе всего подходит к воображаемому, идеальному, бестемпераментному человеку, мы должны признать наиболее совершенною ту цивилизацию, в которой меньше всего каких-бы то ни было типических особенностей. Цивилизация и народность – идеи совершенно непримиримые, одна другую исключающие. Майков выясняет свою мысль на примере с поэзией Кольцова. Вот истинно совершенное искусство, которое избегло обеих указанных крайностей, преодолев дух подчиненности, разлитый в народной толпе, и дух «отчаянного удальства», отличающий меньшинство. Стихотворения Кольцова, выражая «изумительную жизненность», проникнуты вместе с тем «какою-то необыкновенною дельностью и нормальностью». В них нет никаких крайностей, никаких проявлений болезненной раздражительности. Читая его произведения, вы беспрестанно видите перед собою человека, «в самой ровной борьбе с обстоятельствами», человека, которому нет надобности сострадать, потому что вы уверены, что победа останется на его стороне и что силы его «еще более разовьются от страшной гимнастики». В них вы, наверно, не встретите никакого злостного увлечения, никакой желчности, никакой односторонности, «образующейся в людях посредственной жизненности вследствие вражды с обстоятельствами». Вся его биография переполнена фактами, доказывающими, что в нем господствовала полная гармония «между стремлением к лучшему и разумным уважением действительности».
Несмотря на некоторый внешний блеск, это новое учение о народности тоже страдает очень существенными недостатками, которые делают его особенно непригодным при изучении человеческого творчества в его разнообразных формах и проявлениях. При таких понятиях о народной индивидуальности, особенно ярко выступающей в поэтических произведениях, Майков должен был потерять всякий интерес и чутье к тому, что в искусстве стоит на первом плане – к совершенству оригинального выражения общечеловеческих, мировых идей и настроений. Самое создание этой теории показывает в Майкове человека, без яркого темперамента и глубоких художественных симпатий к разнообразным формам красоты, к игре высшей жизни в индивидуальных; воплощениях и образах. Признав, в противоположность своим прежним ложным взглядам, космополитический характер всякого общего понятия и всех отвлеченных идей и сделав в этом отношении существенный, прогрессивный шаг, Майков не разглядел, однако, в чем именно заключается идея народности, понятой вне каких бы то ни было шовинистических и политических стремлений. Во-первых, устанавливая;«закон двойственности народных физиономий», при чем одна физиономия принадлежит народной массе, а другая интеллигентному меньшинству, он не видит истинных отношений глубокой оригинальной личности к той умственной и социальной среде, из которой она вышла. При выдающихся духовных силах научного или художественного характера, при ярком уме и воле, способный бороться с слепыми жизненными стихиями и предрассудками, даровитый человек обнаруживает в наиболее чистом и законченном виде те именно качества группового темперамента и характера, которые затерты в массе грубыми историческими силами. В истинно интеллигентной среде типические народные черты, часто скрытые от глаза, искаженные внешними влияниями, выступают с большою свободою и потому с большею красотою. О народной индивидуальности приходится судить именно по самым талантливым людям. Образованный человек, участвующий в создании литературы и науки, или добровольно и сознательно отдающийся их течению, говорит Потебня, какой бы анафеме ни придавали его изуверы за отличие его взглядов и верований от взглядов и верований простолюдина, не только не отделен от него какою то пропастью, но, напротив того, имеет право считать себя более типическим выразителем своего народа, чем простолюдин[10 - «Вестник Европы», 1895, Сентябрь.]. Образованный человек устойчивее в своей народности, чем человек малой и шаткой умственной культуры. Самое содержание его научных и нравственных убеждений и общественных понятий должно остаться общечеловеческим, но выражение их в жизни, в литературе будет непременно иметь свою особенную форму, своеобразный стиль данного народа. Необходимо при этом отметить то обстоятельство, что, поняв ошибочно смысл и психологическое значение идеи народности, Майков не решился стать на сторону того меньшинства, которое он сам признает выразителем интеллигентного протеста во имя человеческого богоподобия. Вот почему, желая выразить свою симпатию к могучему, страстному, порывистому таланту Кольцова, он рисует фигуру спокойного, уравновешенного, рассудительно-деловитого человека. Во-вторых, представление Майкова о прирожденности «добродетелей» и случайности «пороков» имеет самый поверхностный характер. Его изображение не передает той драмы, которая совершается в человеческой душе – борьбы противоположных идей и понятий, идущих изнутри человека, из глубины его диалектического по природе духа. По представлению Майкова человек, преодолевший внешние жизненные силы, выйдя из под давления исторических предрассудков, вместе с этим окончательно сбрасывает с себя свою порочную оболочку и становится олицетворением бестемпераментной добродетели. А между тем, истинный освободительный процесс совершается прежде всего внутри самого человека, в глубине сознания – с его коренным метафизическим разладом, который может разрешиться только в высших идеальных обобщениях. В-третьих, наконец, при правильном понимании народности, Майков не мог бы говорить о радикальном противоречии между народностью и цивилизацией. В прежних своих рассуждениях на эту тему он сделал принципиальную ошибку, дав место идее национальности в чисто научных и философских вопросах. Теперь, ошибочно усматривая в народности то же идейное содержание, он неизбежно должен был признать ее разрушительным началом по отношению к цивилизации. Он и теперь не видит, что типические свойства народа в его индивидуальном темпераменте, в характере его непосредственных сил, и что разнообразие этих свойств в человечестве, порождающее разнообразие в склонностях и бессознательных влечениях, никоим образом не может находиться в логическом противоречии с идеей просвещения, с идеей единой для всех людей цивилизации.
IV
Белинский, встретивший сочувственными словами первую большую статью Майкова, отнесся с резким отрицанием к его новым идеям о народности. В обозрении русской литературы 1846 г., он, не называя по имени нового критика «Отечественных Записок», в довольно решительных выражениях оспаривает его учение о народности, изложенное в статье о Кольцове. Рассуждения Белинского отличаются обычною страстностью, и несмотря на многие преувеличения и сочувственные фразы по адресу славянофильской партии, производят яркое, сильное впечатление. Статья написана с лихорадочным жаром. Столкновение с новой либеральной силой, выступавшей с научными и социальными теориями и отвергавшей индивидуальность в формах поэтического творчества, разбудила в Белинском его прежние, когда-то глубоко пережитые, эстетические симпатии. Он накидывается на молодого писателя, разбрасывает по всем направлениям фразы, полные огня и вдохновения, с особенной силой противопоставляет взглядам Майкова свои собственные, смелые, на этот раз оттененные некоторым преувеличенным патриотством, националистические убеждения[11 - Сочинения Белинского, т. XI, издание 1892 г., «Взгляд на русскую литературу 1846 г.», стр. 41-42. 44-45.]. Как известно, статья эта вызвала смущение в литературных кругах, близко стоявших к «Современнику». Сам Майков, по-видимому, не склонился на сторону своего достойного оппонента, хотя и нашел нужным объясниться перед Тургеневым относительно своих критических замечаний о Белинском. Возникшая полемика, в виду некоторых неловких фраз Белинского, быть может, даже подняла Майкова в глазах людей, следивших за развитием молодых талантов, и уже в первые месяцы 1847 г. критик «Отечественных Записок» подучил приглашение участвовать в «Современнике», приглашений, столь настоятельное, что у него мелькнула даже мысль, рассказывает Порецкий, прервать обязательные отношения с Краевским. Дело, однако, обошлось так, что Майков стал писать в обоих журналах: в июньской книге «Современника» уже были помещены две написанные им рецензии[12 - «Критические опыты», ст. XLV.].
Когда Майков умер, в журналах появился целый ряд некрологов и заметок, в которых его кратковременная деятельность была представлена в самом сочувственном свете. Около семейства Майковых уже тогда группировались лучшие деятели печати, люди ума и таланта, для которых Аполлон Майков должен был являться притягательною поэтическою силою. В этом обществе, где преобладающую роль играли писатели с художественным направлением мысли, с широкими эстетическими интересами, Валериан Майков и получил свои первые умственные впечатления. Можно допустить, что молодой критик именно здесь услышал и воспринял некоторые из литературных отзывов, которые потом и перешли в его статьи без надлежащей и самостоятельной аргументации. Так, например, в печати много раз указывалось, как на доказательство тонкого эстетического чутья Майкова, на его отзыв о стихах Тютчева. А между тем, немногочисленные фразы, брошенные Майковым об этом превосходном таланте, вовсе не свидетельствуют о критическом понимании Тютчева. В них нет никакого самостоятельного колорита – образ Тютчева не намечен ни единым штрихом, его поэтические настроения, полные глубокого философского смысла, не обрисованы ни единым словом. Явившись случайным заключением в рецензии о стихах Плещеева, несколько фраз о Тютчеве могли быть простым отголоском каких-нибудь более или менее типических, метких рассуждений, напр., Тургенева, которые, как известно, очень высоко ценил это оригинальное и глубокое дарование. Вращаясь в обществе людей с самым изысканным вкусом, Майков постоянно натыкался на чисто литературные вопросы, при разрешении которых он пускал в ход свои теоретические способности, свою начитанность в ученых книгах новейшего характера. При отзывчивости на различные интересы и некоторой легкости в восприятия самых трудных истин науки, Майков должен был производить выгодное впечатление многообещающего и талантливого юноши. Он быстро двигался в своем умственном развитии, и когда в печати появились его первые статьи, не чуждые реформаторских притязания, снисходительный суд таких крупных художников, как Тургенев, Достоевский, Гончаров, должен был отнестись к ним с крайней благосклонностью. Тургенев, как мы уже рассказывали, свел Валериана Майкова с Краевским, выслушивал его объяснения и оправдания по поводу его полемической характеристики Белинского. Он же, через много лет, вспоминал о Майкове в словах, заключающих в себе, кроме покровительственного одобрения, некоторую двусмысленную критику и Белинского, и Майкова: «Незадолго до смерти, пишет он, Белинский начинал чувствовать, что наступило время сделать новый шага, выйти из тесного круга. Политико-экономические вопросы должны были сменить вопросы эстетические, литературные. Но сам он себя уже устранял и указывал на другое лицо, в котором видел своего преемника – В. Н. Майкова, брата поэта»[13 - Полное событие сочинений Тургенева, изд. 1881 г., т. X, стр. 32-33.]. С полным сочувствием, без всяких ограничений, с добродушием человека, готового хвалить всякий добрый порыв, как некоторую положительную заслугу, выставляет умственные и нравственные качества Майкова Гончаров, в некрологе, напечатанном в «Современнике». Отличительные достоинства статей Майкова, пишет он – «строгая последовательность в развитии идей, логичность и доказательность положений и выводов, потом глубина и верность взгляда, остроумие и начитанность». Обозначив в таких полновесных, можно сказать, великодушных выражениях положительные стороны его таланта, Гончаров кратко и как-бы неохотно отмечает его главные недостатки: излишнюю плодовитость, непривычку распоряжаться богатством своих сил, раздробленность и местами «слишком тонкую и отвлеченную изысканность анализа»[14 - «Критические опыты», стр. VI.]. Раздробленный анализ при строгой последовательности идей и доказательности общих положений – едва-ли в этом сочетании логически противоречивых признаков можно найти твердую опору для упрочения литературной репутации Майкова, Достоевский в статье о Добролюбове, напечатанной в 1861 г., тоже посвятил несколько сочувственных фраз памяти рано умершего критика, хотя в словах его звучит горячая похвала скорее человеческой личности Майкова, чем его литературному таланту. После Белинского, пишет он, занялся отделом критики в «Отечественных Записках» Валериан Майков, брат всем известного и всеми любимого поэта. «Он принялся за дело горячо, блистательно, с светлым убеждением, с первым жаром юности. Но он не успел высказаться»[15 - Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского, изд. 1883 г., т. X, стр. 38.].
Эти известные в литературе отзывы о таланте Майкова не остались без влияния на критиков ближайшей к нам эпохи. Некоторые черты его теоретических воззрений делали его прямым предшественником Чернышевского и Добролюбова, хотя, как мы видели, он и старался оградить искусство от вторжения какой-бы то ни было дидактики. Политико-экономические тенденции, без которых не обходилась ни одна его крупная статья, сближают его с деятелями журналистики 50-х и 60-х годов. Новая теория народности, выраженная с некоторым либеральным задором, показалась наиболее видным деятелям «Современника» целым политическим откровением, дающим решительное орудие в борьбе с славянофильской партией. Одним словом, в статьях Майкова, не отличавшихся ни яркостью, ни глубиною мысли, но имеющих несомненную научную закваску, историки литературы усмотрели важные признаки литературно-критического прогресса по сравнению даже с произведениями такого могучего, признанного, живого таланта, каким был Белинский. Мало-помалу сложилась даже какая-то легенда, господствующая до сих пор в журнальных кругах, привыкших с доверием повторять чужие авторитетные отзывы и приговоры. Был молодой критик Валериан Майков, брат известного, замечательного поэта Апполона Майкова. Он писал недолго, но за самое короткое время своей журнальной деятельности он разработал собственную эстетическую теорию на строго-научных основаниях и широкое космополитическое учение о народности. Если-бы не ранняя, случайная смерть, он заменил-бы в литературе самого Белинского…
В таком именно направлении оценили Майкова два новейших критика. Скабичевский называет его эстетическое учение «первой положительной эстетической теорией, с которой выступила молодая мысль, освободившаяся от метафизических принципов». Некоторые промахи не мешают ей, полагает этот критик, оставаться истинною в такой степени, что «все позднейшие открытия не только не опровергают, а только больше подтверждают и уясняют ее»[16 - Сочинения А. Скабичевского. «Сорок лет русской критики», стр. 465.]. Отзыв этот Скабичевский поддерживает до настоящего времени. Он все еще считает критические рассуждения Майкова «весьма блистательной попыткой пересадить эстетические понятия на вполне реальную почву того положительного мышления», одним из первых приверженцев которого он был[17 - «Северный Вестник», 1891 г., март (в отделе библиографической критики), по поводу издания «Критических опытов».]. Скабичевский горячо отстаивает и его идею народности против критики Белинского, в которой он по этому поводу усматривает даже зародыш «тех реакционных приемов», с какими выступили впоследствии сверстники Белинского против движения 60-х годов[18 - Ibidem, стр. 478, 479.].
Другой критик, К. Арсеньев, ставит Майкова рядом с Белинским, в качестве его продолжателя. Если Майков мог раздвинуть задачи критики, говорит Арсеньев почти словами Тургенева, то он был обязан этим Белинскому. Основные понятия в огромном большинстве случаев были установлены Белинским, и новая критика, в лице Майкова, могла бодро пойти вперед, не останавливаясь «перед предрассудками и невежеством читателей». Изучение критических статей Майкова Арсеньев считает особенно важным именно в настоящее время, как по тому, что он один из первых приблизился к «современному взгляду на искусство», так и потому, что он не отдался «всецело служению одной крайней идее»[19 - К. Арсеньев. «Критические этюды», т. II, стр. 255, 293.]. Вся обширная статья Арсеньева, проникнутая благожелательностью умеренного и корректного либерализма, переполнена такого рода размышлениями, не обличающими в почтенном публицисте ни критической глубины, ни даже достаточного знакомства с литературной деятельностью Белинского. Майков никогда не мог быть ни продолжателем, ни учеником Белинского. По темпераменту, по направлению мыслей, по коренным свойствам литературного таланта, он ни в чем почти не сходился с Белинским – ни в одном из трех периодов деятельности последнего. Белинский, как писательский талант, как характер, как яркая, умственная величина, стоял бесконечно выше этого начинающего критика без каких либо резких проявлений страстной психической жизни. Даже в ошибках Белинского больше жизни, чем в сбивчивых, растянутых и тусклых рассуждениях Майкова, несмотря на всю его научную передовитость и либеральные политические и социологические стремления. Это – со стороны литературной. Но Майкова никоим образом нельзя считать преемником Белинского и по существу его общих философских воззрений. Они разошлись радикальным образом по вопросу о народности. Они не могли быть солидарны и по вопросу о природе искусства. Майков защищал на позитивных основаниях свободу творчества. Белинский, в периоде своих утилитарных увлечений, требовал от искусства гражданственной Дидактики, – в предыдущие-же периоды своей Деятельности, защищая свободу искусства, он, при всей шаткости своих общефилософских понятий, не сходил с метафизической почвы. Можно вообще сказать, что основная ошибка в суждениях о Майкове, общая всем его литературным ценителям, состоит в признании за ним прирожденного чисто критического дарования. Рисуя его кратковременную деятельность, в которой не было ни одного яркого проявления тонкого художественного вкуса и способности к острому эстетическому анализу, – историки русской литературы не видят при этом его настоящей умственной физиономии. Майков не был настоящим литературным критиком. В роли, критика он выступал только случайно, не по призванию, и тем, кто усомнился бы в этом, можно напомнить его собственные слова о себе в письме к Тургеневу: «я никогда не думал быть критиком в смысле оценщика литературных произведений, говорит он. Я чувствовал всегда непреодолимое отвращение к сочинению отрывочных статей. Я всегда мечтал о карьере ученого и до сих пор ни мало не отказался от этой мечты. Но как добиться того, чтобы публика читала ученые сочинения? Я видел и вижу в критике единственное средство заманить ее в сети интереса науки»[20 - «Критические опыты», стр. XL.].
notes
Сноски
1
Карманный словарь. С.-Петербург MDCCCXLV, стр. 10.
2
«Критические опыты», изд. 1891, стр. 574-575.
3
«Критические опыты», стр. 578-579.
4
«Критические опыты», стр. 600.
5
«Критические опыты», стр. 613.
6
П. В. Анненков. Молодость И. С. Тургенева, «Вестник Европы», 1881. № 2, стр. 468.
7
Аким Львович Волынский
«Литературная деятельность Валериана Майкова продолжалась недолго. Появившись впервые в печати в 1845 г., он проработал около двух лет в трех различных журналах. 15-го июля 1847 г. его уже не стало: он утонул, купаясь в пруде недалеко от Петербурга, на двадцать четвертом году от рождения. За это короткое время усиленного умственного труда молодой писатель успел привлечь к себе внимание выдающихся деятелей тогдашней литературы, вызвать горячие возражения со стороны Белинского, который не захотел обойти молчанием некоторые взгляды нового критика, а в среде, близко стоявшей к редакции „Отечественных Записок“, возбудить глубокую симпатию шириною своего научного кругозора…»
Аким Волынский
Литературные заметки. Валериан Майков
Эстетические и общественные вопросы перед судом социологической критики.
I
Литературная деятельность Валериана Майкова продолжалась недолго. Появившись впервые в печати в 1845 г., он проработал около двух лет в трех различных журналах. 15-го июля 1847 г. его уже не стало: он утонул, купаясь в пруде недалеко от Петербурга, на двадцать четвертом году от рождения. За это короткое время усиленного умственного труда молодой писатель успел привлечь к себе внимание выдающихся деятелей тогдашней литературы, вызвать горячие возражения со стороны Белинского, который не захотел обойти молчанием некоторые взгляды нового критика, а в среде, близко стоявшей к редакции «Отечественных Записок», возбудить глубокую симпатию шириною своего научного кругозора. Многим казалось в то время, что Майков с полным достоинством займет в русской литературе место умирающего Белинского. Его склонность к теоретическим обобщениям по вопросам эстетики и народности, при некоторой новизне приемов анализа, внушала надежду, что он окончательно приведет к единству спорные вопросы, рассеет сомнения и противоречия, волновавшие современных читателей статей Белинского и твердыми научными доводами выведет русскую критику, а с нею и всю русскую литературу на путь реализма. Потребность в каких-нибудь определенных взглядах на искусство была так велика, что ограниченная по существу теория Майкова, в которой, однако, чувствовалось движение новых умственных настроений, получила ход среди молодых работников либеральной журналистики. Не подлежало сомнению, что мировоззрение Майкова, несмотря на всю его незаконченность, являлось некоторой поправкой к литературной критике Белинского, пережившей три различных, друг другу противоречащих, периода развития и ни в одном из них не давшей полной и удовлетворительной эстетической теории. Можно было подумать, что Майкову суждено спасти искусство от разрушительных требований тенденциозности, которые стали вторгаться в критические суждения по вопросам литературного творчества и развить новую теорию народности, не только не делающую ни малейшей уступки патриотическим мечтаниям славянофильской партии, но и превосходящую все требования умеренного западничества духом полного, непримиримого и принципиального отрицания всякой национальной ограниченности. При живом, смелом стиле, страдающем, правда, иногда растянутостью, философские мысли Майкова производили впечатление некоторого научного новаторства. Реалистическая эпоха, так-сказать, предсказанная в последних статьях Белинского, окончательно выступала вперед в рассуждениях писателя, прошедшего хорошую школу юридического образования, вынесшего из университета горячее убеждение о необходимости особой социальной философии, в качестве высшей самостоятельной науки. Оригинальный взгляд на тайну художественного творчества, на его цели и средства, привлекал к нему сочувствие всех, желавших вместе с интересами искусства спасти и утилитарные принципы всякой умственной деятельности…
Обратимся, однако, к немногочисленным статьям Майкова. Проследим его литературную деятельность в её главных чертах и посмотрим, представляют-ли его критические взгляды некоторый шаг вперед по сравнению со взглядами Белинского. Обладал-ли Майков настоящим критическим талантом? Представляет-ли его эстетическая теория новое, светлое обобщение, дающее возможность глубже разбираться в явлениях художественного творчества? Наконец, какое значение имеют его социальные воззрения для понимания вопросов искусства, для определения роли народности в историческом развитии человечества? На все эти вопросы мы должны дать краткие, но решительные ответы. Оценивая научное достоинство литературных работ Майкова, мы найдем возможность лишний раз убедиться в том, что законы, цели и формы поэтического творчества, красота в литературе, как и красота в природе и жизни, не поддаются никаким эмпирическим объяснениям. Критика художественного процесса, чтобы осветить игру идей в живых формах искусства, должна обратиться к философии, т. е. к науке об идеальных началах человеческой души, принадлежащих не внешнему, а высшему, духовному миру. Никакая критическая робота не может исполнить своей задачи иначе, как разрешив целый ряд эстетических вопросов – не с той или другой временной, исторической точки зрения, прибегая не к анализу низших, первобытных сил и влечений души, а подвергнув самому широкому истолкованию высшие потребности и отвлеченные идеи красоты и совершенства, переходящие с разными видоизменениями от поколения к поколению, из одной эпохи в другую. Будучи средством теоретического понимания сложного, страстного движения души к светлым началам, проникающим мировую жизнь, с её трагическими контрастами и постоянными сменами событий, характеров и умственных веяний, художественная критика по необходимости должна войти в глубокое изучение не одной только психологии, но и метафизики человеческого существования. Поэтические образы искусства обнаруживают свой настоящий смысл только в ярком освещении идеалистической эстетики, улавливающей все проявления духовной красоты от низших до высших ступеней художественного процесса. В этой эстетике мы можем найти не только оправдание, но и широкое теоретическое объяснение фантастического элемента в искусстве, без которого его создания выступали бы в пространствах, ограниченных узким бытовым кругозором, временными понятиями и задачами. Только эта эстетика, раздвигая горизонты эпохи, открывает в искусстве его вечную, непреходящую основу, одинаковую для всех родов человеческого вдохновения, сближающую между собою сферы нравственного, религиозного и поэтического творчества.
Первые литературные труды Майкова стали появляться в 1845 г. Он принял почти одновременно участие в двух изданиях – в «Карманом словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка» и в «Финском Вестнике», выходившем под официальною редакциею Ф. Дершау. В обоих изданиях молодой писатель сразу занял положение фактического руководителя, дававшего тон и направление всему, что в них печаталось. В «Карманном словаре», задуманном штабс-капитаном Кириловым, Майкову принадлежат несколько важнейших, принципиальных статей, лучшие объяснения наиболее трудных в научном отношении иностранных слов и выражений. Несмотря на миниатюрный характер издания, оно преследовало определенные цели и, проникнутое живою, интеллигентною мыслью, могло возбуждать и двигать умы в известном направлении своими коротенькими, в два-три небольших столбца, определениями, всегда выдержанными в духе современной науки, иногда проникнутыми тонким публицистическим ядом, иногда намечающими кой-какие новые политические перспективы. В двух дошедших до нас выпусках этого симпатичного предприятия, прекратившегося по независящим от издателя обстоятельствам, мы не нашли ни одной заметки, составленной без надлежащего знания предмета или страдающей небрежностью в научном отношении. При твердом университетском образовании и более или менее обширном знакомстве с политическими и юридическими теориями европейской науки, Майков сумел влить живое содержание в каждую отдельную характеристику того или другого понятия. Бодрая юношеская мысль, увлекаемая собственными успехами, пробивается в его кратких рассуждениях, не имеющих значения каких-либо особенно оригинальных умственных открытий, но делающих популярными выводы современного знания в области политики, экономики и социальной нравственности. Стоя по характеру своих индивидуальных умственных влечений на реалистическом пути, Майков передает свои основные научные принципы в небольшой статейке об анализе и синтезе, составляющей боевую часть первого выпуска Словаря. На пяти столбцах, в одушевленном изложении – не без оттенка профессорского красноречия – автор рисует движение научного знания с древних времен до настоящего исторического момента. С особенным сочувствием указывает он на аналитическую работу человеческой мысли, на её принципиальное значение в добывании всякого рода знаний, на её пригодность для разрушения унаследованных предрассудков и фантомов наивного или невежественного мышления. «Без анализа,» говорит Майков, «мы вечно бродили-бы в каком-то туманном представлении всего существующего, как новорожденные младенцы». При каждом познавательном акте мы прежде всего обращаемся к анализу, чтобы ярко поставить перед глазами, главные признаки предмета, его составные части, его отдельные, самостоятельные силы. Но, расчленяя то или другое явление, мы сейчас-же стремимся восстановить его в прежнем виде, возвратить ему в новом и глубоком освещении его первоначальную физиономию. Всякая умственная работа, начавшись анализом, должна завершиться научным синтезом, без которого мы не понимали-бы связи предметов между собою, их высшего единства, их принадлежности к более сложному целому. Очевидно, замечает Майков, что в науке оба способа человеческого познания, обе деятельности ума должны находиться «в самой тесной неразрывности», хотя исторические факты показывают нам, что истина, ясная для сознания современного человека, оказывалась недоступною людям прежних культурных эпох. То «коснея в тумане синтеза», то утопая «в бездонном море анализа», ум человеческий постоянно попадал в противоположные крайности – временами сводя все тайны жизни к одному какому-нибудь началу, временами изучая только разрозненные явления и отбрасывая от себя всякую попытку постигнуть связь, существующую между частями мира. Анализ прокладывает дорогу к самым светлым открытиям в области природы и человеческой жизни. Но защитники чисто-синтетического метода думают иначе. Пренебрегая опытным знакомством с явлениями жизни, они произвольно, «наугад», составляют себе разные общие понятия и вносят их в изучение неизвестных фактов. Все унаследованные заблуждения европейской цивилизации суть ничто иное, как «синтетическия (априорические) идеи, укорененные в наших умах тысячелетиями». Уничтожить эти пагубные «априорические» призраки, рассеять эти унаследованные «априорические» предрассудки, провести все, что составляет человеческую жизнь, «сквозь спасительное горнило основательного размышления» – вот та задача, которую должна себе поставить современная научная философия. Пусть противники прогресса жалуются, что, анализируя явления, мы лишаем себя возможности наслаждаться ими, разбиваем множество пленительных обманов, подготовляем обильный материал для самого глубокого разочарования. Но в стремлениях к истине и к добру, с некоторой пылкостью возражает Майков воображаемым противникам научного прогресса, – не должна-ли поддерживать нас надежда на осуществление заветных наших мыслей? Анализ ничего не убивает – он только изобличает ничтожество разных произвольных понятий и фантастических построек. «Если смотреть на современную науку, – говорится в заключении статейки об анализе и синтезе, как на начальную деятельность ума, решившегося беспристрастно пересмотреть и пересоздать все, что до сих пор было им сделано, то нельзя не согласиться, что человечество решилось идти к истине самым прямым и естественным путем»[1 - Карманный словарь. С.-Петербург MDCCCXLV, стр. 10.]…
С такими общими взглядами Майков и приступил к своим первым научным работам. Заявив себя горячим сторонником аналитического метода, он не дал настоящего философского объяснения тех путей, какими развивается человеческое познание. Самое представление о задачах науки вышло под его пером чересчур поверхностным, не коснулось главного психологического вопроса, не показало самого познавательного процесса в его живом, непосредственном движении. Майков как-бы не видит, что наука должна осветить глубокие основы нашей умственной деятельности, открыть те идеальные принципы, которые направляют весь опыт, вносят свет понимания в каждое наше прикосновение с внешним миром, с людьми, с политическими и социальными фактами. В самом низшем познавательном акте, в наших простых ощущениях главною творческою силою является не анализ, а синтез. Синтезом начинается работа ума, потому что всякое обращение к действительному миру требует постоянного вмешательства личного сознания, участия известных идей, предшествующих опыту, делающих его возможным в том или другом объеме. Анализ есть дальнейшая ступень – отвлеченное разъединение на части, по определенным признакам, того, что в живом психологическом процессе постоянно выступает цельными, слитными явлениями, завершенными событиями известного порядка. В каждой умственной работе, как она совершается непосредственно, синтез и анализ переплетаются вместе и дают в результате определенный предмет, тот или другой факт, который в свою очередь может быть подвергнут новому философскому обследованию. Мир, в который мы вступаем с нашими ограниченными средствами научного изучения, получает известную форму от нашего сознания, одевается цветами нашего воображения. Прежде, чем анализировать природу, открывать в ней строгую последовательность и преемственность явлений, мы должны воспринять ее известным образом, а это восприятие уже заключает в себе самостоятельный, оригинальный, субъективный элемент, который, соединяясь с внележащим материалом, и образует синтетический акт познания – основу всякого опыта. Научный анализ вскрывает только то, что до него уже вложено нашей умственной деятельностью в мир явлений, как внутренних, так и внешних. Обыденное и научное познание развиваются двумя различными путями, не противоречащими друг другу, но приводящими наше понимание жизни к настоящему, полному совершенству. Бессознательные акты души, которыми вносится наше творческое начало во все, что доходит до нашего чувства, в науке освещается с различных сторон, осмысливается идеями, приведенными в строгий порядок и систему. Анализ, говорит один из первых представителей новой итальянской философии, есть чтение великой книги жизни, созданной синтезом. Ошибка Майкова заключается в том, что он не провел границы между научным процессом изучения природы и непосредственным восприятием её явлений, в котором основная роль принадлежит синтезу. В его обрисовке вся задача научного анализа сводится к чисто внешнему расчленению предмета, к малозначащему сопоставлению различных его частей. Но собирая и разъединяя по случайным признакам отдельные элементы явлений, мы не изучаем при этом их сущности, их скрытой природы – того внутреннего идеального центра, около которого вращается мировая жизнь. При эмпирическом взгляде на задачу науки исчезают из кругозора те основы мира, без которых вся её работа превращается в сухую схоластику, в собирание мертвых фактов, не говорящих ничего живому воображению, не дающих возможности обнять человеческий опыт в одной цельной и законченной системе идей и понятий. Как это подтверждается и отдельными отзывами Майкова о Канте, Фихте, Шеллинге и Гегеле, он не стоял на высоте новейшей критической философии, и потому, – несмотря на природную склонность к теоретическим обобщениям, – его рассуждения о задачах науки, в связи с вопросом об анализе и синтезе, носят поверхностный, псевдо-прогрессивный характер.
II
В 1845 г. Майков, как мы уже говорили, принял близкое участие, в качестве негласного редактора, в новом журнале, под названием «Финский Вестник». В программе этого издания, приложенной к первой его книге и написанной Майковым, мы уже встречаемся с некоторыми отголосками тех самых научных симпатий, которые выразились в главных заметках Карманного Словаря Кирилова. Анализ, говорится в этой программе, развился так сильно во всей Европе, что «нравоописания почти поглотили изящную литературу». Это новое направление в искусстве обнаружилось и в России – не в силу пустой моды, а вследствие серьезных исторических причин. Русское общество вступило в эпоху полного самосознания. Мы делаем первые шаги на поприще истинной культуры. Россия выходит на арену истории с новой миссией, заключающейся не в чем ином, как «в критическом разборе всех стихий цивилизации, которою призваны мы пользоваться позже всех других народов Европы». Старая европейская культура уже не может вызвать никакого восторга в её учениках, «полных юности и энергии…»
С такими оптимистическими мыслями, навеянными некоторыми новыми течениями, Майков и приступил к своей первой крупной статье «Общественные науки в России», не оконченной печатанием в «Финском Вестнике», но дополненной в отдельном издании его сочинений, вышедшем в 1891 г., но бумагам, сохранявшимся в семейном архиве Майковых. То, что в словаре Кирилова не могло получить широкой разработки, вследствие его миниатюрности, что в программе нового журнала могло быть намечено только в самых общих чертах, здесь развито и закончено с большою ясностью. Майков является в этой статье теоретиком новой социальной науки, о которой до него и в этом направлении в русских журналах почти ничего не говорилось. Выступая все с тою же научною программою, о которой мы только что говорили, он подробно рисует хаотическое состояние отдельных отраслей знания – экономических, юридических и нравственных наук, указывает точные границы каждой из этих областей, неизбежную зависимость отдельных исследований от одной, высшей научной дисциплины. Старое представление об анализе и синтезе подсказывает ему ряд мыслей, при помощи которых легко понять самую конструкцию этой новой науки, её объем, её главные методы, её теоретические и практические цели при современном движении умов, взбудораженных важными вопросами антропологического и национального характера. «Без социальной философии, говорит Майков, без общей теории общественной жизни, науки гибнут в анархии, тщетно стремясь к организации, которая дала бы каждой из них новую жизнь, водворила бы между ними порядок и сделала их причастными живой деятельности, освободив из оков одностороннего анализа». Существование отдельной философии общества не уничтожает существования права, политической экономии и педагогики, как обширный взгляд на явления мира не вытесняет отдельных частных взглядов, которые разрабатываются в специальных областях. Живая идея общественных наук, проникающая и политическую экономию, и право, и педагогику, в социальной философии изучается во всей её логической полноте, независимо от каких бы то ни было ограничений, неизбежных во всяком частном исследовании. Общественная философия рассматривает всю жизнь людей, как жизнь цельного органического тела, одаренного индивидуальностью, как гармонию экономических, нравственных и политических сил, действующих в каждом государстве. В этом заключается аналитическая часть её обширной научной работы, имеющей глубокое практическое значение, потому что ни одно положение, ни один принцип не может быть внесен в жизнь иначе, как через её посредство. Отдельные истины политической экономии, нрава и педагогики вступают в сферу человеческих отношений не иначе, как «пройдя сквозь горнило философии общества, науки, рассматривающей их в той живой гармонии, в том взаимном проникновении, какое представляют действительные явления мира экономического, нравственного и политического». Следовательно, только под влиянием философии общества частные, общественные науки могут получить практическое значение, заключает Майков. Таковы взаимные отношения различных социальных наук, открытые философским анализом. Ограничив точными определениями три научных области, Майков нашел и отдельный предмет для новой науки – идею общественного благосостояния, которая в праве, экономике и педагогике разрабатывается по частям, иногда в противоположных направлениях, и потому должна получить окончательное, полное, всеобъемлющее истолкование в какой-нибудь высшей области человеческого знания. Порядок вещей, говорит Майков, оправдываемый одною из общественных наук, может быть одобрен безусловно только тогда, когда и другие науки его оправдывают. История показывает, что интересы политические, экономические и нравственные так тесно связаны между собою, что успех или упадок одной стороны благосостояния неминуемо влечет, за собою ряд параллельных явлений и в двух остальных. Если бы различные стороны общественного благосостояния не находились между собою в таких гармонических отношениях, социальная сфера представляла бы хаотическое состояние и быстро уничтожилась бы совершенно борьбою своих собственных стихий. Но представив в таком виде задачу социальной философии и теоретические интересы, размежеванные на отдельные группы, Майков в сущности придал узкий характер всему своему учению. По его мнению, в юридических науках может и должен господствовать только политический принцип без всякой примеси каких-нибудь других идейных элементов, в чистом выражении государственного закона, установленного и санкционированного верховной властью. Так, напр., разбирая современный взгляд на гражданское право, Майков становится в решительную оппозицию ко всяким притязаниям цивилистов давать широкие определения, с нравственно философским оттенком, различных гражданских институтов. Современная наука гражданского права, говорит он, хочет проникнуть в существенное содержание гражданских законов. Она не ограничивается исследованием тех гарантий, которые верховная власть установила в этой области. Но для чего же, спрашивает Майков, существует нравственная философия, с её теориями личности и с идеей так называемого естественного права? Исследовать взаимные права и обязанности членов общества без отношения к верховной власти – не значит-ли это захватывать понятия из чуждых гражданскому праву отраслей знания? Никакое юридическое право не должно, по твердому убеждению Майкова, заключать в своих пределах никаких антропологических или моральных вопросов. Отвлеченные права личности рассматриваются в этике. Как основы общественной нравственности, они рассматриваются в педагогике. Остается только изучение права с узко-государственной точки зрения, и в этом именно заключается функция юридической науки. По общепринятому определению гражданское право есть «исследование прав и обязанностей членов гражданского общества»; по определению Майкова, изгоняющему из этой науки животворящий нравственный элемент, гражданское право есть наука, исследующая «меры верховной власти для определения и ограждения личных прав»[2 - «Критические опыты», изд. 1891, стр. 574-575.]. Стоя на той же почве, Майков пытается сузить и смысл уголовного права. С убеждением открытого защитника государственности, он принимает сторону официальной репрессии в борьбе с человеческою преступностью. По его мнению, наказание ведет к сокращению числа правонарушений и потому необходимость этой меры будет неоспорима до тех пор, пока не воцарятся на земле добро и разум, пока нравственность не приобретет того могущества, при котором требования эгоизма примиряются с требованиями человеколюбия. «До тех пор внешняя сила останется единственным средством к поддержанию законного порядка вещей». До тех пор в каждом государстве определенное число судей так же необходимо, как войско в борьбе народов. Уголовный закон гарантирует все другие законы общежития страхом наказания. В уголовном праве, так же как и в гражданском, элемент политический играет первенствующую роль. Пусть утописты мечтают об уничтожении репрессивных мер. Но пока они не показали, какими средствами можно довести человека до идеального совершенства, необходимость наказания будет так же очевидна, как необходимость внешней власти[3 - «Критические опыты», стр. 578-579.].
С такими-же ограничениями выступают в изложении Майкова науки экономические и нравственные. Он не допускает антропологического начала при изучении вопросов материального благосостояния. По привычке постоянно сообразоваться в наших рассуждениях с потребностями отдельного лица, мы «персонифируем общество там, где оно совершенно отличается от частного человека». Склонные делать человека мерилом в вопросах нравственного и философского характера, мы забываем, что «в глазах социалиста [социалога] потребности теряют всю свою непосредственность», что в экономической науке имеют решающее значение не сами потребности людей, а только орудия их удовлетворения. Экономист погружен в искусственный мир условий, в мир «средств к достижению целей, которых важность принимается за данное». С этой-же ограничительной тенденцией мы встречаемся и в нравственной сфере, замечает Майков, если смотреть на нее с точки зрения общественного благосостояния. Рассуждая о науке, об искусстве, о различных сторонах высшей моральной деятельности, педагогика только определяет те условия, при которых может с большей или меньшей энергией развиваться в обществе свободная работа ума, творческого воображения и воли.
Не подлежит сомнению, что Майков воздвигает социальную философию на крайне шатких теоретических соображениях. Вынимая из юридических, экономических и нравственных наук ту идейную основу, которая сродняет их между собою и каждую из них ставит в зависимость от одного общего философского понятия, Майков должен был придти к крайне узкому, формальному представлению о праве, экономике и педагогике. Мы видели, до каких пределов сдавливается в его схоластическом толковании самая идея права, составляющая, можно сказать, душу всей юриспруденции вообще. Права личности, которые должны быть осью вращения всех юридических наук, в его изображении получили характер какой-то добровольной дани со стороны высших житейских авторитетов подначальному плебсу. Уголовная наука опирается, как на незыблемую аксиому, на идею карающей власти, ведущей человечество к юридическому благополучию путем беспощадного возмездия за всякое отступление от предписаний и запретов юридических кодексов. Экономическая наука под этим условным углом зрения приняла тот-же узкий, непринципиальный характер. Педагогика превратилась в слепое орудие какой-то внешней дисциплины во имя нравственных начал, исследуемых опять-таки за её пределами. Ни одна общественная наука не занимается существом дела. Каждая из них вращается только в сфере мертвых схоластических определений и форм, держится на понятиях, критика которых не подлежит её компетенции. Стремления этих наук проникнуться настоящим идейным содержанием Майков, с горячностью молодого приверженца чисто-аналитического метода, провозглашает незаконными, вредными для их правильного и прямолинейного развития. То, что является для них живительным началом, то, что вливает в них прогрессивный элемент, то, что может соединить их общим духом гуманности, изгоняется Майковым из его системы и выделяется в особую науку под очень громким названием.
Покончив с аналитической стороной социальной философии, Майков посвящает несколько страниц выяснению её синтетической части. До сих пор, говорит он, мы рассматривали общество, как целое, состоящее из частей, теперь-же мы должны посмотреть на него, как на часть высшего целого. В этом пункте философия общества соприкасается с антропологией. Если высшая социальная наука исследует внешние формы человеческой жизни, то отсюда понятно, что её главные принципы должны подчиниться принципам той науки, в которой рассматривается самая сущность предмета, сам человек с его типическими признаками характера и темперамента. Анализ явлений социальной жизни приводит к более обширному взгляду на все общественные вопросы, к теории народности – «не как эгоистического начала, разделяющего нации, но как органического условия их единства». Народность есть одно из проявлений человеческой природы, которое кладет свою печать на все общественные науки – на политическую экономию, право и нравственность. Каждый народ, заявляет Майков, имеет свою науку, свое искусство, свою нравственность, и при разнообразии национальных особенностей, – все виды человеческой деятельности только служат общечеловеческому мировому началу. Проникаясь идеею народности, социальная наука вступает в союз с антропологией, без которой её теоретические и практические выводы не могли-бы иметь плодотворного влияния на действительную жизнь человеческих обществ. «Народность, рассматриваемая в её отношении к интересам человечества, вот основание социального синтеза и антропологическая основа общественного благосостояния». Национальность в народе то-же, что темперамент в отдельном человеке. её настоящая сила – не в формах быта, а в понятиях. Обставьте народ какими угодно условиями жизни, – он не изменит своего характера, своей национальности, потому что, говорит Майков, его типические черты неизгладимо врезаны в его натуру. Не отделяясь от цивилизации других народов, каждый народ своими личными способностями и умственными стремлениями представляет одно из условий органического развития всего человечества. Обращаясь от этих незаконченных и тусклых рассуждений о синтезе социальной науки к характеристике русской народности, Майков в следующих пышных выражениях рисует её главные черты и признаки. Русский ум, говорит он, не удовлетворяется ни чистым умозрением, ни голым опытом. Одно он называет мечтою, другое – механическим трудом. При антипатии ко всяким внешним эффектам, искусственному блеску, оскорбляющему его степенность и строгость, русский человек глубоко сознает внутреннее равенство между анализом и синтезом и потому в области науки может оказаться одним из самых прогрессивных деятелей настоящего времени. К этой характеристике русского ума, которую сам Майков готов назвать панегириком, молодой писатель прибавляет еще одну блистательную черту, «на которую до сих пор не обращено надлежащего внимания». Русский ум, говорит он, «отличается необыкновенною смелостью». То, что в западной Европе развивалось медленно, путем самых трудных исторических превращений, рядом серьезнейших умственных и социальных катастроф, в России с неимоверною быстротой обходило все слои интеллигентного общества. В незаметный миг времени, без волнений, «в лоне мирного сознания» решались у нас вопросы огромной важности. Философия энциклопедистов разлилась по всей России, не встретив никакой серьезной задержки. Смелый тон нашего убеждения, презирающего всякие странные понятия общественной учтивости, резкие, ни перед чем не останавливающиеся приговоры, с явным оттенком критической беспощадности – при таких качествах нельзя бояться подпасть под владычество каких-либо авторитетов. Итак, заключает Майков, гармония аналитического воззрения с синтетическим, строгая простота выражения и энергическая смелость – таковы отличительные достоинства русского ума[4 - «Критические опыты», стр. 600.].
Вот в самых главных чертах вся философия первой большой статьи Майкова, обратившей на себя внимание в интеллигентных кружках того времени. Отсутствие в русском обществе каких-нибудь серьезных умственных преданий, непривычка рассуждать на трудные философские темы, внешние признаки прогрессивности в самой постановке новой научной задачи, некоторая, хотя и очень ординарная увлекательность в изложении – все это бросилось в глаза и показалось чем-то многознаменательным, имеющим широкую будущность. В статьях Белинского философские мысли, выраженные с большою страстью, производили всегда впечатление поэтических излияний. Овладевая чувством, они оставляли часто без удовлетворения живую потребность в простой, ясной, холодной логике, опирающейся на несокрушимые доводы науки. Безмятежная, слегка докторальная, хотя и многословная манера Майкова, при его постоянных ссылках на новейшие европейские имена и выдающиеся сочинения по разным политическим и социальным вопросам, не могли не возбудить в обществе и в литературе некоторых надежд. Среди деятелей молодой журналистики не было ни одного человека, который был способен подвергнуть строгой критике его общие философские положения. В каких изданиях сороковых годов можно было найти серьезные рассуждения о разных научных методах, о целях и приемах общественных наук, рассматриваемых с точки зрения одной высшей социальной идеи? Вопрос о национальности, служивший предметом горячих препирательств между Белинским и деятелями «Москвитянина», ни кем в то время не был поставлен на почву социологии. Майков своим трактатом сразу внес в журнальную литературу дух научно-философского исследования, который должен был расшевелить умы в совершенно новом, неожиданном для той эпохи направлении. При свежих перспективах старые интересы, разделявшие главных деятелей литературы на противоположные лагери, выступали, наконец, в солидных, импозантных формах, допускающих чисто логическое обсуждение с разных объективных и доступных точек зрения. Майков придал национальному вопросу, на первых порах своей литературной деятельности, характер научной теоремы, необходимой для завершения, для полного округления социальной философии. Вот несомненная заслуга этого рано умершего писателя, не обладавшего крупным литературным талантом, по своему сухому, рассудочному темпераменту мало подходившего для роли эстетического критика, но по всему своему умственному складу несомненно призванного для университетской кафедры. Это педантическое разграничение между отдельными науками одной и той-же категории, с полным изгнанием из них жгучего, идейно-протестантского элемента, эти уверенные рассуждения о праве с узко-формальной, государственной точки зрения, это схоластическое понимание самой задачи социологии, представленной в виде какой-то высшей контрольной палаты по вопросам трех различных порядков – все это, вместе взятое, дает характерную физиономию молодого двигателя образования в узкой рамке патриотической педагогики и казенных предначертаний. При всей симпатии к новым обобщениям, Майков не поднимался над уровнем обычной посредственной учености, которая не могла оставить глубокого следа в развитии общества. Его идеи, изложенные в его первых статьях, возбудив внимание в небольшом кругу журнальных деятелей, очень скоро совершенно затерялись и даже, в измененном виде, не пустили никаких корней в публицистической и философской литературе России. При внешних признаках новаторства, в работах Майкова не было большего внутреннего содержания и той острой научной критики, которая от общих положений быстро обращается к частным фактам, чтобы на них, с художественной рельефностью, осветить и оправдать известную теорию, известную систему понятий. Мысли его, при схематической стройности, не сплочены внутренней психологической силой, страстно прочувствованным убеждением, которое во всех формах личной и общественной жизни ищет отражения неизменных начал мирового процесса, тех общечеловеческих течений, которые проходят через души цельных и ярких людей, независимо от степени их образования и литературного таланта.
Мы уже видели, с какими педантическими ограничениями Майков рассмотрел и очертил аналитическую работу социальной философии. Отдельные её части оказались совершенно формальными, бледными науками с случайным направлением понятий, определяемым внешними историческими силами. Сама социальная философия получила, в его изложении, характер внешнего надзора за деятельностью этих наук в узко отмежеванных границах. Но на этом не остановилась ограничительная тенденция Майкова в важной области научного разбора общественных явлений. В учении о социальном синтезе, искусственно сведенном к идее народности, вся его философия становится источником мертвящих принципов, оплотом рутинных взглядов и оправданием грубых шовинистических инстинктов и алокультурных народов. Наука, которая, по природе своей, должна вырабатывать только идеи высшего мирового порядка, суженная поверхностным анализом в самом центре философского исследования, в заключительных соображениях сведена к фабрикации каких-то рецептов местного благоустройства, составляющего самостоятельную часть общечеловеческого благоустройства. Политическая экономия должна иметь строго-национальный характер. Понятия о праве и справедливости видоизменяются для каждого отдельного народа. Даже нравственные идеалы, которые, несомненно, должны были-бы представлять незыблемый устой среди меняющихся веяний истории, подчинены национальным и расовым особенностям. В умственном развитии человечества не оказывается ничего объединяющего, мирового, стоящего выше случайных народных стремлений и направляющего культуру к вечным идеальным целям. Приписав ошибочное значение национальной идее, Майков не разгадал и не открыл её истинной природы. Не давая материала для заключительных обобщений социальной науки, которые соединяют ее с общими, основными философскими понятиями, идея народности представляет громадный интерес в другом, психологическом отношении, на который Майков не обратил никакого внимания. Сказав однажды, что народность заключается в духе, а не в формах быта, он при этом не дал понять, что под духом здесь следует разуметь исключительно народный темперамент, сферу чувств, оригинальных настроений, оттеняющих общечеловеческие стремления и идеи в данной умственной и социальной среде. Национальность – не в различии понятий, не в разнообразии нравственных и философских взглядов, исходящих из общечеловеческих духовных источников, а только в характере, в темпе внутренних волнений и ощущений, сопровождающих каждое духовное восприятие, каждый порыв ума к универсальной истине. При единстве общечеловеческих идей справедливости и свободы, при коренном сходстве в идеалах красоты и совершенства, разные народы постоянно вносят индивидуальный колорит в свою историческую работу, в произведения своих лучших и характернейших художественных талантов. Общие мировые идеи, стесненные определенными бытовыми условиями, границами тех или других расовых и психических индивидуальностей, выступают, в переработке отдельных народов, односторонними типическими явлениями единого духовного порядка. Вот в каком смысле уместно говорить об идее народности: она имеет значение для чисто психологического понимания душевной жизни масс, как идея индивидуальности, она может пролить некоторый свет при изучении истории отдельных обществ, создаваемой борьбою инстинктов, чувств и страстей, она дает возможность проникнуть в капризные, подвижные формы творчества, отвечающие интимным особенностям отдельных темпераментов. Давая ключ к объяснению того, что создается непосредственными чувствами и симпатиями, она не может быть руководящим принципом при оценке явлений, имеющих умственное, теоретическое значение. Только в жизненном и художественном воплощении общечеловеческих идей естественно проявляется индивидуальное разнообразие, ибо каждое выражение бесплотной по природе мысли неизбежно принимает рельефность и яркость оригинального колорита вместе с ограниченностью и условностью всякой чувственной формы. Но по скольку национальная печать отмечает теоретические идеи известного порядка, по стольку она извращает значение этих идей, потому что в области духа, в области отвлеченной мысли не должно быть и не может быть двух истин по отношению к одному и тому-же предмету.
Дли полноты характеристики Майкова в этом моменте его литературной деятельности отметим несколькими критическими замечаниями то, что им сказано о свойствах русского ума. С чувством особого патриотического удовлетворения Майков, как мы видели, усматривает в русском народе гармоническое сочетание аналитических и синтетических «воззрений». При ненависти к ничтожному остроумию и блистательной фразеологии, русский человек счастливо соединил в себе умение разлагать каждое явление на части и затем вновь соединять эти части по строго-логическому, трезвому методу. Такова наивная, не глубокая, хотя пылкая характеристика, вышедшая из под пера молодого фактического редактора «Финского Вестника». Изгоняя из своих рассуждений строго научное представление о вне-опытных, мистических элементах духовной жизни и сведя всю деятельность человеческого ума к какому-то внешнему процессу, Майков не мог заглянуть в глубь индивидуальности русского народа. Если принять характеристику Майкова, то пришлось-бы допустить, что в России находятся на одинаковой высоте и то, что производится аналитическою работою человека, и то, что создается его синтетическими силами. Можно подумать, что русское художественное творчество и русская культура стоят на одинаковом уровне развития. Политическая история русского общества и русская политическая наука, если верить Майкову, если держаться его поверхностно-оптимистического взгляда, должны представлять целый ряд триумфов, свидетельствующих о несокрушимом житейском и теоретическом анализе русского ума. Искусство, для которого прежде всего требуется своеобразное восприятие действительности в непосредственном идеальном свете сознания, искусство, которое начинается синтезом, продолжается синтезом и никогда не переходит в рассудочный последовательный анализ, искусство, запечатленное, в своих красках и формах, оригинальностью характера и темперамента – вот в чем обнаружилась истинная духовная сила русского общества. При бедной культуре, двигающейся робкими и неверными путями, при крайней ограниченности политической мысли, при убожестве и грубости публицистических орудий, при общей банальности и мелкости научно-философских приемов и стремлений, одно только русское поэтическое творчество представляет законченное самобытное явление, имеющее общечеловеческое, мировое значение. Анализ не показал себя до сих пор в России сколько-нибудь заметной, развитой способностью. В области гуманитарных знаний, ведущих общество по пути нравственного и умственного прогресса, мы не имеем еще до настоящей минуты ни одного особенно крупного факта, который мог-бы выдержать сравнение с однородными проявлениями могущественного анализа европейской мысли. Русская социальная наука влачится в прахе, цепляясь за самые поверхностные течения в культурной жизни других народов, раболепствуя перед собственными ничтожными кумирами, постоянно приснащаясь к случайным публицистическим интересам. Русская философская мысль до сих пор еще находится под запретом у коноводов журнальной печати, испуганно содрогаясь от крикливых, нагло-невежественных обвинений в склонности к метафорическим бредням. Где-же можно открыть, хотя-бы теперь, через полвека после громкого заявления Майкова, какие-нибудь яркие следы настоящего научного анализа, плодотворной умственной работы, соединяющей в себе обе стороны человеческого мышления, захватывающей в одном цельном построении результаты синтеза и анализа? Где доказательства того, что русская натура обладает такими разносторонними духовными способностями, такой «энергичной смелостью» при органической симпатии к строгой правде, если даже в практической сфере все её прогрессивные стремления сводятся к каким-то жалким, быстро проходящим, «благим порывам»?..
Теперь мы исчерпали все, что относится к социальной философии в рассуждениях Майкова. Анализ, синтез, вопрос о национальности в его теоретической постановке и частный вопрос о характерных свойствах русской народности – эти различные темы и составляют главное содержание обширной статьи Майкова «Общественные науки в России». С этими мыслями, без посредствующего эстетического звена, было бы невозможно прямо обратиться к предмету настоящей литературной критики, и вот мы находим в отрывках Майкова, не напечатанных в свое время, но обнародованных, как мы уже сказали, в полном собрании его работ, несколько мыслей, получивших дальнейшее развитие в его следующих статьях. Майков, на двух страницах, делает первый набросок своей эстетической теории. Он старается отметить главный типический признак искусства вне определении «школьной эстетики». Изящно все то, говорит он, что только производит какое-нибудь впечатление на человеческое чувство. «Изящное произведение тем и отличается от других произведений свободной деятельности духа, что действует на чувство, и что без того оно не было бы изящным». Наука обращается к уму и никто не может требовать, чтобы она управляла волею и «раздражала чувство». Истины, добытые путем научного исследования, не действуя «на чувствительную сторону человеческой души», не производят никакого влияния и на нравственность. Аполлон Бельведерский ничего собою не доказывает, ни к чему не подвигает, но «смотря на этот антик, вы трепещете от восторга, видя перед собой осуществление душевной и телесной красоты». Он до основания поражает нашу чувствительность. В опровержение этого взгляда на искусство часто приводят, замечает Майков, примеры таких произведений, которые в одно время удовлетворяют и требованиям ума, и требованиям изящного. Утверждают, что писатель может и доказывать и пленять художественностью формы. Но такое представление Майков считает совершенно ложным: «поэзия, говорит он, доказательств не терпит, ибо доказательство необходимо приводит к чистой мысли, разоблаченной от жизненных форм»…[5 - «Критические опыты», стр. 613.] Вот вкратце эстетические взгляды, выраженные Майковым в статье его «Общественные науки в России», взгляды, представляющие, несмотря на отсутствие пространных доказательств, некоторый литературный интерес.
Не углубляясь пока в критику этой эстетической теории, укажем её главные общие недостатки. Во-первых, определение изящного, сделанное Майковым, не заключает в себе типических признаков художественного произведения и в то же время не выделяет его из необъятной сферы явлений, так или иначе действующих на наше чувство. Нельзя считать изящным все то, что производит на нас какое-нибудь впечатление. Наши впечатления разнообразны, как мир. Наши чувства приходят в движение по самым различным мотивам, потому что нет такого явления, которое, вступая в нашу душу с большей или меньшей силой, не вызвало бы волнения в области наших ощущений. Волнение эстетическое имеет свою собственную окраску, тенденцию, и задача эстетики заключается именно в том, чтобы точно определить его природу. Но от такой научной постановки вопроса Майков, по крайней мере в данном рассуждении, стоял очень далеко. Во-вторых, нельзя не признать крайне односторонним понятие об изящном, как о чем-то радикально отличном от истинного. Майков не уразумел, что изящное есть только правильное воплощение истинного. Вынимая из художественного произведения разумный элемент, который не может не действовать на сознание, двигать его в ту или другую сторону, возбуждать в нем, вместе с кипением чувств, диалектическую работу и борьбу различных идей и понятий, Майков опять обнаруживает непонимание синтетического характера художественного процесса. Бессознательно развертываясь в произведениях искусства, выступая в полном слиянии с определенною внешнею формою, идеи составляют душу всякого художественного творения и, по самой своей природе, могут быть постигнуты только сознанием. Именно в этом и заключается отличительный характер эстетических чувств, их идейным происхождением и объясняется их возвышенность и утонченность, находящаяся в прямом отношении к степени умственной и нравственной культурности человека. Не терпя никаких рассудочных доказательств, искусство полно жгучей диалектики, овладевающей умом с властною, ничем непобедимою силою.
Мы оставим без внимания две совершенно незначительных заметки Майкова о кн. Одоевском и Тургеневе в библиографическом отделе «Финского Вестника» и перейдем к новому и последнему периоду его литературной деятельности – в «Отечественных Записках».
III
За год до отъезда в Зальцбрунн, Белинский разорвал с «Отечественными Записками» и собирал труды друзей своих для обширного альманаха «Левиафан». Тургенев, рассказывает Анненков, был из первых, обещавших Белинскому свою лепту, а между тем, но лукавству, составляющему обычное явление в литературных кружках, он вовсе не искал и не хотел конечной гибели «Отечественных Записок»[6 - П. В. Анненков. Молодость И. С. Тургенева, «Вестник Европы», 1881. № 2, стр. 468.]. Сочувствуя, как начинающему писателю, В. Майкову, Тургенев свел его с Краевским, который и поручил ему главные части критического отдела своего журнала. Эстетика Майкова, замечает Анненков, построенная на этнографических данных, могла дать окраску этому либеральному изданию, и пятнадцать месяцев усердного участия Майкова в «Отечественных Записках», с апреля 1846 г. по июль 1847 г., до некоторой степени поддерживало их старую репутацию, не смотря на переход Белинского в «Современник». Майков возбудил своими статьями, которые именно теперь приобрели более или менее яркий колорит, довольно оживленные прения в журнальных кругах, вновь и с особенною силою поставил и разрешил старый вопрос о народности, подробно и ясно изложил эстетическое учение, отличающееся коренным образом от теоретических воззрений Белинского в этом последнем периоде его литературной деятельности. Публика, знакомая со статьею Майкова в «Финском Вестнике», знала его общие социальные идеи, но вовсе не могла подозревать в нем какие-нибудь определенные критические стремления в области эстетических вопросов. За исключением двух – трех фраз, в которых говорится, что никакая «новая мысль не может быть выражена эстетически», что поэзия не терпит доказательств и что задача истинного художника заключается в том, чтобы глубоко прочувствовать общую идею века и творчески воплотить ее «в животрепещущий образ», за исключением этих и некоторых других попутных, случайных замечаний, в первых работах Майкова нельзя найти ничего определенного, ясного, твердого на тему об искусстве. В «Отечественных Записках» литературная деятельность Майкова, за выбытием из состава редакции Белинского, должна была развернуться шире – именно в сфере эстетических вопросов. Приходилось постоянно отвлекаться от предметов юридических и экономических, всего более отвечавших его внутренним склонностям, чтобы давать своевременные отчеты о явлениях чисто литературных, о художественных произведениях, сколько-нибудь выделяющихся по таланту и значительности идейного содержания. Около таких произведений и явлений яркое дарование Белинского достигло вершины своего развития, и писатель, который решился занять его место на страницах одного из самых видных органов того времени, должен был явиться перед публикой с определенными эстетическими убеждениями и художественными симпатиями. Надо было обнаружить известную систему понятий и тонкий вкус, действующий не безотчетно, не по капризу авторских пристрастий, а по определенному критическому принципу, доступному для спора и возражений с каких-нибудь других точек зрения. Майков, по-видимому, хорошо понимал ответственность своего положения в качестве первого критика журнала. С первых же шагов он старается, по разным важным и неважным поводам, занять известную позицию по отношению к задачам искусства, разбирая современные произведения художественного и поэтического творчества, давая мимолетные характеристики выходящим книгам. Он пишет о Жадовской, высмеивает стихотворные упражнения В. Аскоченского, набрасывает несколько неуверенную, хотя в общем сочувственную рецензию на сборник А. Плещеева и довольно часто распространяется об исторических судьбах русской литературы, о Пушкине, Лермонтове. Он проводит параллель между Гоголем и Достоевским, адресует несколько похвальных замечаний Герцену, выражает скорбь, с оттенком возмущения и протеста, о том что бездарные вирши, порождения самолюбивой затейливости, часто вытесняют такие истинно талантливые поэтические произведения, как стихотворения Тютчева. Рядом с краткими оценками отдельных эстетических явлений, мы постоянно встречаемся в статьях Майкова этого периода с пространными рассуждениями теоретического характера. Не умея сгущать выражения своих мыслей и постоянно прибегая к разным малозначащим историческим иллюстрациям, Майков теперь окончательно развивается перед читателем определенное учение об искусстве и творчестве, стоящее по-видимому в принципиальном противоречии с утилитарными взглядами Белинского – почти накануне его смерти. Он не только не изменяет своим научным симпатиям, как они определились в рассмотренных статьях «Карманного Словаря» и «Финского Вестника», но еще с большею уверенностью провозглашает великое значение аналитического метода, как он его понял. Он нашел приложение своим понятиям, воспитанным в школе формальных юридических определений, и отныне его журнальная деятельность направляется к двум, не совсем однородным целям. Продолжая начатые работы, он завершает свою эстетическую теорию и окончательно перестраивает прежнюю теорию народности, подробно разобранную нами выше.
Главные мысли Майкова об искусстве собрались в статье его о Кольцове. Обширная и растянутая, статья эта трактует о многих предметах, но её главное содержание может быть разбито на две части. В первой говорится о тайне художественного творчества, во второй – о народности в жизни и литературе. После длинных рассуждений о классицизме и романтизме, Майков, установив свое отношение к критике Белинского, которую он обвиняет в отсутствии определенных, неизменных научных доказательств, в бессознательном стремлении к диктаторству, переходит к чисто теоретическим вопросам. Он проводит твердое разграничение между явлениями, входящими в область искусства и явлениями, относящимися к научной сфере. Никоим образом не следует смешивать вещей занимательных с тем, что волнует наше чувство. Все, лежащее вне нас, не сродное с нами по природе, все, наделенное собственною, еще не ясною для нас индивидуальностью – все это возбуждает любознательность, мучит и манит нас в даль, пока таинственное не становится ясным, отдаленное близким и понятным. В этой области действует наука, постоянно разъясняя то, что подстрекнуло любопытство, возбудило интерес ума, в известном направлении. Вот где не может проявиться никакое поэтическое творчество, требующее иного материала, иных сил, иных горизонтов. Искусство имеет дело с тем, что симпатично, сродно с нашими человеческими интересами, тождественно с нами по существу. Мы умеем сочувствовать только тому, в чем нашли самих себя. Мы восторгаемся природою, потому что ощущаем ее внутри себя. Нет на свете ни одного неизящного, непленительного предмета, если только художник, изображающий его, обладает достаточным, талантом, чтобы отделить в нем «безразличное от симпатического», чтобы не смешать «симпатического с занимательным». В искусстве все дело не в художественности форм, которые никогда не могут быть лучше живых форм действительности, в каких она движется перед нашими глазами, а в поэтической мысли, радикально отличной от научно-дидактической мысли. Всякая художественная идея никогда не выливается в форму сухого, рассудочного силлогизма, не заключает в себе никакого доказательства и влияет на нас своими общечеловеческими, симпатическими свойствами. Художественная идея рождается в форме живой любви или живого отвращения от предмета изображения, У великих талантов каждая поэтическая черта одушевлена человеческим чувством. Истинный художник умеет открывать присутствие человеческого интереса в том мире явлений, которым занято его воображение. Мы не можем проследит, как возникает и как затем выражается художественная мысль в определенной форме, но для научной эстетики достаточно, что она в праве установить следующую несомненную истину: «тайна творчества состоит в способности верно изображать действительность с её симпатической стороны, иными словами: художественное творчество есть пересоздание действительности, совершаемое не изменением её форм, а возведением их в мир человеческих интересов, в поэзию»[7 - «Критические опыты», стр. 44.].
Вот в общих словах главные черты новой эстетической теории Майкова. Искусство не имеет дела с тем, что занимательно, тайна его воздействия на людей заключается в том, что оно воспроизводит действительность с её симпатической стороны, что оно гуманизирует ее, переводит ее в сферу человеческих интересов. В искусстве не должно быть никакой дидактики, потому что сухое логическое рассуждение убивает все виды чистой поэзии, даже сатиру, в которой привыкли искать назидания и поучения. Современная эстетика раз навсегда отказалась «от титла руководительницы» художественных талантов, сфера её влияния ограничивается исключительно «опытным исследованием обстоятельств, сопровождающих зачатие, развитие и выражение художественной мысли»[8 - Ibidem. Нечто о русской литературе в 1846 г., стр. 342.]. О самой художественной идее, в отличие её от идеи научно-дидактической, Майков высказывается с некоторой сбивчивостью, при всей решительности отдельных фраз. На одной и той же странице говорится, что всякая поэтическая идея рождается в форме живой любви или отвращения от предмета изображения и тут же, через несколько строк, прибавляется новый оттенок к её определению. Художественная мысль, говорит Майков, есть ничто иное, как чувство тождества, чувство общения какой бы то ни было действительности с человеком. Очевидно, Майков не делает никакого различия между поэтической идеей и поэтическим чувством. Если прибавить к этим определениям задачи и цели искусства соображения Майкова о том, что художественное творчество не допускает никакой копировки внешнего мира, мы будем иметь все его эстетическое учение, в полном объеме его главных и второстепенных положений. Борьба с дидактикой и открытие симпатических сил искусства – вот те новые принципы, которыми Майков хотел, по-видимому, оказать решительное научное сопротивление начавшемуся в журналистике брожению утилитарных понятий. Оградив искусство от чуждых ему элементов. Майков в то же время указывает ему высокую задачу в области живых человеческих интересов. Однако, если внимательно присмотреться к этому учению, легко заметить в нем недостатки философского характера, имеющие немаловажное значение. Во-первых, самое деление предметов на занимательные и симпатические, играющее в теории Майкова первенствующую роль, надо признать совершенно условным. Как мы уже говорили, все, что входит в сознание человека, что интересует его в том или другом отношении, не может не произвести известного впечатления на чувство. В каждом акте познания мир открывается нам с «симпатической» стороны, т. е. со стороны, задевающей и волнующей нашу душу. Научное исследование известных явлений так же овладевает нашими чувствами, как и художественное воспроизведение природы, тех или других событий в жизни людей. Когда мы говорим о теле, замечает Жуковский в письме своем к Гоголю, мы можем определенно означать каждую отдельную его часть. Но когда мы говорим: ум, воля, мы разными именами означаем одно и то же – всю душу, неразделимо действующую в каждом частном случае. Но если-бы искусство поражало только чувство, оно не могло бы иметь такого широкого культурного значения, какое оно имеет в развитии каждого общества. Во-вторых, характеристика творческого процесса вышла у Майкова крайне узкою, недостаточною для борьбы с утилитарными представлениями о задаче искусства. В этой характеристике особенно ярко выступил его ошибочный взгляд на самую природу художественного процесса, в котором синтез является в действительности настоящею творческою силою. Майков выдвигает на первый план вопрос о человеческих интересах, с которыми должно слиться всякое художественное произведение. Но понятие о человеческих интересах, не развитое философским образом, даже не связанное в рассуждении Майкова с каким-нибудь определенным психологическим содержанием, дает совершенно случайное мерило при оценке истинно талантливых созданий искусства. Художник должен изображать, говорится в вышеупомянутом письме Жуковского, не одну собственную человеческую идею, не одну свою душу, но широкую мировую идею, проникающую все доступное нашему созерцанию. Задумав бороться с дидактикой, Майков не сумел, однако, возвыситься до теории настоящего свободного искусства, которое не только не подчиняется никаким временным человеческим интересам, но и самые эти интересы подчиняет непреходящим объективным целям и мировым принципам красоты и правды. Мало изгонять из искусства холодное резонерство. Надо показать его важную философскую задачу в цельной системе, отражающей самые таинственные, бескорыстные, вдохновенные стремления человеческой души. В-третьих, наконец, деление идей на художественные и дидактические представляется искусственным, формальным делением, лишенным истинно научного и эстетического значения. Все без исключения идеи могут быть предметом искусства: они становятся художественными, поэтическими, когда получают гармоническое, правильное, не случайное выражение в определенной конкретной форме. Майков не придает значения тому, что в искусстве стоит на первом плане, как его внешняя природа. Художественные формы, говорит он, всегда останутся тождественными с формами действительности. Но в том-то и дело, что между искусством и действительностью нет такого соответствия и каждый предмет, перенесенный из внешнего мира на полотно, в литературное произведение, высеченный из мрамора, совершенно преображается в идеальный, законченный, символический образ. Если в мире грубых фактов нашего внешнего опыта, в мире жизненных явлений мы можем еще не видеть и не чувствовать за ними присутствия высшей духовной стихии, то, обращаясь к произведениям человеческого творчества, мы неизбежно соприкасаемся и разумом, и чувствами с верховными силами и законами, с животрепещущим воплощением безусловной истины. Не поняв действительных свойств ни обыденного, ни научного синтеза, Майков не мог оценить и синтеза художественного, которым в каждое произведение вносится целое миросозерцание, ряд эстетических и нравственных понятий, высоко поднимающих все его образы, все повествование над повседневными явлениями жизни Идеи, влагаемые художником в его творения, суть те же самые идеи, которые разрабатываются в науке, приводятся в систему в философии, которые становятся дидактическими в сухом логическом рассуждении. Выраженные;в поэтической форме, они получают как бы живое индивидуальное существование и говорят одновременно и воображению, и чувству, и разуму.
Подходя с своими позитивными эстетическими взглядами к различным явлениям русской словесности, Майков не дал ни одной настоящей характеристики, которая могла бы остаться в литературе, как образец таланта и тонкого критического вкуса. О Пушкине он не сумел сказать ни одного яркого, оригинального слова, хотя вся деятельность Белинского, полная противоречий в этом вопросе, должна была бы возбудить на работу его лучшие умственные силы, если бы он был создан для настоящего литературно-критического дела. Лермонтова он сравнивает с Байроном на том основании, что произведения обоих «выражают собою анализ и отрицание людей, дошедших до того и другого путем борьбы, страдания и скорбных утрат». Гоголем Майков занимается во многих заметках. Он считает его главным представителем новейшего русского искусства, основателем натуральной школы, в произведениях которого «торжество русского анализа, анализа мощного, бестрепетного и торжественно-спокойного» достигло своего апогея. Собрание сочинений Гоголя Майков, с чувством наивного удовлетворения, называет «художественной статистикой России». Его рассуждения о Достоевском, о Герцене – при всем его глубоком сочувствии к этим писателям, не обнаруживают никакой особенной проницательности. Следует, между прочим, заметить, что не поняв существенного тождества дидактических и художественных идей, отрицая в искусстве чисто-идейное содержание и усматривая на примерах с беллетристическими произведениями какое то противоречие с основными своими убеждениями, Майков решился создать по этому случаю новую полу-дидактическую, смешанную форму искусства. На этой фальшивой почве не было никакой возможности глубоко постигнуть и осмыслить тот новый, широко развившийся впоследствии род творчества, которому присвоено название романа. Наконец, характеристика Кольцова, несмотря на пространность, не отличается ни глубиною, ни меткостью. «Думы» Кольцова он совершенно отвергает, как «неудачные попытки самоучки заменить истину, к которой стремился, призраками, которые для самого его имели силу кратковременно действующего дурмана». Белинскому Майков, как мы видели, делает упреки за стремление к диктаторству и спорит с ним, между прочим, по случайному вопросу о термине «гениальный талант».
Остается рассмотреть еще новую теорию народности, предложенную Майковым в той-же статье о Кольцове, оттененную некоторыми отдельными замечаниями в других его статьях библиографического отдела «Отечественных Записок». По прошествии одного только года, взгляды Майкова изменились самым радикальным образом. Теперь он иначе определяет значение идеи народности в развитии человечества, переделывает все прежние выводы и является защитником безусловного космополитизма. Не заботясь о приведении в надлежащую систему своих воззрений на социальную философию, в связи с новыми своими мыслями, он идет теперь совершенно другим путем, излагает свои убеждения без малейших ссылок на прежние научно-философские теоремы. Рассуждения Майкова приурочены к вопросу о том, можно-ли считать Кольцова национальным поэтом, что такое народность в литературе и дух народности в жизни отдельных людей. Майков следующим образом разрешает все сомнения, возникавшие и возникающие на этой почве, и в заключение формулирует новый закон, до сих пор не оцененный, как он говорит, этнографами, но вполне выражающий собою «отношение национальных особенностей к человечности и указывающий на путь, но которому народы стремятся к идеалу». Вот его собственные слова, напечатанные в «Отечественных Записках» особенным, крупным шрифтом. «Каждый народ, говорит Майков, имеет две физиономии. Одна из них диаметрально противоположна другой: одна принадлежит большинству, другая – меньшинству. Большинство народа всегда представляет собою механическую подчиненность влиянию климата, местности, племени и судьбы. Меньшинство-же впадает в крайность отрицания этих явлений»[9 - «Критические опыты», стр. 69.]. Обе эти крайности – типические черты народных масс и умственные и нравственные качества людей из интеллигентных слоев – представляют уклонение от нормального человека с его коренными, прирожденными психическими особенностями. Человек вообще, к какому-бы племени он ни принадлежал, говорит Майков, под каким бы градусом он ни родился, должен быть и честен, и великодушен, и умен, и смел. Общий всем людям идеал человека составлен из положительных свойств, которые обыкновенно называются добродетелями. Ни одна добродетель не приходит извне. Нет такой добродетели, зародыш которой не таился-бы в природе человека. Но в противоречии с положительными силами, прирожденными человеку, все пороки суть ничто иное, как добрые наклонности – «или сбитые с прямого пути, или вовсе не уваженные внешними обстоятельствами». В устройстве стихий нашей жизненности, замечает Майков, господствует полная гармония, и потому совершенно несправедливо видеть в самом человеке источник его несовершенств. Но народные массы, живущие среди тяжелых условий, обессиливаются в своих лучших, человеческих чертах и, под долгим гнетом исторических обстоятельств, обростают каким-то безобразным внешним покровом, которому название общенациональной физиономии присваивается только по ошибке. В народной толпе всегда находятся люди, которые высоко поднимаются над своими современниками, над инертными культурными слоями, над их привычками и умственными стремлениями. Оби выходят из среды своего народа, отрешаются от его типических особенностей и развивают в себе черты прямо противоположного характера. Проникаясь иными идеями, побеждая в себе всякую подчиненность внешним силам, угнетающим народную жизнь, эти люди делают спасительный шаг к богоподобию, хотя и впадают при этом, как уже сказано, в новые крайности. Они являются защитниками настоящей цивилизации, в которой не может быть ничего народного. Подобно тому, как мы должны считать наиболее совершенным того человека, который ближе всего подходит к воображаемому, идеальному, бестемпераментному человеку, мы должны признать наиболее совершенною ту цивилизацию, в которой меньше всего каких-бы то ни было типических особенностей. Цивилизация и народность – идеи совершенно непримиримые, одна другую исключающие. Майков выясняет свою мысль на примере с поэзией Кольцова. Вот истинно совершенное искусство, которое избегло обеих указанных крайностей, преодолев дух подчиненности, разлитый в народной толпе, и дух «отчаянного удальства», отличающий меньшинство. Стихотворения Кольцова, выражая «изумительную жизненность», проникнуты вместе с тем «какою-то необыкновенною дельностью и нормальностью». В них нет никаких крайностей, никаких проявлений болезненной раздражительности. Читая его произведения, вы беспрестанно видите перед собою человека, «в самой ровной борьбе с обстоятельствами», человека, которому нет надобности сострадать, потому что вы уверены, что победа останется на его стороне и что силы его «еще более разовьются от страшной гимнастики». В них вы, наверно, не встретите никакого злостного увлечения, никакой желчности, никакой односторонности, «образующейся в людях посредственной жизненности вследствие вражды с обстоятельствами». Вся его биография переполнена фактами, доказывающими, что в нем господствовала полная гармония «между стремлением к лучшему и разумным уважением действительности».
Несмотря на некоторый внешний блеск, это новое учение о народности тоже страдает очень существенными недостатками, которые делают его особенно непригодным при изучении человеческого творчества в его разнообразных формах и проявлениях. При таких понятиях о народной индивидуальности, особенно ярко выступающей в поэтических произведениях, Майков должен был потерять всякий интерес и чутье к тому, что в искусстве стоит на первом плане – к совершенству оригинального выражения общечеловеческих, мировых идей и настроений. Самое создание этой теории показывает в Майкове человека, без яркого темперамента и глубоких художественных симпатий к разнообразным формам красоты, к игре высшей жизни в индивидуальных; воплощениях и образах. Признав, в противоположность своим прежним ложным взглядам, космополитический характер всякого общего понятия и всех отвлеченных идей и сделав в этом отношении существенный, прогрессивный шаг, Майков не разглядел, однако, в чем именно заключается идея народности, понятой вне каких бы то ни было шовинистических и политических стремлений. Во-первых, устанавливая;«закон двойственности народных физиономий», при чем одна физиономия принадлежит народной массе, а другая интеллигентному меньшинству, он не видит истинных отношений глубокой оригинальной личности к той умственной и социальной среде, из которой она вышла. При выдающихся духовных силах научного или художественного характера, при ярком уме и воле, способный бороться с слепыми жизненными стихиями и предрассудками, даровитый человек обнаруживает в наиболее чистом и законченном виде те именно качества группового темперамента и характера, которые затерты в массе грубыми историческими силами. В истинно интеллигентной среде типические народные черты, часто скрытые от глаза, искаженные внешними влияниями, выступают с большою свободою и потому с большею красотою. О народной индивидуальности приходится судить именно по самым талантливым людям. Образованный человек, участвующий в создании литературы и науки, или добровольно и сознательно отдающийся их течению, говорит Потебня, какой бы анафеме ни придавали его изуверы за отличие его взглядов и верований от взглядов и верований простолюдина, не только не отделен от него какою то пропастью, но, напротив того, имеет право считать себя более типическим выразителем своего народа, чем простолюдин[10 - «Вестник Европы», 1895, Сентябрь.]. Образованный человек устойчивее в своей народности, чем человек малой и шаткой умственной культуры. Самое содержание его научных и нравственных убеждений и общественных понятий должно остаться общечеловеческим, но выражение их в жизни, в литературе будет непременно иметь свою особенную форму, своеобразный стиль данного народа. Необходимо при этом отметить то обстоятельство, что, поняв ошибочно смысл и психологическое значение идеи народности, Майков не решился стать на сторону того меньшинства, которое он сам признает выразителем интеллигентного протеста во имя человеческого богоподобия. Вот почему, желая выразить свою симпатию к могучему, страстному, порывистому таланту Кольцова, он рисует фигуру спокойного, уравновешенного, рассудительно-деловитого человека. Во-вторых, представление Майкова о прирожденности «добродетелей» и случайности «пороков» имеет самый поверхностный характер. Его изображение не передает той драмы, которая совершается в человеческой душе – борьбы противоположных идей и понятий, идущих изнутри человека, из глубины его диалектического по природе духа. По представлению Майкова человек, преодолевший внешние жизненные силы, выйдя из под давления исторических предрассудков, вместе с этим окончательно сбрасывает с себя свою порочную оболочку и становится олицетворением бестемпераментной добродетели. А между тем, истинный освободительный процесс совершается прежде всего внутри самого человека, в глубине сознания – с его коренным метафизическим разладом, который может разрешиться только в высших идеальных обобщениях. В-третьих, наконец, при правильном понимании народности, Майков не мог бы говорить о радикальном противоречии между народностью и цивилизацией. В прежних своих рассуждениях на эту тему он сделал принципиальную ошибку, дав место идее национальности в чисто научных и философских вопросах. Теперь, ошибочно усматривая в народности то же идейное содержание, он неизбежно должен был признать ее разрушительным началом по отношению к цивилизации. Он и теперь не видит, что типические свойства народа в его индивидуальном темпераменте, в характере его непосредственных сил, и что разнообразие этих свойств в человечестве, порождающее разнообразие в склонностях и бессознательных влечениях, никоим образом не может находиться в логическом противоречии с идеей просвещения, с идеей единой для всех людей цивилизации.
IV
Белинский, встретивший сочувственными словами первую большую статью Майкова, отнесся с резким отрицанием к его новым идеям о народности. В обозрении русской литературы 1846 г., он, не называя по имени нового критика «Отечественных Записок», в довольно решительных выражениях оспаривает его учение о народности, изложенное в статье о Кольцове. Рассуждения Белинского отличаются обычною страстностью, и несмотря на многие преувеличения и сочувственные фразы по адресу славянофильской партии, производят яркое, сильное впечатление. Статья написана с лихорадочным жаром. Столкновение с новой либеральной силой, выступавшей с научными и социальными теориями и отвергавшей индивидуальность в формах поэтического творчества, разбудила в Белинском его прежние, когда-то глубоко пережитые, эстетические симпатии. Он накидывается на молодого писателя, разбрасывает по всем направлениям фразы, полные огня и вдохновения, с особенной силой противопоставляет взглядам Майкова свои собственные, смелые, на этот раз оттененные некоторым преувеличенным патриотством, националистические убеждения[11 - Сочинения Белинского, т. XI, издание 1892 г., «Взгляд на русскую литературу 1846 г.», стр. 41-42. 44-45.]. Как известно, статья эта вызвала смущение в литературных кругах, близко стоявших к «Современнику». Сам Майков, по-видимому, не склонился на сторону своего достойного оппонента, хотя и нашел нужным объясниться перед Тургеневым относительно своих критических замечаний о Белинском. Возникшая полемика, в виду некоторых неловких фраз Белинского, быть может, даже подняла Майкова в глазах людей, следивших за развитием молодых талантов, и уже в первые месяцы 1847 г. критик «Отечественных Записок» подучил приглашение участвовать в «Современнике», приглашений, столь настоятельное, что у него мелькнула даже мысль, рассказывает Порецкий, прервать обязательные отношения с Краевским. Дело, однако, обошлось так, что Майков стал писать в обоих журналах: в июньской книге «Современника» уже были помещены две написанные им рецензии[12 - «Критические опыты», ст. XLV.].
Когда Майков умер, в журналах появился целый ряд некрологов и заметок, в которых его кратковременная деятельность была представлена в самом сочувственном свете. Около семейства Майковых уже тогда группировались лучшие деятели печати, люди ума и таланта, для которых Аполлон Майков должен был являться притягательною поэтическою силою. В этом обществе, где преобладающую роль играли писатели с художественным направлением мысли, с широкими эстетическими интересами, Валериан Майков и получил свои первые умственные впечатления. Можно допустить, что молодой критик именно здесь услышал и воспринял некоторые из литературных отзывов, которые потом и перешли в его статьи без надлежащей и самостоятельной аргументации. Так, например, в печати много раз указывалось, как на доказательство тонкого эстетического чутья Майкова, на его отзыв о стихах Тютчева. А между тем, немногочисленные фразы, брошенные Майковым об этом превосходном таланте, вовсе не свидетельствуют о критическом понимании Тютчева. В них нет никакого самостоятельного колорита – образ Тютчева не намечен ни единым штрихом, его поэтические настроения, полные глубокого философского смысла, не обрисованы ни единым словом. Явившись случайным заключением в рецензии о стихах Плещеева, несколько фраз о Тютчеве могли быть простым отголоском каких-нибудь более или менее типических, метких рассуждений, напр., Тургенева, которые, как известно, очень высоко ценил это оригинальное и глубокое дарование. Вращаясь в обществе людей с самым изысканным вкусом, Майков постоянно натыкался на чисто литературные вопросы, при разрешении которых он пускал в ход свои теоретические способности, свою начитанность в ученых книгах новейшего характера. При отзывчивости на различные интересы и некоторой легкости в восприятия самых трудных истин науки, Майков должен был производить выгодное впечатление многообещающего и талантливого юноши. Он быстро двигался в своем умственном развитии, и когда в печати появились его первые статьи, не чуждые реформаторских притязания, снисходительный суд таких крупных художников, как Тургенев, Достоевский, Гончаров, должен был отнестись к ним с крайней благосклонностью. Тургенев, как мы уже рассказывали, свел Валериана Майкова с Краевским, выслушивал его объяснения и оправдания по поводу его полемической характеристики Белинского. Он же, через много лет, вспоминал о Майкове в словах, заключающих в себе, кроме покровительственного одобрения, некоторую двусмысленную критику и Белинского, и Майкова: «Незадолго до смерти, пишет он, Белинский начинал чувствовать, что наступило время сделать новый шага, выйти из тесного круга. Политико-экономические вопросы должны были сменить вопросы эстетические, литературные. Но сам он себя уже устранял и указывал на другое лицо, в котором видел своего преемника – В. Н. Майкова, брата поэта»[13 - Полное событие сочинений Тургенева, изд. 1881 г., т. X, стр. 32-33.]. С полным сочувствием, без всяких ограничений, с добродушием человека, готового хвалить всякий добрый порыв, как некоторую положительную заслугу, выставляет умственные и нравственные качества Майкова Гончаров, в некрологе, напечатанном в «Современнике». Отличительные достоинства статей Майкова, пишет он – «строгая последовательность в развитии идей, логичность и доказательность положений и выводов, потом глубина и верность взгляда, остроумие и начитанность». Обозначив в таких полновесных, можно сказать, великодушных выражениях положительные стороны его таланта, Гончаров кратко и как-бы неохотно отмечает его главные недостатки: излишнюю плодовитость, непривычку распоряжаться богатством своих сил, раздробленность и местами «слишком тонкую и отвлеченную изысканность анализа»[14 - «Критические опыты», стр. VI.]. Раздробленный анализ при строгой последовательности идей и доказательности общих положений – едва-ли в этом сочетании логически противоречивых признаков можно найти твердую опору для упрочения литературной репутации Майкова, Достоевский в статье о Добролюбове, напечатанной в 1861 г., тоже посвятил несколько сочувственных фраз памяти рано умершего критика, хотя в словах его звучит горячая похвала скорее человеческой личности Майкова, чем его литературному таланту. После Белинского, пишет он, занялся отделом критики в «Отечественных Записках» Валериан Майков, брат всем известного и всеми любимого поэта. «Он принялся за дело горячо, блистательно, с светлым убеждением, с первым жаром юности. Но он не успел высказаться»[15 - Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского, изд. 1883 г., т. X, стр. 38.].
Эти известные в литературе отзывы о таланте Майкова не остались без влияния на критиков ближайшей к нам эпохи. Некоторые черты его теоретических воззрений делали его прямым предшественником Чернышевского и Добролюбова, хотя, как мы видели, он и старался оградить искусство от вторжения какой-бы то ни было дидактики. Политико-экономические тенденции, без которых не обходилась ни одна его крупная статья, сближают его с деятелями журналистики 50-х и 60-х годов. Новая теория народности, выраженная с некоторым либеральным задором, показалась наиболее видным деятелям «Современника» целым политическим откровением, дающим решительное орудие в борьбе с славянофильской партией. Одним словом, в статьях Майкова, не отличавшихся ни яркостью, ни глубиною мысли, но имеющих несомненную научную закваску, историки литературы усмотрели важные признаки литературно-критического прогресса по сравнению даже с произведениями такого могучего, признанного, живого таланта, каким был Белинский. Мало-помалу сложилась даже какая-то легенда, господствующая до сих пор в журнальных кругах, привыкших с доверием повторять чужие авторитетные отзывы и приговоры. Был молодой критик Валериан Майков, брат известного, замечательного поэта Апполона Майкова. Он писал недолго, но за самое короткое время своей журнальной деятельности он разработал собственную эстетическую теорию на строго-научных основаниях и широкое космополитическое учение о народности. Если-бы не ранняя, случайная смерть, он заменил-бы в литературе самого Белинского…
В таком именно направлении оценили Майкова два новейших критика. Скабичевский называет его эстетическое учение «первой положительной эстетической теорией, с которой выступила молодая мысль, освободившаяся от метафизических принципов». Некоторые промахи не мешают ей, полагает этот критик, оставаться истинною в такой степени, что «все позднейшие открытия не только не опровергают, а только больше подтверждают и уясняют ее»[16 - Сочинения А. Скабичевского. «Сорок лет русской критики», стр. 465.]. Отзыв этот Скабичевский поддерживает до настоящего времени. Он все еще считает критические рассуждения Майкова «весьма блистательной попыткой пересадить эстетические понятия на вполне реальную почву того положительного мышления», одним из первых приверженцев которого он был[17 - «Северный Вестник», 1891 г., март (в отделе библиографической критики), по поводу издания «Критических опытов».]. Скабичевский горячо отстаивает и его идею народности против критики Белинского, в которой он по этому поводу усматривает даже зародыш «тех реакционных приемов», с какими выступили впоследствии сверстники Белинского против движения 60-х годов[18 - Ibidem, стр. 478, 479.].
Другой критик, К. Арсеньев, ставит Майкова рядом с Белинским, в качестве его продолжателя. Если Майков мог раздвинуть задачи критики, говорит Арсеньев почти словами Тургенева, то он был обязан этим Белинскому. Основные понятия в огромном большинстве случаев были установлены Белинским, и новая критика, в лице Майкова, могла бодро пойти вперед, не останавливаясь «перед предрассудками и невежеством читателей». Изучение критических статей Майкова Арсеньев считает особенно важным именно в настоящее время, как по тому, что он один из первых приблизился к «современному взгляду на искусство», так и потому, что он не отдался «всецело служению одной крайней идее»[19 - К. Арсеньев. «Критические этюды», т. II, стр. 255, 293.]. Вся обширная статья Арсеньева, проникнутая благожелательностью умеренного и корректного либерализма, переполнена такого рода размышлениями, не обличающими в почтенном публицисте ни критической глубины, ни даже достаточного знакомства с литературной деятельностью Белинского. Майков никогда не мог быть ни продолжателем, ни учеником Белинского. По темпераменту, по направлению мыслей, по коренным свойствам литературного таланта, он ни в чем почти не сходился с Белинским – ни в одном из трех периодов деятельности последнего. Белинский, как писательский талант, как характер, как яркая, умственная величина, стоял бесконечно выше этого начинающего критика без каких либо резких проявлений страстной психической жизни. Даже в ошибках Белинского больше жизни, чем в сбивчивых, растянутых и тусклых рассуждениях Майкова, несмотря на всю его научную передовитость и либеральные политические и социологические стремления. Это – со стороны литературной. Но Майкова никоим образом нельзя считать преемником Белинского и по существу его общих философских воззрений. Они разошлись радикальным образом по вопросу о народности. Они не могли быть солидарны и по вопросу о природе искусства. Майков защищал на позитивных основаниях свободу творчества. Белинский, в периоде своих утилитарных увлечений, требовал от искусства гражданственной Дидактики, – в предыдущие-же периоды своей Деятельности, защищая свободу искусства, он, при всей шаткости своих общефилософских понятий, не сходил с метафизической почвы. Можно вообще сказать, что основная ошибка в суждениях о Майкове, общая всем его литературным ценителям, состоит в признании за ним прирожденного чисто критического дарования. Рисуя его кратковременную деятельность, в которой не было ни одного яркого проявления тонкого художественного вкуса и способности к острому эстетическому анализу, – историки русской литературы не видят при этом его настоящей умственной физиономии. Майков не был настоящим литературным критиком. В роли, критика он выступал только случайно, не по призванию, и тем, кто усомнился бы в этом, можно напомнить его собственные слова о себе в письме к Тургеневу: «я никогда не думал быть критиком в смысле оценщика литературных произведений, говорит он. Я чувствовал всегда непреодолимое отвращение к сочинению отрывочных статей. Я всегда мечтал о карьере ученого и до сих пор ни мало не отказался от этой мечты. Но как добиться того, чтобы публика читала ученые сочинения? Я видел и вижу в критике единственное средство заманить ее в сети интереса науки»[20 - «Критические опыты», стр. XL.].
notes
Сноски
1
Карманный словарь. С.-Петербург MDCCCXLV, стр. 10.
2
«Критические опыты», изд. 1891, стр. 574-575.
3
«Критические опыты», стр. 578-579.
4
«Критические опыты», стр. 600.
5
«Критические опыты», стр. 613.
6
П. В. Анненков. Молодость И. С. Тургенева, «Вестник Европы», 1881. № 2, стр. 468.
7