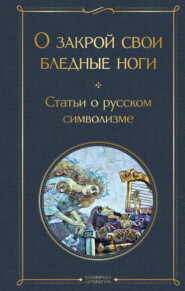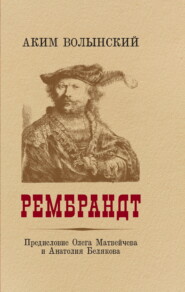По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Репин и Ге
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Аким Львович Волынский
«В ноябре истекшего 1894 года известный художник И. Е. Репин напечатал в приложениях к „Ниве“ небольшую статью под названием „Николай Николаевич Ге и наши претензии к искусству“. Производя критическую оценку произведениям Ге, г. Репин не в первый уже раз выступает с некоторыми теоретическими соображениями об искусстве вообще, об его задачах, об его отношении к прочим сферам человеческой деятельности и творчества…»
Аким Волынский
Репин и Ге
В ноябре истекшего 1894 года известный художник И. Е. Репин напечатал в приложениях к «Ниве» небольшую статью под названием «Николай Николаевич Ге и наши претензии к искусству». Производя критическую оценку произведениям Ге, г. Репин не в первый уже раз выступает с некоторыми теоретическими соображениями об искусстве вообще, об его задачах, об его отношении к прочим сферам человеческой деятельности и творчества. Талантливый художник с яркими красками и сильною, смелою кистью, но с умом холодным, неустойчивым, не склонным к идейному экстазу, не волнуемым страстным и упорным исканием истины, г. Ренин то метко вырисовывает отдельные качества произведений покойного Ге, их поэтическую силу и внезапно врывающуюся в них игру световых и красочных эффектов, то – не без оттенка академической суровости и высокомерной иронии – изобличает логическую несостоятельность разных теоретических увлечений своего умершего собрата. Статейка его, написанная местами с риторическим блеском, с некоторою разгульностью и артистической небрежностью в стиле, производит впечатление какой-то шумной манифестации или нового исповедания веры, с претензиями человека, нашедшего надежное убежище для своей долго блуждавшей, многострадальной мысли. Недавний апологет публицистически-тенденциозного искусства, с его волнующим красноречием гражданственных намеков и сенсационных, хотя и внешним образом обработанных тем, он вдруг отрешился и отрекся от тех богов, которым прежде воздвигал свои алтари и которые покровительствовали его молодой, неокрепшей славе. Теперь он на новом пути. Сражаясь с прежними предрассудками, от которых он уже взял все, что они могли дать лучшего, – широкую популярность в интеллигентной толпе, авторитетное имя среди передовых людей своей страны и своего века, он высказывает в отрывочной форме новые идеи, ловко схваченные им на-лету из современных течений европейской мысли, не овладевших его умом в том, что составляет их настоящую сущность. В стремлении молодых поколений к высшей красоте – гармонии внутренней правды и внешних форм её чувственного выражения – он улавливает только звонкие слова, и с приподнятым вдохновением натуры, не живущей оригинальными настроениями, проповедует новую для него истину: служение чистому искусству, свободному не только от узких публицистических тенденций, но и от аскетических идеалов морали и религии. Освобожденное искусство, в поверхностном изображении академически безмятежного художника, является каким-то великолепным, но заброшенным дворцом, с пустынными, холодными залами, блистающими причудливой мозаикой паркетов, расписными и лепными плафонами и стенами, игрою света среди барельефов, арок и колоннад. Вот к чему пришел по своему новому пути г. Репин. В неглубоком и неустойчивом уме этого художника идея свободного искусства превратилась в мелкую тенденцию нового рода, с мертвою аргументацией общими, бессодержательными фразами, в крикливую риторику бессильных дарований, стремящихся сказать новое слово в искусстве, но не обладающих творческой оригинальностью. Его возгласы о красоте никого не увлекут, потому что идея красоты сведена им к пустой и старой схеме. Его призывы к свободному искусству никого не расшевелят, потому что он призывает к искусству, опустошенному от всякого содержания.
Обозревая жизнь покойного Ге, г. Репин видит все несчастье этого художника в том, что он постоянно увлекался какими-нибудь идеями. В начале своей художественной карьеры он горячо примкнул к публицистическому движению 60-х годов и подчинил свой могучий талант утилитарным взглядам этой эпохи. Впоследствии, разочаровавшись в своих «либеральных и нигилистических воззрениях», разошедшись с людьми, поколебавшими в нем его горячую веру в художественное призвание, он удалился на лоно природы и отдался новым увлечениям и влиянию, исходившему от мощного слова графа Л. Толстого. «Ге быстро откликнулся», пишет Репин, «на сильные убеждения пропагандиста самоусовершенствования, непротивления злу насилием и любви к ближнему, выражающейся непосредственно личным трудом для блага и помощи несчастным, обездоленным разными условиями сложившейся жизни». Новая вера захватила горячую, страстную душу этого отзывчивого человека. Он почувствовал себя бодрым деятелем на поде морального труда и в среде простых людей, с их несложной, но полной внутреннего смысла жизнью, он вдруг развертывает свое увлекательное красноречие. К искусству в это время Ге, по изображению Репина, стад относиться тоже по новому: добрая тема, благое намерение, иллюстрация идей общего блага – вот что может позволить себе художник, не увлекающийся искусством в ущерб общему благу. «Предварительные этюды, разработка композиций, работы с моделей – все это вещи ненужные и даже вредные, как нарушающие цельность настроения, как искушения, увлекающие много силы во внешнюю форму искусства». Ге подчинился сухой доктрине или, вернее сказать, тому гениальному писателю, которого г. Репин – с натянутым самоуничижением – не дерзает, как он говорит, громко назвать, хотя тут же решается, в путанных и банальных выражениях, фарисейски осудить за преданное рабство морали с примериванием, под старость, «вериг покаяния» и за ортодоксальную борьбу с наукой и красотой. «Красота! с каким-то подражательным пафосом восклицает г. Репин. Какое черствое сердце устоит перед её проявлениями! Создатель покрыл нас великолепным голубым покровом. Мириады цветов, бесконечно разнообразных, в немом восторге тянутся к нему, благоухая тонкими ароматами. Недосягаемые скалы и страшные пропасти земли мерцают в лиловых переливах, уносясь в небо. Неисчислимые формы живых существ пользуются бессознательно сладкими ощущениями жизни и любуются красотою своих видов. Но творец не ограничился одними простыми организмами животных ощущений (?) и стихийного творчества (?). Он создал высшую организацию существ, способных видеть и понимать его творения, способных подражать ему и создавать по его идеям вещи, требующие тонких, искусных рук человека. Здесь продолжается его бесконечное творчество посредством искусства». Но подражая Богу, вложившему глубокий смысл и с таким трудом уловимую идею во все свои создания, художник, по странному рассуждению г. Репина, может ограничить свою творческую деятельность изображением одной внешней природы, не мудрствуя лукаво, если творец не одарил его гениальным умом и философским пониманием жизни. Освободившись от всякого утилитаризма, публицистического и морального, художник должен смело отдаться воспроизведению совершенных форм и изучению технических приемов для достижения наибольшего совершенства в выполнении. Глубокие идеи в искусстве, при совершенстве форм и техники, являются уделом исключительно одаренных талантов. Художники меньшего калибра должны служить свободному и чистому искусству без жалкой, бестактной претензии вложить в свои произведения какую-либо глубокую премудрость… В заключение своих рассуждений г. Репин делает несколько странную попытку изгнать из области художественной критики деятелей литературы, которые своими красноречивыми аналогиями пластики с литературою «сбивают с толку не только публику, любителей меценатов, но и самих художников». Об искусстве пишут литераторы, которые «бессовестно» пользуются своим авторитетом в мало знакомой им сфере художественного творчества. Эти «покорители из других областей» вносят настоящую смуту в среду художников, которые, при иных условиях, вероятно, легче и успешнее справлялись бы со своими задачами – при сочувственном внимания публики и благосклонной поддержке меценатов!
Так рассуждает в своей статье г. Репин. В его неточных и не совсем искренних характеристиках художественного таланта покойного Ге. которого он то возводит на высоту Микель-Анджело, то косвенным образом соединяет с незначительными художниками, неспособными служить искусству иначе, как усовершенствованием технических приемов для воспроизведения внешних красот природы, чувствуется неправильное понимание основной силы всякого творческого процесса, без которой искусство превращается в ремесло, хотя бы и самое утонченное, изысканное. Г. Репину кажется, что нет никакой разницы между утилитарными идеями, которые проповедывались журналистикой 60-х годов, которые направляли искусство по узкому пути исключительно внешнего протеста, и тем моральным движением – глубоким, внутренним, стремящимся переделать жизнь, начиная с её основ, – которое, разливаясь в обществе широкими волнами, захватывает все его свежие силы и заставляет пересматривать старые вопросы под новыми углами зрения. Это движение, пробившееся в России в тот момент, когда стало иссякать влияние утилитарной пропаганды и новые прогрессивные потребности возбудили глухие внутренние брожения, захватило и такого отзывчивого и по темпераменту страстного художника, каким был Ге. Со свойственною ему пылкостью он отдался новому умственному течению со всею искренностью своего громадного таланта и своих агитаторских инстинктов. Каковы-бы ни были некоторые несовершенства в художественных произведениях последнего периода его жизни, нельзя не видеть, что в Ге процесс перерождения его сознательных требований и взглядов совершался на серьезных теоретических основаниях, давая благотворные импульсы и глубочайшие религиозные вдохновения для истинно смелого и оригинального творчества. В его картинах на религиозные темы виден яркий ум и свет психологического прозрения, озаряющий глубины человеческой истории и человеческой трагедии. Красота – не внешняя, новая, вдохновенная сияет в этих произведениях, не всегда законченных и отделанных в техническом отношении. Экстаз глубоко протестантской мысли заливает эти громадные холсты с небрежно выписанным фоном и часто уродливыми фигурами, отражающими в своем оригинальном уродстве дух нашего времени и настроение мятежной души художника. «Замысел картин Ге, сказал однажды Толстой, стоя перед его картиною Что есть истина? лежит не в самих действующих лицах, а где-то между ними, в их взаимном отношении». Как истинный проповедник, Ге заботится о настоящем драматическом впечатлении, которое в живописи может быть ярко выражено только сопоставлением различных фигур. Человек с настоящим философским умом, он видит мир, с его борьбою различных сил, с его слепыми инстинктами и волнением высших стремлений, с его раздором социальных и политических страстей, в свете моральных идей. Острое духовное зрение преодолевает обманчивую перспективу чувственных иллюзий, отбрасывая, как ничтожную подробность, все хотя-бы самые громоздкие и эффектные явления жизни, если в них нет внутренней значительности, выдвигая на первый план, вопреки обычным жизненным представлениям, все, что служит символом мировой борьбы и вечной, развивающейся в жизни истины. Мир воспринимается двумя путями – внешними чувствами и разумом, и настоящий художника, должен уметь внести в свои чувственные впечатления все те поправки и переделки, которые, при несовершенстве нашего физического аппарата, являются необходимыми для правильной оценки окружающих предметов и событий. В этом и заключается творческая переработка внешнего жизненного материала в художественном произведении великого таланта. Моральное отношение к миру, т. е. уменье видеть явления в их внутренней перспективе, в их истинном порядке, их серьезности и важности в истории человеческого развития, – таково отношение к миру всех настоящих талантов. Великие произведения искусства не проникнуты никакими тенденциями – никакими эмпирическими целями и задачами, но, освещенные в самой глубине замысла моральным мировоззрением, представляющим жизнь в правильной логической системе, они тем самым воспитывают людей в идеалах вечно новой, вечно прогрессирующей красоты и перестраивают исторические условия без помощи случайных наведений. Понятие красоты, при новых перспективах, изменяется, приобретая иной, внутренний критерий. Красота выступает из своих классически законченных, застывших форм и линий, разбивает условные академические схемы, ища воплощения во всем, что таит в себе внутреннее движение, стремление к развитию и совершенствованию, драматический разлад и борьбу низших и высших начал. Пренебрегая ограниченными и неподвижно гармоническими формами, она проявляет себя в самых неожиданных, непривычных образах, потрясающих наши внешние чувства, сообщающих душе глубокое нравственное смятение…
Говоря о последней картине Ге «Распятие», г. Репин отзывается о ней следующим образом: «после неясных, младенческих представлений полусонного воображения, которое с великим напряжением иногда приходилось угадывать в выцветших, фресках Чимабуе, Жиото, передо мною вдруг открыл страшную трагедию современный художник, без условной замаскировки, с поразительною резкостью и правдой. Особенно сильное впечатление производит голова Христа на кресте. Великое страдание запечатлелось на претерпевшем до конца лице Божественного Страдальца и на всем его слабом теле, носившем в себе такой великий дух. Темный воздух заносится вихрем подымающегося песка. Больше ничего на фоне… К сожалению, разбойник совсем карикатурен»… Разбойник показался г. Репину карикатурным. Между тем эта фигура вызывает при первом взгляде на нее дрожь почти физического ужаса. Голое, отекшее тело, прикрученное глубоко врезывающимися в него веревками к невысокому столбу, высоко и неловко закинутые за поперечную перекладину руки, несколько раздвинутые ноги, с обращенными внутрь носками, выбритая голова с грубыми чертами истерзанного лица, повернутая каким-то неистовым напряжением в сторону умирающего Христа, безумно выкатившиеся глаза и широко разинутый рот, издающий дикий, нечеловеческий рев, – такова эта «карикатурная» фигура разбойника. Внимание болезненно раздваивается между испускающим последнее дыхание Христом и разбойником, почти охваченным смертельной агонией и в эту минуту, при виде кроткой смерти невинно распятого, переживающим глубочайшее нравственное потрясение и перерождение.
В Петербурге много говорили об этой картине Ге и фигура разбойника вызывала почти всеобщее недоумение. её поразительное внешнее безобразие, мучительно ударяющее по нервам, казалось компетентным людям совсем не подходящим для выражения нравственного обновления. Духовное возрождение, говорили зрители, должно было-бы отразиться светлым, примиряющим лучом на лице разбойника. Возвышенные настроения должны быть воплощены в более эстетическом образе… Но полный духовных страстей художник, горящий жизнью почти накануне смерти, с жаром проповедника, неустанно переходя из одного кружка общества в другой, не переставал отстаивать и объяснять свое произведение. Он говорил с истинным вдохновением. Толкуя текст Евангелия с любовью знатока, он с особенною силою защищал идею своего разбойника. На каждое возражение этот подвижной старик с живыми, темными, необычайно прозрачными и блестящими глазами, с быстро пробегающей по лицу умной усмешкой, отвечал с юношескою стремительностью и остротою логических доказательств. Мы помним его последнюю беседу с нами в редакции «Северного Вестника» 26 марта 1894 г. Он пришел оживленный какими-то предыдущими прениями и, только что присевши к столу, стал допрашивать нас о наших впечатлениях от его картины. Одно из присутствующих лиц, уступая наплыву своих эстетических сомнений, стало в обычных выражениях доказывать художнику, что образ разбойника, в его диком виде, совершенно не передает идеи морального возрождения. В этой фигуре, говорилось художнику, нет ничего, что отражало-бы духовное состояние кающегося человека. Снова задетый за живое, слегка взволнованный, Ге отвечал на это тремя необычайно убедительными и красноречивыми рассказами. Вы помните, говорил он, бесподобный, необыкновенно поучительный рассказ Монасана «Порт». Моряк, давно не бывавший на суше, в компании с товарищами проводит вечер в публичном доме, напивается до-пьяна и гуляет с одной из девушек. Поздно вечером, под влиянием пьяных, сентиментальных чувств, он вступает с ней в интимный разговор и вдруг узнает, что она его ротная сестра, давно им не виденная и оставшаяся сиротой после смерти их родителей. Помните эту последнюю сцену? Я никогда не мог ее забыть… На ней я в первый раз понял, что перерождение бывает различно у разных людей, что Бог говорит иногда о себе в ужасных и безобразных явлениях… Моряк, узнав свою сестру в публичной женщине, уже после преступления с нею, сначала рыдает, потом начинает громко ругаться, стучать кулаками по столу, бросается на пол, катается, орет и хрипит так, что товарищи, глядя на него, покатываются со смеху, думая, что это делается с ним от пьянства… Вот в каком виде совершается перерождение грубого моряка – в форме безобразного, дикого исступления. А между тем в эту минуту в нем просыпается Бог…
Еще я помню, продолжал Ге, опыт из личной жизни. Когда умерла моя жена, с которой я прожил до старости и я подошел к ней, взял её руку, почувствовал холод и понял, что это был труп, я тоже стал кричать и орать, – дико и бессмысленно…
Наконец, – еще один случай, от которого у меня остались глубокие впечатления. В деревне, в Малороссии, где; я был, случилось убийство: брат убил брата… Я побежал туда, куда шли все. У входа в избу мне показали окоченевший труп убитого. Убийца был в избе и народ не решался туда входить. Когда пришли понятые, я вошел с ними. Убийца стоял в углу. Почему-то совершенно голый, вытянувшись, он топтался на месте ногами, которые держал как-то странно – пятками врозь. При этом он всхлипывал и монотонно твердил одно и то же слово: «водыци… водыци»… В этом безобразном человеке тоже просыпалась совесть, тоже просыпался Бог. Он мне запомнился. Он мне пригодился для моего разбойника…
Эти рассказы, переданные художником с необычайной экспрессией, произвели на слушателей громадное впечатление. Ге был нрав. Красота, воспринимаемая в мире с творчески переработанною перспективою и в моральном освещении, находит свое выражение в формах, неожиданных, смело разрывающих классическую рутину правильных линий и симметрически расположенных частей. Тут красота сливается с высшей правдой, и красота в этом именно смысле открывает новые пути искусству, переживающему в настоящее время период плодотворных сомнений, колебаний и брожений – среди пестрых попыток, несколько бессильного декадентства, символизма и прерафаэлитизма, с. одной стороны, разрушительного, по титанического искусства Ибсена, с другой стороны и, наконец, не превзойденных по глубине и новизне исканий Толстого. Старая классическая красота умирает для современного человека. Среди мглы и туманов еще неясных дум я бесформенных грез нашего времени зарождается дух иного, грядущего творчества, у которого будет, конечно, свой век яркого расцвета, свои бессмертные герои, свои совершенные, законченные произведения.