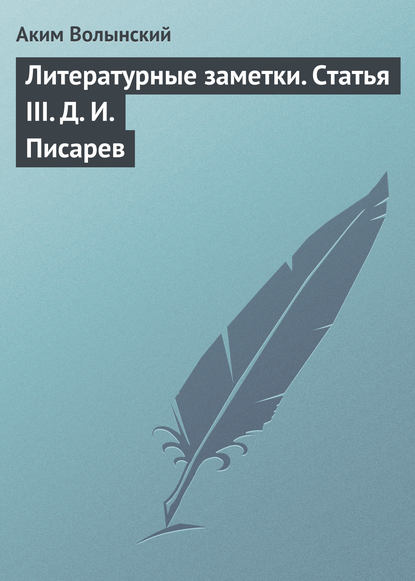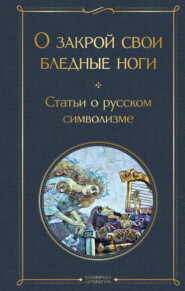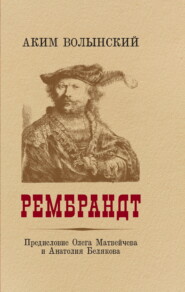По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Литературные заметки. Статья III. Д. И. Писарев
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но Пушкин как-бы предвидел все превратности судьбы «Евгения Онегина», когда дописывал его последние вдохновенные строфы. Его не пугала никакая критика. С простодушием молодого гения, легко и непринужденно творящего самые сложные произведения, он бесстрашно приглашает всех на суд своего только-что оконченного романа. Он сам почти не чувствует значения своего труда, который он называет малым. Он работал с наслаждением, он излил в образах Онегина и Татьяны свою пылкую душу, и теперь он спокойно ждет приговора современников и потомства:
Кто-б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, – я хочу с тобой
Разстаться нынче, как приятель.
Прости. Чего-бы ты за мной
Здесь ни искал в строфах небрежных:
Воспоминаний ли мятежных,
Отдохновенья ль от трудов,
Живых картин, иль острых слов,
Иль грамматических ошибок,
Дай Бог, чтоб в этой книжке ты,
Для развлеченья, для мечты,
Для сердца, для журнальных сшибок
Хотя крупицу мог найти.
За сим – расстанемся, прости.
В этой статье о Пушкине и Белинском Писарев сделал только практическое приложение своих общих идей, изложенных в теоретической форме в разборе знаменитого трактата Чернышевского и развившихся в нем под влиянием этого трактата. Разрушая всякую эстетику, Писарев продолжал дело своего учителя и потому имел полное право бросить критику «Современника», в этот период его существования, упрек в отступничестве от его прежних философских принципов. Эстетический элемент должен быть совершенно изъят из обсуждения художественных произведений, потому что эстетик может рассматривать только то, что не существенно в созданиях искусства, – их форму, внешнее выражение внутренней мысли. Когда между двумя критиками возникает спор по поводу какого-нибудь литературного явления, им для разрешения вопроса приходится заглядывать в естествознание, в историю, в социальную науку, в политику, но об искусстве между ними не будет сказано ни одного слова, если только их интересует существо дела. «Именно потому, что оба критика будут спорить между собою не о форме, а о содержании, именно поэтому они оба окажутся адептами того учения, которое изложено в Эстетических отношениях»[36 - «Русское Слово» 1865 г., май, Разрушение эстетики, стр. 21.]. Чернышевский своею доктриною оградил разумную критику от опасности «забрести в пустыню старинного идеализма». Он уничтожил самый принцип, самый фундамент эстетики вообще, потому что доказал пустоту и призрачность прежних, старых представлений о красоте. Писарев ни в чем не возражает Чернышевскому и, воюя с Антоновичем, только усиливает грубость отрицания, только откровеннее и прямее, чем Чернышевский, не маскируясь ученым человеком, выражает свои основные убеждения в этом вопросе. Статья «Разрушение эстетики», напечатанная между первою и второю статьею о Пушкине и Белинском, служит как-бы соединительным звеном между частным рассуждением об одном из произведений Пушкина – «Евгении Онегине» – и главными тезисами его общих суждений, выраженных по поводу Пушкинской лирики. Эта статья связывает в один солидарный союз Чернышевского, Писарева и Белинского, в последнем периоде его литературной деятельности.
Статья «Пушкин и Белинский» была главным делом Писарева в 1865 г., но к статье этой по тенденции примыкают и такие очерки, как «Мыслящий пролетариат», представляющий в некоторых отношениях талантливую характеристику Помяловского, «Сердитое бессилье» – сокрушительный разбор обличительного романа Клюшникова «Марфво», заключающего в себе, вопреки беспощадному глумлению критика, некоторые интересные черты современной жизни, «Посмотрим», содержание которого мы уже знаем, «Промахи незрелой мысли» (конца 1864 г.) – очерк, написанный в духе общих педагогических взглядов Писарева и, наконец, «Прогулка по садам Российской словесности» – огромное литературное обозрение, задевающее в полемической форме ряд текущих журнальных вопросов. В этой последней статье Писарев дает характеристику Аполлону Григорьеву, этому «чистому и честному фанатику отжившего романтического миросозерцания», щелкает Писемского за его «Взбаломученное море», поносит Аверкиева за дух мракобесия и сикофантства, огрызается против Островского, которому пророчит союз с Кахановскою, Аксаковым и Юркевичем, а «никак не с мыслящими реалистами нашего времени». По дороге он, не вдаваясь в серьезную критику, жестоко отделывает Стебницкого-Лескова, попрекая его даже безграмотностью, за некоторые его объяснения по поводу романа «Некуда». Не проводя никакой черты между Стебницким и «с позволения сказать» Клюшниковым, он предает поруганию автора «Некуда», этого истинно талантливого писателя, за его смелое и во многих отношениях глубоко-правдивое изображение современных нравов. Свою несправедливую филиппику против Лескова Писарев заканчивает следующими двумя вопросами, на которые время., уже дало свои ответы – и не в том смысле, как ожидал их Писарев. «Меня очень интересуют, заявляет Писарев, следующие два вопроса: во-первых, найдется ли теперь в России, кроме Русского Вестника, хоть один журнал, который осмелился-бы напечатать хоть что-нибудь, выходящее из под пера Стебницкого и подписанное его фамилией, и во-вторых, найдется ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько неосторожен и равнодушен к своей репутации, что согласится работать в журнале, украшающем себя повестями и романами Стебницкого»[37 - «Русское Слово» 1865 г., март. Прогулка по садам Российской словесности, стр. 15.]. Весь смысл этой пространной статьи сводится к тому, что не может быть иной философии, кроме реалистической, и что новейшая критика «Русского Слова», связанная историческою преемственностью с идеями Белинского и непосредственно вышедшая из школы Чернышевского, должна быть признана самым прогрессивным явлением времени. Он, Писарев, популяризатор этой философии, борец на поприще литературной критики за трезвое понимание искусства и жизни. Чернышевский – законодатель эпохи. Он, Писарев, – беспристрастный и последовательный судья тех явлений, старых и новых, которые возникали и возникают на русской почве. Никто лучше Писарева не объяснил романа Тургенева в духе реалистических идей и никто с такою отвагою не выражал своих симпатий тому произведению, которое при своем появлении взволновало все русское общество – не своими литературными красотами, а заманчивой картиной утопических нравов, с загадочными намеками на жгучую современность и скрытое в тумане будущее.
IV
Статьи литературно-публицистические, экономические и исторические не исчерпывают деятельности Чернышевского на журнальном поприще. Несмотря на фактическую принадлежность к так называемой партии прогрессивного движения, несмотря на теоретическую вражду против искусства, он сам некоторыми сторонами своего характера представлял собою человека, способного отдаваться мечте, увлекаться беллетристическими задачами и целями. Его простой слог, почти ничем не отличающийся от разговорного, живой и бойкий, проникнутый природным сарказмом, позволял ему воспроизводить в диалогической форме многие черты современного ему общества и смелыми, жгущими словцами будить скрытые симпатии и стремления молодых поколений. Писатель, передавший в печати свои личные впечатления о Чернышевском, отмечает в нем одну особенность, объясняющую многое в характере его деятельности, то впечатление, которой производили его статьи на русское общество. Развивая какую-нибудь сложную мысль, Чернышевский, говорит он, отмечал ход своей аргументации, так сказать, отдельными вехами, снимая при этом те логические мостики, которые облегчают слушателю возможность легко и без труда следовать за ним. Чтобы не отстать от него в разговоре, приходилось делать самые неожиданные скачки. При большой силе и ясности жизненно – созерцательной мысли, он быстро выстраивал свои общие положения, часто не снабжая их никакою диалектикою или заменяя логические доводы яркими бытовыми иллюстрациями. С каким-то добродушным лукавством он порою мистифицировал собеседника, подставляя ему остроумные капканы, через которые он должен был пробраться, чтобы верно его понять. Работа постепенно развертывающейся из глубины мысли его не удовлетворяла, и каждому его оппоненту приходилось считаться с его неожиданными, эксцентричными примерами, в которых основная идея пробивалась с оттенком своеобразного, подчас несколько вульгарного юмора. Иным способом он не умел обнаруживать того, что накипало в его душе, и если собеседник в удачной реплике давал ему чувствовать свое понимание, в его глазах вспыхивало выражение удовольствия, почти наслаждения. Тот же автор приводит по тетради одного из лиц, близко стоявших некоторое время к Чернышевскому, и другие факты, рисующие с необычайною отчетливостью созерцательный по существу характер его ума, с чертами ясности, резкости и простоты. Никогда не затрудняясь в подборе внешних, конкретных положений, Чернышевский обладал огромною силою импровизации, которая изумляла всех окружавших его людей. Принимая участие в занятиях одного кружка, сомкнувшегося благодаря жизненным обстоятельствам, он часто приходил на его заседания с толстой тетрадью, из которой читал свои повести, длинные аллегории, притчи. Чтение это продолжалось иногда два, три вечера и читал Чернышевский неторопливо, спокойно и плавно. Сложное действие с массой приключений, отступлений научного свойства, психологическим и даже физиологическим анализом вставало перед слушателями в оригинальных и ярких эпизодах. Но каково же было удивление кружка, когда один из его членов, заглянув через плечо лектора, увидел, что Чернышевский с самым сосредоточенным видом смотрит в чистую тетрадь и перевертывает неисписанные страницы. Разговаривая с людьми, отстаивая любимую идею, защищаясь против каких-нибудь упреков, нападая на того или другого общественного деятеля, Чернышевский постоянно прибегал к живым уподоблениям, выхватывал отдельные факты из современной волны и тут же обращал их в орудие острой, нетерпимой борьбы с неродственными его духу течениями. Сатирическая нота никогда не переставала звучать в его речах, не уходивших ни в какую глубокую аргументацию. Обладая смелым публицистическим талантом, он, однако, брал верх над своими соперниками не силою чисто логических суждений, а именно этою почти художественною способностью быстро овладевать всеми положениями известного учения и затем искусно распоряжаться ими перед глазами читателя и добиваться самых эффектных впечатлений двумя-тремя удачными штрихами и параллелями.
Эти особенности его характера и толкнули Чернышевского на путь беллетристического творчества, которое до сих пор еще совершенно не оценено в его литературной деятельности. Он не был типичным художником, поэтическая сторона в его известных двух романах страдает огромными недостатками, которые не позволяют поставить их рядом с какими-нибудь выдающимися произведениями русского искусства. Но при всех своих чисто литературных недочетах, несмотря на небрежную форму, испорченную кроме того ненужными отступлениями, длинными комментариями собственных героев и идей, фамильярными разговорами с читателем, романы эти должны быть признаны далеко не заурядными явлениями, стоящими серьезного внимания. В них так или иначе пробивается живая личность автора, с его подкупающею, несколько чудаческою оригинальностью, бросается в глаза его внутренняя, почти органическая связь с героями повествования, его то сдавленная, то широко разливающаяся речь, полная намеков и партизанских эмблем. Несмотря на бедность и бледность художественных красок, на совершенное отсутствие поэтических описаний, многие фигуры этих романов движутся перед глазами, как живые, в напряженной стихии современных идей, выраженных в первый раз и с дерзостною отчетливостью. Своеобразная фантазия, сухая новаторская фантазия – висит над угловатым, грубым изображением современности, смягчая диссонансы, сглаживая явные и раздражающие шероховатости. Романы эти читаются с огромным интересом, потому что на них вырезалась печать беспредельно энергичной и богатой натуры. Индивидуальность автора подыскала себе в первом из этих двух романов прямое выражение, воплотив себя в лице ученого писателя Волгина. Волгин живет среди пестрой толпы новейших общественных деятелей, занятых проектами реформ, не смешиваясь с ними и даже представляя непримиримую оппозицию их наивному жизненному оптимизму. В романе собраны образцы различных оттенков общественного движения: Нивельзин, Савелов, Рязанцев, Соколовский и другие. Между ними складываются разные отношения с запутанными романическими интригами, которые Волгин разбивает при посредстве своей молодой, красивой жены, описанной с трогательною любовью, с явным восхищением автора. Роман и посвящен «той, в которой будут узнавать Волгину». Волгин стоит во главе передового журнала и слава его, по-видимому. растет с каждым днем. Он пишет много, беспрерывно, по текущим вопросам общественной жизни, но сам он не высокого мнения о своих произведениях. «Литературного таланта у меня нет, говорит Волгин одному своему собеседнику, – я пишу плохо, длинно, часто безжизненно. Десятки людей у нас умеют писать гораздо лучше меня. Мое единственное достоинство, но важное, важнее всякого мастерства писать, состоит в том, что я правильнее других понимаю вещи». Видя то впечатление, которое производят его статьи, Волгин с недоумением качает головой.
– Я зол? Я кажусь вам злым потому, что вы видите вокруг себя все только невинных младенцев. Умно то общество, в котором я кажусь резким и едким. Я, цыпленок, зол! Хороши птицы, среди которых цыпленок – ястреб.
В современном русском обществе нет человека с настоящею светлою головою, и Волгину приходится подавать свое мнение по всякому более или менее важному вопросу, чтобы своим протестующим словом вытеснить ту «ахинею», которою сбиваются с толку умы. И хотя его деятельность не выходит за пределы журнальной публицистики, предчувствие подсказывает ему, что над головою его соберутся тучи. Действие романа относится к 1857 году, и мы находим в нем несколько штрихов, рисующих первые отношения Чернышевского к Добролюбову. Волгин встречает молодого студента с длинными, гладкими, светлорусыми волосами, несколько сгорбленного, с бледным лицом и серыми глазами, тускло глядящими сквозь очки в золотой оправе. Они знакомятся при оригинальных обстоятельствах, при чем Волгин дает ему свою визитную карточку.
– Вы Алексей Иванович Волгин? – с некоторою оживленностью сказал студент, взглянув на карточку.
– Да-с, – флегматически ответил Волгин, и вслед затем взвизгнул пронзительным ультра-сопрано, от которого зазвенели стекла в соседних окнах и изумительная рулада перелилась через теноровые раздирающие ухо звуки в контрабасовой ревы – ххи-ххи-ххи-хха-ххахха-ххо-ххо-ххо… А вы, я вижу, мой поклонник? Вот находка! Драгоценность! В целой России только два экземпляра: вы, да я сам… В котором вы курсе?
– Я студент Педагогического Института, а не университета. Кончаю курс.
Волгин прощается с Левицким, который говорит, что придет к нему по окончании курса с какой-нибудь статьей. В первых же разговорах между новыми знакомыми Левицкий обнаруживает ум и талант. Волгин в восторге от его литературных способностей. Левицкий пишет сжато, легко, блистательно. Он все понимает, как следует. Холодность его взгляда, самобытность мысли убеждают Волгина, что он нашел сотоварища по убеждениям и незаменимого помощника по журналу…
Волгин и Волгина живут в самой тесной дружбе, хотя Волгина не всегда понимает своего мужа, гораздо ниже его в умственном отношении, а по привычкам и характеру приближается к типу эстетической и несколько светской женщины. Но автор, сблизив ее с героем самых крайних демократических стремлений, должен был вложить в нее некоторые черты прогрессивности, развившиеся под влиянием мужа. Она пряма, резка, презирает ловеласничанье, не носит дома корсета, легко справляется с чужими романическими увлечениями, приходя на помощь знакомым своими здравыми натуралистическими суждениями. В Волгиной автор уже заключил те задатки, из которых пышно развилась Вера Павловна в романе «Что делать?» Но вот что любопытно при этом заметить: Волгин любит свою жену, несмотря на свой реалистический образ мыслей, с настоящим эстетическим увлечением. В романе имеется одна поистине трогательная сцена, не лишенная по-видимому автобиографического оттенка: когда Волгина пошла в театр, муж прибегает туда на несколько минут из типографии, чтобы, осмотрев в бинокль публику с верхней галереи, в сотый раз убедиться, что красота её привлекает всеобщее внимание. Он сам убеждал ее когда-то не выходить за него замуж и терзается мыслью, что в его простой рабочей обстановке она не пользуется всеми теми удобствами жизни, которые так легко могла-бы получить при иных обстоятельствах. Он повсюду подчеркивает её удивительную свежесть и молодость и как-бы нарочно растягивает эпизод, в котором одно из действующих лиц романа не хочет признать в ней замужнюю женщину. Волгина платит своему мужу разумным уважением, попечением о его здоровье, постоянными заботами о его нуждах и, несмотря на его мешковатость и неуклюжесть, никогда не теряет сознания, что он не простой, обыкновенный работник, а писатель с славным будущим.
Таково первое беллетристическое произведение Чернышевского, к сожалению, не доведенное до конца и по яркости концепции значительно уступающее его роману, напечатанному в «Современнике» 1863 года. Действующие лица, кроме главных героев, встают в тумане, очерченные с некоторою сбивчивостью на тесном пространстве и не сгруппированные надлежащим образом посредством цельной внутренней идеи. Это как-бы только пролог к настоящему роману – с полным раскрытием эмансипаторских стремлений автора, с законченными и идеализированными типами новых людей.
Во втором романе много движения, характеры обрисованы с своеобразною силою и своеобразными приемами – не художественными, но достигающими в результате цельных и продолжительных впечатлений. При всей скудости живописных сцен и материалов, в авторе чувствуется большая способность к беллетристическому вымыслу, уменье разбрасывать многочисленные, пестрые эпизоды и через них вести главную нить рассказа. Все важнейшие сцены этого романа залиты пенящимися волнами едкого юмора, оживляющего повествование и невольно захватывающего и уносящего воображение. Несмотря на огромную трудность задачи и на крайне узкую философскую доктрину, которою автор хотел пропитать свое произведение, его главные герои в общем встают живыми людьми, взятыми из среды молодого поколения, а некоторые утопические картины, передающие широкие мечты автора, по крайней мере в первых частях романа, нарисованы с чувством меры и кажутся почти возможными. Лопухов, Вера Павловна, Кирсанов, в их взаимных отношениях и действиях, сосредоточивают в себе основную мысль Чернышевского и изображены им ради контраста с представителями отживающего поколения. Они отрешились от всякого идеализма, презрели условные житейские шаблоны, устраивают свои дела только согласно с собственными убеждениями, в которых утонченный утилитарный расчет играет роль руководящего критерия. «Я хотел изобразить обыкновенных порядочных людей нового поколения, говорит Чернышевский, людей, которых я встречаю целые сотни. Где я говорил о них не в таком духе? Что я рассказывал о них не такого? Я изображал их с любовью и уважением, потому что каждый порядочный человек стоит любви и уважения. Но где я преклонялся перед ними?» В самом деле, эти люди, по своим стремлениям и твердому желанию освободиться от тирании житейских обычаев, могут быть названы лучшими представителями эпохи, хотя, в качестве творца упрощенной реалистической философии, Чернышевский сделал их чересчур прямолинейными, рассудочными, так сказать, докторальными. Но необходимо отметить, что в этом, по преимуществу, тенденциозном романе, пропагандирующем прозаически-трезвое отношение к жизни, жизнь прорвалась сильными, играющими струями, почти наперекор узкой доктрине автора. Вера Павловна, с её любовью к музыке, опере, цветам и танцам, – с её непосредственным, иногда бурным веселием, с её склонностью к широкому, хотя и невинному разгулу, с её фантастическими, вещими снами, раскрывающими перед ней новые горизонты жизни и, наконец, что всего характернее, с её жаждой любви, страстной любви, для которой недостаточно всей высокой порядочности Лопухова, – такая героиня как-бы невольно раздвигает рамку романа и наполняет его нервною жизненною тканью. И не только эти три действующих лица, которые Чернышевский сам относит к числу обыкновенных людей, но даже и наиболее идеализированная фигура романа, Рахметов, с чертами почти сектантского подвижничества, героическим самоотречением, со склонностью к самоистязанию, которая заставляет его спать на гвоздях, даже этот Рахметов, мыслями которого Писарев наполнил свою статью «Нерешенный вопрос», вышел более сложным и глубоким психологическим типом, чем это было нужно по замыслу автора. Рахметов понимает, что его прозаическое самоограничение вызвано случайными жизненными обстоятельствами, что, при всей его глубокой природной склонности к подвигам, его настоящий душевный облик, с ярким выражением грубой экономии сил и утилитарного рассчета в каждом его движении, сложился под воздействием экстраординарных исторических условий и вытекающих из них задач.
– Рахметов, вы удивляете меня, говорит ему Вера Павловна, вы совсем не такой, как мне казалось. Отчего вы всегда такое мрачное чудовище? А ведь вот теперь вы милый, веселый человек.
– Вера Павловна, я исполняю теперь веселую обязанность, отчего же мне и не быть веселым? Но ведь это случай, это редкость. Вообще видишь невеселые вещи, как же тут не будешь мрачным чудовищем? Только, Вера Павловна, если уж случилось вам видеть меня в таком духе, в каком я был-бы рад быт всегда, и дошло у нас до таких откровенностей, – пусть это будет секрет, что я не по своей охоте мрачное чудовище. Мне легче исполнять мою обязанность, когда не замечают, что мне самому хотелось-бы не только исполнять мою обязанность.
Натура Рахметова, широкая по своим задаткам, могучая по темпераменту, но сдавленная, как веригами, поставленной себе программою, таит в себе некоторые противоречия, подрывающие утилитарную тенденцию автора. Его фактическая приверженность к научному знанию в первоисточниках, при суровой размеренности в употреблении времени, его любовь к изяществу при его нарочито нищенском костюме, его скрытая склонность к кипучей страсти при его аскетическом образе жизни – все эти свойства далеко выступают за те границы, в которых могла-бы уложиться сознательная философия романа. Корни его практической, гуманитарной деятельности развиваются в таинственной духовной глубине, по более широким и сложным законам, чем те арифметические правила эгоистического расчета, к которым сводит всю психическую жизнь философия Чернышевского. Рахметов, этот последний аргумент Писарева, этот его любимый образ до конца мыслящего беспощадного реалиста, по мерке которого написаны наиболее убежденные страницы «Нерешенного вопроса», вплоть до маленькой слабости Рахметова к хорошей сигаре, – Рахметов, только в контуре и несколько бледно намеченный Чернышевским, представляет из себя материал для настоящей художественной разработки – как это ни странно сказать, – в духе Достоевского. Такой натуре, как Рахметов, с его бурлацкой физической силой, развитою сознательным упражнением для высших целей, нужны, как мотивы деятельности, как импульс к подвижническому самоотречению и страстотеричеству, гораздо более высокие убеждения, чем разумный эгоизм в материалистическом учении Чернышевского. И можно думать, что Чернышевский сам инстинктивно понимал это, когда признал в разговоре с «проницательным читателем», что Рахметов не может быть сделан героем в его романе. Если уже Вера Павловна и Кирсанов многими своими чертами, непредусмотренными утилитарианскою программою, как-бы завлекают в произведение Чернышевского более широкую стихию интересов, страстей и стремлений, чем это мог бы одобрить, например, такой педантический, но добросовестный ученик Чернышевского, как Писарев, то каким образом развернулся бы в этой ограниченной сфере богатырь с высоким духовным энтузиазмом и трагическим темпераментом, которому хитро рассчитанное самопожертвование Лопухова кажется пустою, ненужною мелодрамою. Узкое философское учение, которое было сознательным мотивом для написания романа, шумное движение неожиданно возникающих, как бы импровизированных эпизодов, таящих в себе глубокий разумный смысл, живая и минутами нежная психология, в которой чуть слышно пульсирует скрытая эстетическая жилка автора, и, наконец, пестро развернувшаяся экономическая утопия, согретая гуманными стремлениями, – вот что наполняет этот характерный роман, обличающий в Чернышевском своеобразный талант, оживленный кипучим темпераментом, озаренный ясным и трезвым умом. Тут, при широком замысле, нет истинно художественного исполнения задачи, но есть могучее настроение, отражающее потребность живых, ярких и сложных впечатлений, которое не было доступно темпераменту Писарева.
В последних частях романа фантастический элемент развертывается с огромною силою и вдохновением. Весь четвертый сон Веры Павловны, с смутным шумом кипящего в нем водоворота идей, захватывает читателя каким-то сочувственным волнением к этим легким и прозрачным утопическим образам, в которых играют эстетические настроения автора. Гимн любви, где в патетических монологах воздается должное трем богиням – Астарте, Афродите и Непорочности – и мечта о роскошных и легких дворцах из серебристого алюминия заставляют широко расступиться холодную, узкую, головную программу оригинального и талантливого романиста. А эти описания разгульных пикников с перегоняющими друг друга тройками и с загадочной буйной дамой, носящей траур, потому что герой её сердца находится в отсутствии – быть может, тот самый герой, который некогда с бурлацкой силой остановил за ось её экипаж, увлекаемый взбесившимися лошадьми – все это вносит в роман широкую, мятущуюся эстетическую стихию, очевидно против воли автора, но не в противоречии с бьющимися в нем могучими инстинктами русского народа. Теперь понятно, почему вульгарное буффонство молодого Щедрина, с его грубою карикатурою именно на то, что есть в романе поэтического, должно было взорвать людей свежих и впечатлительных к новым настроениям и послужить началом побоища, в котором потерпели нравственное фиаско прозаические и недальновидные преемники Чернышевского по журналу. Чернышевский, как автор утопического романа, уже в 1863 году значительно поднимался над своими публицистически-философскими и критическими писаниями, которые, проповедуя грубый утилитаризм и эгоистический расчет, убивали все широкие и непосредственно идеальные стремления общества.
Спустя много лет этот оригинальный человек сам ощутил в себе разлад. С оттенком скептического юмора оглядывался он на некоторые, прежде им излюбленные, пути прогресса. В этой непоседевшей голове уже не молодого человека, с длинными, кудрявившимися волосами и с печатью болезни на лице, быть может, складывалось что-то новое, теоретически обхватывающее те горизонты, которые он прежде старался закрыть от своего сознания. Иногда он разражался нападками на свое прошлое в резкой форме самообличения. «Я тот баран, который хотел кричать козлом», говорил он о себе с веселым юмором, аллегорически изображая свою жизнь в форме фантастической легенды. Новые деятели реформированных в 1868 году «Отечественных Записок», с наиболее типическими для них философскими притязаниями, не удовлетворяли его. Он совершенно отвергал «биолого-социологические» параллели Михайловского, т.-е. именно то, что несведущая и не самостоятельно мыслящая толпа прокричала на всю Россию лучшим образцом новейшей, прогрессивной философии, не уразумев её обессиливающих внутренних противоречий и теоретической пустоты. Не имея, однако, сил для новых самостоятельных трудов, он углублялся в изучение всеобщей истории, с поразительною энергиею занимаясь переводом на русский язык многотомного труда Вебера.
Писарев выразил свое глубокое сочувствие роману Чернышевского, хотя при этом он не бросил в своей статье о «Новом типе» ни одной самостоятельной, оригинальной мысли. Он рассказывает его содержание, комментирует почти словами Чернышевского поступки Лопухова, Кирсанова и Веры Павловны, передает все главные подробности биографии Рахметова, но нигде и ни в чем он не поднимается на критическую высоту, необходимую для понимания достоинств и недостатков этого произведения. Увлеченный его тенденциею, Писарев находит даже, что Чернышевский глубже и лучше понял новое движение русского общества, чем Тургенев, и изобразил его в романе с удивительным художественным совершенством. Образы Лопухова, Кирсанова и Рахметова кажутся ему возвышеннее по замыслу, чем Базаров, которому Тургенев не мог сочувствовать так, как сочувствовал своим героям Чернышевский. Писарев не указывает ни на какие погрешности и недочеты Чернышевского в художественном отношении, и вся его пространная рецензия представляет собою довольно бледную популяризацию того, что, как мы видели, выражено в романе с настоящим огнем в целом ряде фантастических картин, залитых своеобразным вдохновением[38 - «Русское Слово», 1865, октябрь, Новый тип, стр. 1-54.].
Если не считать обширного, хотя и довольно бессодержательного разбора повести Слепцова «Трудное время», в статье под названием «Подрастающая гуманность», двух небольших рецензий о стихотворениях Гейне и краткого отзыва с полемическим ответом о «Сатирической небывальщине» Гермогена Трехзвездочкина, то мы пересмотрели все, напечатанное Писаревым вплоть до 1866 г. В это время деятельность Писарева уже близилась к концу. В 1866 г. было закрыто «Русское Слово». Его новые работы, напечатанные в «Деле» и «Отечественных Записках», не теряя общего характера талантливости и публицистической бойкости, становились все более и более однообразными по темам и аргументации. Все та же проповедь женской эмансипации, борьба с разными «усыпителями» русской общественной мысли, все та же пропаганда реализма и разумного эгоизма под знаменем Чернышевского. Мысли Писарева не прогрессируют, критическое дарование, не освежаемое какими-либо глубокими идеями и впечатлениями, не делает никаких успехов в понимании и оценке литературных явлений. Можно подумать, что при новых обстоятельствах – при необходимости писать в чуждом ему органе, под руководством людей, которым он не во всем симпатизировал, Писарев почувствовал как бы некоторую неуверенность. Но не имея привычки сидеть сложа руки, он бросается к иностранным сочинениям, подробно разбирает романы Андре Лео, занимается Эркманом-Шатрианом, пересказывает в статье «Мистическая любовь» интересное исследование английского писателя Уильяма Диксона «Духовные жены», пишет длинные журнальные заметки, не поражающие никакими новыми или даже свежими мыслями и настроениями. Он как бы в замешательстве нащупывает какие то новые пути для своего блестящего природного таланта. Долгая уединенная работа, с огромным партизанским увлечением, должна была наложить на него глубокую печать, а резкая перемена всех внешних обстоятельств не могла не отразиться на нем тягостным внутренним расстройством, превозмочь которое можно было только рядом значительных умственных усилий. Но все, напечатанное Писаревым за короткое время, которое ему суждено было прожить после выхода из крепости, не представляет признаков нового умственного движения. Даже такие статьи его, как очерк «Погибшие и погибающие», напечатанный в учено-литературном сборнике «Луч» и проводящий собою параллель между «Очерками бурсы» Помяловского и «Записками из мертвого дома» Достоевского, этюд «Образованная толпа», заключающий в себе анализ сочинений Ф. М. Толстого, и даже разбор первых трех томов «Войны и мира» под названием «Старое барство» не представляют собою, несмотря на общую талантливость, ничего характерного и оригинального по сравнению с прежними статьями Писарева. Единственным исключением является его большая статья о «Преступлении и наказании», начатая печатанием в «Деле» 1867 года и законченная только после смерти автора, в августе 1868 года. В этой статье, написанной с явным подъемом всех литературных сил Писарева, ярким и метким языком, с признаками непосредственного душевного волнения, попадаются мысли, как-бы не идущие в струе его прежних понятий и не совпадающие с новым движением общественных элементов. С необычайною энергиею Писарев вооружается против всякого грубого насилия даже во имя идеи. «Необыкновенные люди, которыми может и должно гордиться человечество, не являются любителями и виновниками кровопролития», говорит он. Кровь льется не для того, чтобы содействовать успехам человечества, и настоящие победы на пути прогресса одерживаются не вследствие кровопролитий, а, так сказать, вопреки кровопролитию. Те, которые препятствуют движению общества, держатся на своих местах благодаря толпе и, устраняя их насильственными средствами, мы не преодолеваем настоящей причины их силы. «Из любви к истине необыкновенные люди становились иногда мучениками, но никакая любовь к идее никогда не могла превратить их в мучителей – по той простой причине, что мучения никого не убеждают и следовательно никогда не приносят ни малейшей пользы той идее, во имя которой они производятся»[39 - Сочинения Д. И. Писарева, изд. 1868 г., ч. IX, Борьба за жизнь, стр. 240.].
Весьма возможно, что эти мысли и фразы были выражением каких-нибудь новых, назревавших в Писареве понятий. Но судить об этом с уверенностью трудно: эти мягкие, гуманные слова прозвучали тогда, когда занавес уже упал, скрыв от публики любимого ею героя короткой, но болезненной драмы.
notes
Сноски
1
Полное собрание сочинений И. В. Киреевского, том I, Девятнадцатый век, стр. 83.
2
Полное собрание сочинений. Том I. В ответ А. С. Хомякову, стр. 198.
3
Полное собрание сочинений. Том II. О характере просвещения Европы, стр. 276.
4
Современник 1862, январь, Русская Литература, стр. 15-32.
5
«Дневник» А. И. Герцена, стр. 156.
6
Не наши, славянофилы и панславизм, Хомяков, Киреевский, К. Аксаков, П. Я. Чаадаев, стр. 301.
7
Полное собрание сочинений, том I, стр. 13. Материалы для биографии Кирееевкого.
8
«Русское Слово» 1862 г., май, Русская литература, стр. 61.
9
«Русское Слово» 1862 г., май, Русская литература стр. 63.
Кто-б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, – я хочу с тобой
Разстаться нынче, как приятель.
Прости. Чего-бы ты за мной
Здесь ни искал в строфах небрежных:
Воспоминаний ли мятежных,
Отдохновенья ль от трудов,
Живых картин, иль острых слов,
Иль грамматических ошибок,
Дай Бог, чтоб в этой книжке ты,
Для развлеченья, для мечты,
Для сердца, для журнальных сшибок
Хотя крупицу мог найти.
За сим – расстанемся, прости.
В этой статье о Пушкине и Белинском Писарев сделал только практическое приложение своих общих идей, изложенных в теоретической форме в разборе знаменитого трактата Чернышевского и развившихся в нем под влиянием этого трактата. Разрушая всякую эстетику, Писарев продолжал дело своего учителя и потому имел полное право бросить критику «Современника», в этот период его существования, упрек в отступничестве от его прежних философских принципов. Эстетический элемент должен быть совершенно изъят из обсуждения художественных произведений, потому что эстетик может рассматривать только то, что не существенно в созданиях искусства, – их форму, внешнее выражение внутренней мысли. Когда между двумя критиками возникает спор по поводу какого-нибудь литературного явления, им для разрешения вопроса приходится заглядывать в естествознание, в историю, в социальную науку, в политику, но об искусстве между ними не будет сказано ни одного слова, если только их интересует существо дела. «Именно потому, что оба критика будут спорить между собою не о форме, а о содержании, именно поэтому они оба окажутся адептами того учения, которое изложено в Эстетических отношениях»[36 - «Русское Слово» 1865 г., май, Разрушение эстетики, стр. 21.]. Чернышевский своею доктриною оградил разумную критику от опасности «забрести в пустыню старинного идеализма». Он уничтожил самый принцип, самый фундамент эстетики вообще, потому что доказал пустоту и призрачность прежних, старых представлений о красоте. Писарев ни в чем не возражает Чернышевскому и, воюя с Антоновичем, только усиливает грубость отрицания, только откровеннее и прямее, чем Чернышевский, не маскируясь ученым человеком, выражает свои основные убеждения в этом вопросе. Статья «Разрушение эстетики», напечатанная между первою и второю статьею о Пушкине и Белинском, служит как-бы соединительным звеном между частным рассуждением об одном из произведений Пушкина – «Евгении Онегине» – и главными тезисами его общих суждений, выраженных по поводу Пушкинской лирики. Эта статья связывает в один солидарный союз Чернышевского, Писарева и Белинского, в последнем периоде его литературной деятельности.
Статья «Пушкин и Белинский» была главным делом Писарева в 1865 г., но к статье этой по тенденции примыкают и такие очерки, как «Мыслящий пролетариат», представляющий в некоторых отношениях талантливую характеристику Помяловского, «Сердитое бессилье» – сокрушительный разбор обличительного романа Клюшникова «Марфво», заключающего в себе, вопреки беспощадному глумлению критика, некоторые интересные черты современной жизни, «Посмотрим», содержание которого мы уже знаем, «Промахи незрелой мысли» (конца 1864 г.) – очерк, написанный в духе общих педагогических взглядов Писарева и, наконец, «Прогулка по садам Российской словесности» – огромное литературное обозрение, задевающее в полемической форме ряд текущих журнальных вопросов. В этой последней статье Писарев дает характеристику Аполлону Григорьеву, этому «чистому и честному фанатику отжившего романтического миросозерцания», щелкает Писемского за его «Взбаломученное море», поносит Аверкиева за дух мракобесия и сикофантства, огрызается против Островского, которому пророчит союз с Кахановскою, Аксаковым и Юркевичем, а «никак не с мыслящими реалистами нашего времени». По дороге он, не вдаваясь в серьезную критику, жестоко отделывает Стебницкого-Лескова, попрекая его даже безграмотностью, за некоторые его объяснения по поводу романа «Некуда». Не проводя никакой черты между Стебницким и «с позволения сказать» Клюшниковым, он предает поруганию автора «Некуда», этого истинно талантливого писателя, за его смелое и во многих отношениях глубоко-правдивое изображение современных нравов. Свою несправедливую филиппику против Лескова Писарев заканчивает следующими двумя вопросами, на которые время., уже дало свои ответы – и не в том смысле, как ожидал их Писарев. «Меня очень интересуют, заявляет Писарев, следующие два вопроса: во-первых, найдется ли теперь в России, кроме Русского Вестника, хоть один журнал, который осмелился-бы напечатать хоть что-нибудь, выходящее из под пера Стебницкого и подписанное его фамилией, и во-вторых, найдется ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько неосторожен и равнодушен к своей репутации, что согласится работать в журнале, украшающем себя повестями и романами Стебницкого»[37 - «Русское Слово» 1865 г., март. Прогулка по садам Российской словесности, стр. 15.]. Весь смысл этой пространной статьи сводится к тому, что не может быть иной философии, кроме реалистической, и что новейшая критика «Русского Слова», связанная историческою преемственностью с идеями Белинского и непосредственно вышедшая из школы Чернышевского, должна быть признана самым прогрессивным явлением времени. Он, Писарев, популяризатор этой философии, борец на поприще литературной критики за трезвое понимание искусства и жизни. Чернышевский – законодатель эпохи. Он, Писарев, – беспристрастный и последовательный судья тех явлений, старых и новых, которые возникали и возникают на русской почве. Никто лучше Писарева не объяснил романа Тургенева в духе реалистических идей и никто с такою отвагою не выражал своих симпатий тому произведению, которое при своем появлении взволновало все русское общество – не своими литературными красотами, а заманчивой картиной утопических нравов, с загадочными намеками на жгучую современность и скрытое в тумане будущее.
IV
Статьи литературно-публицистические, экономические и исторические не исчерпывают деятельности Чернышевского на журнальном поприще. Несмотря на фактическую принадлежность к так называемой партии прогрессивного движения, несмотря на теоретическую вражду против искусства, он сам некоторыми сторонами своего характера представлял собою человека, способного отдаваться мечте, увлекаться беллетристическими задачами и целями. Его простой слог, почти ничем не отличающийся от разговорного, живой и бойкий, проникнутый природным сарказмом, позволял ему воспроизводить в диалогической форме многие черты современного ему общества и смелыми, жгущими словцами будить скрытые симпатии и стремления молодых поколений. Писатель, передавший в печати свои личные впечатления о Чернышевском, отмечает в нем одну особенность, объясняющую многое в характере его деятельности, то впечатление, которой производили его статьи на русское общество. Развивая какую-нибудь сложную мысль, Чернышевский, говорит он, отмечал ход своей аргументации, так сказать, отдельными вехами, снимая при этом те логические мостики, которые облегчают слушателю возможность легко и без труда следовать за ним. Чтобы не отстать от него в разговоре, приходилось делать самые неожиданные скачки. При большой силе и ясности жизненно – созерцательной мысли, он быстро выстраивал свои общие положения, часто не снабжая их никакою диалектикою или заменяя логические доводы яркими бытовыми иллюстрациями. С каким-то добродушным лукавством он порою мистифицировал собеседника, подставляя ему остроумные капканы, через которые он должен был пробраться, чтобы верно его понять. Работа постепенно развертывающейся из глубины мысли его не удовлетворяла, и каждому его оппоненту приходилось считаться с его неожиданными, эксцентричными примерами, в которых основная идея пробивалась с оттенком своеобразного, подчас несколько вульгарного юмора. Иным способом он не умел обнаруживать того, что накипало в его душе, и если собеседник в удачной реплике давал ему чувствовать свое понимание, в его глазах вспыхивало выражение удовольствия, почти наслаждения. Тот же автор приводит по тетради одного из лиц, близко стоявших некоторое время к Чернышевскому, и другие факты, рисующие с необычайною отчетливостью созерцательный по существу характер его ума, с чертами ясности, резкости и простоты. Никогда не затрудняясь в подборе внешних, конкретных положений, Чернышевский обладал огромною силою импровизации, которая изумляла всех окружавших его людей. Принимая участие в занятиях одного кружка, сомкнувшегося благодаря жизненным обстоятельствам, он часто приходил на его заседания с толстой тетрадью, из которой читал свои повести, длинные аллегории, притчи. Чтение это продолжалось иногда два, три вечера и читал Чернышевский неторопливо, спокойно и плавно. Сложное действие с массой приключений, отступлений научного свойства, психологическим и даже физиологическим анализом вставало перед слушателями в оригинальных и ярких эпизодах. Но каково же было удивление кружка, когда один из его членов, заглянув через плечо лектора, увидел, что Чернышевский с самым сосредоточенным видом смотрит в чистую тетрадь и перевертывает неисписанные страницы. Разговаривая с людьми, отстаивая любимую идею, защищаясь против каких-нибудь упреков, нападая на того или другого общественного деятеля, Чернышевский постоянно прибегал к живым уподоблениям, выхватывал отдельные факты из современной волны и тут же обращал их в орудие острой, нетерпимой борьбы с неродственными его духу течениями. Сатирическая нота никогда не переставала звучать в его речах, не уходивших ни в какую глубокую аргументацию. Обладая смелым публицистическим талантом, он, однако, брал верх над своими соперниками не силою чисто логических суждений, а именно этою почти художественною способностью быстро овладевать всеми положениями известного учения и затем искусно распоряжаться ими перед глазами читателя и добиваться самых эффектных впечатлений двумя-тремя удачными штрихами и параллелями.
Эти особенности его характера и толкнули Чернышевского на путь беллетристического творчества, которое до сих пор еще совершенно не оценено в его литературной деятельности. Он не был типичным художником, поэтическая сторона в его известных двух романах страдает огромными недостатками, которые не позволяют поставить их рядом с какими-нибудь выдающимися произведениями русского искусства. Но при всех своих чисто литературных недочетах, несмотря на небрежную форму, испорченную кроме того ненужными отступлениями, длинными комментариями собственных героев и идей, фамильярными разговорами с читателем, романы эти должны быть признаны далеко не заурядными явлениями, стоящими серьезного внимания. В них так или иначе пробивается живая личность автора, с его подкупающею, несколько чудаческою оригинальностью, бросается в глаза его внутренняя, почти органическая связь с героями повествования, его то сдавленная, то широко разливающаяся речь, полная намеков и партизанских эмблем. Несмотря на бедность и бледность художественных красок, на совершенное отсутствие поэтических описаний, многие фигуры этих романов движутся перед глазами, как живые, в напряженной стихии современных идей, выраженных в первый раз и с дерзостною отчетливостью. Своеобразная фантазия, сухая новаторская фантазия – висит над угловатым, грубым изображением современности, смягчая диссонансы, сглаживая явные и раздражающие шероховатости. Романы эти читаются с огромным интересом, потому что на них вырезалась печать беспредельно энергичной и богатой натуры. Индивидуальность автора подыскала себе в первом из этих двух романов прямое выражение, воплотив себя в лице ученого писателя Волгина. Волгин живет среди пестрой толпы новейших общественных деятелей, занятых проектами реформ, не смешиваясь с ними и даже представляя непримиримую оппозицию их наивному жизненному оптимизму. В романе собраны образцы различных оттенков общественного движения: Нивельзин, Савелов, Рязанцев, Соколовский и другие. Между ними складываются разные отношения с запутанными романическими интригами, которые Волгин разбивает при посредстве своей молодой, красивой жены, описанной с трогательною любовью, с явным восхищением автора. Роман и посвящен «той, в которой будут узнавать Волгину». Волгин стоит во главе передового журнала и слава его, по-видимому. растет с каждым днем. Он пишет много, беспрерывно, по текущим вопросам общественной жизни, но сам он не высокого мнения о своих произведениях. «Литературного таланта у меня нет, говорит Волгин одному своему собеседнику, – я пишу плохо, длинно, часто безжизненно. Десятки людей у нас умеют писать гораздо лучше меня. Мое единственное достоинство, но важное, важнее всякого мастерства писать, состоит в том, что я правильнее других понимаю вещи». Видя то впечатление, которое производят его статьи, Волгин с недоумением качает головой.
– Я зол? Я кажусь вам злым потому, что вы видите вокруг себя все только невинных младенцев. Умно то общество, в котором я кажусь резким и едким. Я, цыпленок, зол! Хороши птицы, среди которых цыпленок – ястреб.
В современном русском обществе нет человека с настоящею светлою головою, и Волгину приходится подавать свое мнение по всякому более или менее важному вопросу, чтобы своим протестующим словом вытеснить ту «ахинею», которою сбиваются с толку умы. И хотя его деятельность не выходит за пределы журнальной публицистики, предчувствие подсказывает ему, что над головою его соберутся тучи. Действие романа относится к 1857 году, и мы находим в нем несколько штрихов, рисующих первые отношения Чернышевского к Добролюбову. Волгин встречает молодого студента с длинными, гладкими, светлорусыми волосами, несколько сгорбленного, с бледным лицом и серыми глазами, тускло глядящими сквозь очки в золотой оправе. Они знакомятся при оригинальных обстоятельствах, при чем Волгин дает ему свою визитную карточку.
– Вы Алексей Иванович Волгин? – с некоторою оживленностью сказал студент, взглянув на карточку.
– Да-с, – флегматически ответил Волгин, и вслед затем взвизгнул пронзительным ультра-сопрано, от которого зазвенели стекла в соседних окнах и изумительная рулада перелилась через теноровые раздирающие ухо звуки в контрабасовой ревы – ххи-ххи-ххи-хха-ххахха-ххо-ххо-ххо… А вы, я вижу, мой поклонник? Вот находка! Драгоценность! В целой России только два экземпляра: вы, да я сам… В котором вы курсе?
– Я студент Педагогического Института, а не университета. Кончаю курс.
Волгин прощается с Левицким, который говорит, что придет к нему по окончании курса с какой-нибудь статьей. В первых же разговорах между новыми знакомыми Левицкий обнаруживает ум и талант. Волгин в восторге от его литературных способностей. Левицкий пишет сжато, легко, блистательно. Он все понимает, как следует. Холодность его взгляда, самобытность мысли убеждают Волгина, что он нашел сотоварища по убеждениям и незаменимого помощника по журналу…
Волгин и Волгина живут в самой тесной дружбе, хотя Волгина не всегда понимает своего мужа, гораздо ниже его в умственном отношении, а по привычкам и характеру приближается к типу эстетической и несколько светской женщины. Но автор, сблизив ее с героем самых крайних демократических стремлений, должен был вложить в нее некоторые черты прогрессивности, развившиеся под влиянием мужа. Она пряма, резка, презирает ловеласничанье, не носит дома корсета, легко справляется с чужими романическими увлечениями, приходя на помощь знакомым своими здравыми натуралистическими суждениями. В Волгиной автор уже заключил те задатки, из которых пышно развилась Вера Павловна в романе «Что делать?» Но вот что любопытно при этом заметить: Волгин любит свою жену, несмотря на свой реалистический образ мыслей, с настоящим эстетическим увлечением. В романе имеется одна поистине трогательная сцена, не лишенная по-видимому автобиографического оттенка: когда Волгина пошла в театр, муж прибегает туда на несколько минут из типографии, чтобы, осмотрев в бинокль публику с верхней галереи, в сотый раз убедиться, что красота её привлекает всеобщее внимание. Он сам убеждал ее когда-то не выходить за него замуж и терзается мыслью, что в его простой рабочей обстановке она не пользуется всеми теми удобствами жизни, которые так легко могла-бы получить при иных обстоятельствах. Он повсюду подчеркивает её удивительную свежесть и молодость и как-бы нарочно растягивает эпизод, в котором одно из действующих лиц романа не хочет признать в ней замужнюю женщину. Волгина платит своему мужу разумным уважением, попечением о его здоровье, постоянными заботами о его нуждах и, несмотря на его мешковатость и неуклюжесть, никогда не теряет сознания, что он не простой, обыкновенный работник, а писатель с славным будущим.
Таково первое беллетристическое произведение Чернышевского, к сожалению, не доведенное до конца и по яркости концепции значительно уступающее его роману, напечатанному в «Современнике» 1863 года. Действующие лица, кроме главных героев, встают в тумане, очерченные с некоторою сбивчивостью на тесном пространстве и не сгруппированные надлежащим образом посредством цельной внутренней идеи. Это как-бы только пролог к настоящему роману – с полным раскрытием эмансипаторских стремлений автора, с законченными и идеализированными типами новых людей.
Во втором романе много движения, характеры обрисованы с своеобразною силою и своеобразными приемами – не художественными, но достигающими в результате цельных и продолжительных впечатлений. При всей скудости живописных сцен и материалов, в авторе чувствуется большая способность к беллетристическому вымыслу, уменье разбрасывать многочисленные, пестрые эпизоды и через них вести главную нить рассказа. Все важнейшие сцены этого романа залиты пенящимися волнами едкого юмора, оживляющего повествование и невольно захватывающего и уносящего воображение. Несмотря на огромную трудность задачи и на крайне узкую философскую доктрину, которою автор хотел пропитать свое произведение, его главные герои в общем встают живыми людьми, взятыми из среды молодого поколения, а некоторые утопические картины, передающие широкие мечты автора, по крайней мере в первых частях романа, нарисованы с чувством меры и кажутся почти возможными. Лопухов, Вера Павловна, Кирсанов, в их взаимных отношениях и действиях, сосредоточивают в себе основную мысль Чернышевского и изображены им ради контраста с представителями отживающего поколения. Они отрешились от всякого идеализма, презрели условные житейские шаблоны, устраивают свои дела только согласно с собственными убеждениями, в которых утонченный утилитарный расчет играет роль руководящего критерия. «Я хотел изобразить обыкновенных порядочных людей нового поколения, говорит Чернышевский, людей, которых я встречаю целые сотни. Где я говорил о них не в таком духе? Что я рассказывал о них не такого? Я изображал их с любовью и уважением, потому что каждый порядочный человек стоит любви и уважения. Но где я преклонялся перед ними?» В самом деле, эти люди, по своим стремлениям и твердому желанию освободиться от тирании житейских обычаев, могут быть названы лучшими представителями эпохи, хотя, в качестве творца упрощенной реалистической философии, Чернышевский сделал их чересчур прямолинейными, рассудочными, так сказать, докторальными. Но необходимо отметить, что в этом, по преимуществу, тенденциозном романе, пропагандирующем прозаически-трезвое отношение к жизни, жизнь прорвалась сильными, играющими струями, почти наперекор узкой доктрине автора. Вера Павловна, с её любовью к музыке, опере, цветам и танцам, – с её непосредственным, иногда бурным веселием, с её склонностью к широкому, хотя и невинному разгулу, с её фантастическими, вещими снами, раскрывающими перед ней новые горизонты жизни и, наконец, что всего характернее, с её жаждой любви, страстной любви, для которой недостаточно всей высокой порядочности Лопухова, – такая героиня как-бы невольно раздвигает рамку романа и наполняет его нервною жизненною тканью. И не только эти три действующих лица, которые Чернышевский сам относит к числу обыкновенных людей, но даже и наиболее идеализированная фигура романа, Рахметов, с чертами почти сектантского подвижничества, героическим самоотречением, со склонностью к самоистязанию, которая заставляет его спать на гвоздях, даже этот Рахметов, мыслями которого Писарев наполнил свою статью «Нерешенный вопрос», вышел более сложным и глубоким психологическим типом, чем это было нужно по замыслу автора. Рахметов понимает, что его прозаическое самоограничение вызвано случайными жизненными обстоятельствами, что, при всей его глубокой природной склонности к подвигам, его настоящий душевный облик, с ярким выражением грубой экономии сил и утилитарного рассчета в каждом его движении, сложился под воздействием экстраординарных исторических условий и вытекающих из них задач.
– Рахметов, вы удивляете меня, говорит ему Вера Павловна, вы совсем не такой, как мне казалось. Отчего вы всегда такое мрачное чудовище? А ведь вот теперь вы милый, веселый человек.
– Вера Павловна, я исполняю теперь веселую обязанность, отчего же мне и не быть веселым? Но ведь это случай, это редкость. Вообще видишь невеселые вещи, как же тут не будешь мрачным чудовищем? Только, Вера Павловна, если уж случилось вам видеть меня в таком духе, в каком я был-бы рад быт всегда, и дошло у нас до таких откровенностей, – пусть это будет секрет, что я не по своей охоте мрачное чудовище. Мне легче исполнять мою обязанность, когда не замечают, что мне самому хотелось-бы не только исполнять мою обязанность.
Натура Рахметова, широкая по своим задаткам, могучая по темпераменту, но сдавленная, как веригами, поставленной себе программою, таит в себе некоторые противоречия, подрывающие утилитарную тенденцию автора. Его фактическая приверженность к научному знанию в первоисточниках, при суровой размеренности в употреблении времени, его любовь к изяществу при его нарочито нищенском костюме, его скрытая склонность к кипучей страсти при его аскетическом образе жизни – все эти свойства далеко выступают за те границы, в которых могла-бы уложиться сознательная философия романа. Корни его практической, гуманитарной деятельности развиваются в таинственной духовной глубине, по более широким и сложным законам, чем те арифметические правила эгоистического расчета, к которым сводит всю психическую жизнь философия Чернышевского. Рахметов, этот последний аргумент Писарева, этот его любимый образ до конца мыслящего беспощадного реалиста, по мерке которого написаны наиболее убежденные страницы «Нерешенного вопроса», вплоть до маленькой слабости Рахметова к хорошей сигаре, – Рахметов, только в контуре и несколько бледно намеченный Чернышевским, представляет из себя материал для настоящей художественной разработки – как это ни странно сказать, – в духе Достоевского. Такой натуре, как Рахметов, с его бурлацкой физической силой, развитою сознательным упражнением для высших целей, нужны, как мотивы деятельности, как импульс к подвижническому самоотречению и страстотеричеству, гораздо более высокие убеждения, чем разумный эгоизм в материалистическом учении Чернышевского. И можно думать, что Чернышевский сам инстинктивно понимал это, когда признал в разговоре с «проницательным читателем», что Рахметов не может быть сделан героем в его романе. Если уже Вера Павловна и Кирсанов многими своими чертами, непредусмотренными утилитарианскою программою, как-бы завлекают в произведение Чернышевского более широкую стихию интересов, страстей и стремлений, чем это мог бы одобрить, например, такой педантический, но добросовестный ученик Чернышевского, как Писарев, то каким образом развернулся бы в этой ограниченной сфере богатырь с высоким духовным энтузиазмом и трагическим темпераментом, которому хитро рассчитанное самопожертвование Лопухова кажется пустою, ненужною мелодрамою. Узкое философское учение, которое было сознательным мотивом для написания романа, шумное движение неожиданно возникающих, как бы импровизированных эпизодов, таящих в себе глубокий разумный смысл, живая и минутами нежная психология, в которой чуть слышно пульсирует скрытая эстетическая жилка автора, и, наконец, пестро развернувшаяся экономическая утопия, согретая гуманными стремлениями, – вот что наполняет этот характерный роман, обличающий в Чернышевском своеобразный талант, оживленный кипучим темпераментом, озаренный ясным и трезвым умом. Тут, при широком замысле, нет истинно художественного исполнения задачи, но есть могучее настроение, отражающее потребность живых, ярких и сложных впечатлений, которое не было доступно темпераменту Писарева.
В последних частях романа фантастический элемент развертывается с огромною силою и вдохновением. Весь четвертый сон Веры Павловны, с смутным шумом кипящего в нем водоворота идей, захватывает читателя каким-то сочувственным волнением к этим легким и прозрачным утопическим образам, в которых играют эстетические настроения автора. Гимн любви, где в патетических монологах воздается должное трем богиням – Астарте, Афродите и Непорочности – и мечта о роскошных и легких дворцах из серебристого алюминия заставляют широко расступиться холодную, узкую, головную программу оригинального и талантливого романиста. А эти описания разгульных пикников с перегоняющими друг друга тройками и с загадочной буйной дамой, носящей траур, потому что герой её сердца находится в отсутствии – быть может, тот самый герой, который некогда с бурлацкой силой остановил за ось её экипаж, увлекаемый взбесившимися лошадьми – все это вносит в роман широкую, мятущуюся эстетическую стихию, очевидно против воли автора, но не в противоречии с бьющимися в нем могучими инстинктами русского народа. Теперь понятно, почему вульгарное буффонство молодого Щедрина, с его грубою карикатурою именно на то, что есть в романе поэтического, должно было взорвать людей свежих и впечатлительных к новым настроениям и послужить началом побоища, в котором потерпели нравственное фиаско прозаические и недальновидные преемники Чернышевского по журналу. Чернышевский, как автор утопического романа, уже в 1863 году значительно поднимался над своими публицистически-философскими и критическими писаниями, которые, проповедуя грубый утилитаризм и эгоистический расчет, убивали все широкие и непосредственно идеальные стремления общества.
Спустя много лет этот оригинальный человек сам ощутил в себе разлад. С оттенком скептического юмора оглядывался он на некоторые, прежде им излюбленные, пути прогресса. В этой непоседевшей голове уже не молодого человека, с длинными, кудрявившимися волосами и с печатью болезни на лице, быть может, складывалось что-то новое, теоретически обхватывающее те горизонты, которые он прежде старался закрыть от своего сознания. Иногда он разражался нападками на свое прошлое в резкой форме самообличения. «Я тот баран, который хотел кричать козлом», говорил он о себе с веселым юмором, аллегорически изображая свою жизнь в форме фантастической легенды. Новые деятели реформированных в 1868 году «Отечественных Записок», с наиболее типическими для них философскими притязаниями, не удовлетворяли его. Он совершенно отвергал «биолого-социологические» параллели Михайловского, т.-е. именно то, что несведущая и не самостоятельно мыслящая толпа прокричала на всю Россию лучшим образцом новейшей, прогрессивной философии, не уразумев её обессиливающих внутренних противоречий и теоретической пустоты. Не имея, однако, сил для новых самостоятельных трудов, он углублялся в изучение всеобщей истории, с поразительною энергиею занимаясь переводом на русский язык многотомного труда Вебера.
Писарев выразил свое глубокое сочувствие роману Чернышевского, хотя при этом он не бросил в своей статье о «Новом типе» ни одной самостоятельной, оригинальной мысли. Он рассказывает его содержание, комментирует почти словами Чернышевского поступки Лопухова, Кирсанова и Веры Павловны, передает все главные подробности биографии Рахметова, но нигде и ни в чем он не поднимается на критическую высоту, необходимую для понимания достоинств и недостатков этого произведения. Увлеченный его тенденциею, Писарев находит даже, что Чернышевский глубже и лучше понял новое движение русского общества, чем Тургенев, и изобразил его в романе с удивительным художественным совершенством. Образы Лопухова, Кирсанова и Рахметова кажутся ему возвышеннее по замыслу, чем Базаров, которому Тургенев не мог сочувствовать так, как сочувствовал своим героям Чернышевский. Писарев не указывает ни на какие погрешности и недочеты Чернышевского в художественном отношении, и вся его пространная рецензия представляет собою довольно бледную популяризацию того, что, как мы видели, выражено в романе с настоящим огнем в целом ряде фантастических картин, залитых своеобразным вдохновением[38 - «Русское Слово», 1865, октябрь, Новый тип, стр. 1-54.].
Если не считать обширного, хотя и довольно бессодержательного разбора повести Слепцова «Трудное время», в статье под названием «Подрастающая гуманность», двух небольших рецензий о стихотворениях Гейне и краткого отзыва с полемическим ответом о «Сатирической небывальщине» Гермогена Трехзвездочкина, то мы пересмотрели все, напечатанное Писаревым вплоть до 1866 г. В это время деятельность Писарева уже близилась к концу. В 1866 г. было закрыто «Русское Слово». Его новые работы, напечатанные в «Деле» и «Отечественных Записках», не теряя общего характера талантливости и публицистической бойкости, становились все более и более однообразными по темам и аргументации. Все та же проповедь женской эмансипации, борьба с разными «усыпителями» русской общественной мысли, все та же пропаганда реализма и разумного эгоизма под знаменем Чернышевского. Мысли Писарева не прогрессируют, критическое дарование, не освежаемое какими-либо глубокими идеями и впечатлениями, не делает никаких успехов в понимании и оценке литературных явлений. Можно подумать, что при новых обстоятельствах – при необходимости писать в чуждом ему органе, под руководством людей, которым он не во всем симпатизировал, Писарев почувствовал как бы некоторую неуверенность. Но не имея привычки сидеть сложа руки, он бросается к иностранным сочинениям, подробно разбирает романы Андре Лео, занимается Эркманом-Шатрианом, пересказывает в статье «Мистическая любовь» интересное исследование английского писателя Уильяма Диксона «Духовные жены», пишет длинные журнальные заметки, не поражающие никакими новыми или даже свежими мыслями и настроениями. Он как бы в замешательстве нащупывает какие то новые пути для своего блестящего природного таланта. Долгая уединенная работа, с огромным партизанским увлечением, должна была наложить на него глубокую печать, а резкая перемена всех внешних обстоятельств не могла не отразиться на нем тягостным внутренним расстройством, превозмочь которое можно было только рядом значительных умственных усилий. Но все, напечатанное Писаревым за короткое время, которое ему суждено было прожить после выхода из крепости, не представляет признаков нового умственного движения. Даже такие статьи его, как очерк «Погибшие и погибающие», напечатанный в учено-литературном сборнике «Луч» и проводящий собою параллель между «Очерками бурсы» Помяловского и «Записками из мертвого дома» Достоевского, этюд «Образованная толпа», заключающий в себе анализ сочинений Ф. М. Толстого, и даже разбор первых трех томов «Войны и мира» под названием «Старое барство» не представляют собою, несмотря на общую талантливость, ничего характерного и оригинального по сравнению с прежними статьями Писарева. Единственным исключением является его большая статья о «Преступлении и наказании», начатая печатанием в «Деле» 1867 года и законченная только после смерти автора, в августе 1868 года. В этой статье, написанной с явным подъемом всех литературных сил Писарева, ярким и метким языком, с признаками непосредственного душевного волнения, попадаются мысли, как-бы не идущие в струе его прежних понятий и не совпадающие с новым движением общественных элементов. С необычайною энергиею Писарев вооружается против всякого грубого насилия даже во имя идеи. «Необыкновенные люди, которыми может и должно гордиться человечество, не являются любителями и виновниками кровопролития», говорит он. Кровь льется не для того, чтобы содействовать успехам человечества, и настоящие победы на пути прогресса одерживаются не вследствие кровопролитий, а, так сказать, вопреки кровопролитию. Те, которые препятствуют движению общества, держатся на своих местах благодаря толпе и, устраняя их насильственными средствами, мы не преодолеваем настоящей причины их силы. «Из любви к истине необыкновенные люди становились иногда мучениками, но никакая любовь к идее никогда не могла превратить их в мучителей – по той простой причине, что мучения никого не убеждают и следовательно никогда не приносят ни малейшей пользы той идее, во имя которой они производятся»[39 - Сочинения Д. И. Писарева, изд. 1868 г., ч. IX, Борьба за жизнь, стр. 240.].
Весьма возможно, что эти мысли и фразы были выражением каких-нибудь новых, назревавших в Писареве понятий. Но судить об этом с уверенностью трудно: эти мягкие, гуманные слова прозвучали тогда, когда занавес уже упал, скрыв от публики любимого ею героя короткой, но болезненной драмы.
notes
Сноски
1
Полное собрание сочинений И. В. Киреевского, том I, Девятнадцатый век, стр. 83.
2
Полное собрание сочинений. Том I. В ответ А. С. Хомякову, стр. 198.
3
Полное собрание сочинений. Том II. О характере просвещения Европы, стр. 276.
4
Современник 1862, январь, Русская Литература, стр. 15-32.
5
«Дневник» А. И. Герцена, стр. 156.
6
Не наши, славянофилы и панславизм, Хомяков, Киреевский, К. Аксаков, П. Я. Чаадаев, стр. 301.
7
Полное собрание сочинений, том I, стр. 13. Материалы для биографии Кирееевкого.
8
«Русское Слово» 1862 г., май, Русская литература, стр. 61.
9
«Русское Слово» 1862 г., май, Русская литература стр. 63.