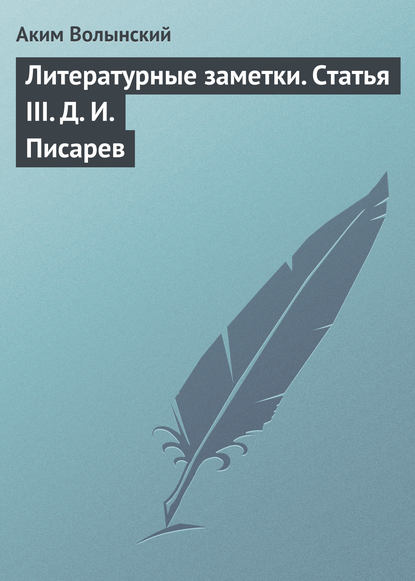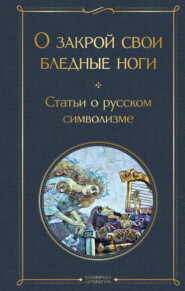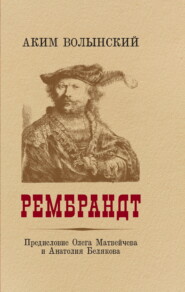По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Литературные заметки. Статья III. Д. И. Писарев
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Литературные заметки. Статья III. Д. И. Писарев
Аким Львович Волынский
Полемика с «Русским Вестником». – Писарев и Герцен о Киреевском. – Писарев о Петре Великом. – Исторические, естественно-научные, философские и педагогические статьи Писарева. – «Темное царство» в новом освещении. – Реалистический взгляд на любовь и ревность. – Первые нападки на искусство. – Пушкин и Белинский. – Разрушение эстетики. – Два романа с эмансипаторскими идеями. – «Новый тип». – Проблески новых настроений.
Аким Волынский
Литературные заметки. Статья III. Д. И. Писарев
I
Первый период своей литературной деятельности Писарев завершил тремя большими статьями, напечатанными в «Русском Слове» 1862 года: «Московские мыслители», «Русский Дон-Кихот» и «Бедная русская мысль». В «Московских мыслителях» Писарев подробно обозревает критический отдел «Русского Вестника» за 1861 год. Полемизируя с Катковым, он по пути обстреливает ядовитыми замечаниями Я. Грота, Лонгинова, торжественно отрекается от всякого спора с Юркевичем и не без апломба выставляет свое полное разногласие во всех литературных и общественных вопросах с солидными убеждениями ученой редакции «Русского Вестника». Сознавая себя деятельным поборником либерального принципа, ясного и понятного для всякого беспристрастного ума и без помощи широких научных или философских доказательств, Писарев с юмористическою усмешкою проводит параллель между публицистическими претензиями московского журнала и бойкими, быстрыми приемами радикального «Русского Слова», приемами, рассчитанными на чуткость передовых читателей к блестящим парадоксам и афоризмам, ко всякой ярко и пылко выраженной мысли. «Мы фантазеры, верхогляды, говоруны», восклицает Писарев с оттенком явной иронии над своими учеными противниками. «Мы, грешные, вязнем в тине и барахтаемся среди всяких нечистот, а Русский Вестник идет себе ровною дорогою и неспешною поступью пробирается к храму славы и бессмертия». Собираясь дать отчет о некоторых выдающихся статьях этого журнала, Писарев и не думает вооружаться против них серьезными аргументами. К чему возражать? Для кого возражать? Если его читатели не сочувствуют тем идеям, которые он выражал в прежних своих работах, они не пойдут с ним по одной дороге и в настоящем случае. При различии в мировоззрениях и радикально несходных взглядах на задачу русской журналистики, между ними не может оказаться ничего общего в понимании литературной деятельности Каткова. Если же читатели сочувствуют ему, то совершенно достаточно верно передать содержание, общий смысл важнейших, руководящих статей московского журнала, чтобы отчетливо выразить известное к ним отношение. Проницательные люди поймут, в чем дело.
Это – одна из самых слабых статей Писарева. Присутствуя при первых решительных схватках Каткова с «Современником», показавших силы враждующих сторон в их настоящем объеме. Писарев не сумел вмешаться в эту важную борьбу каким-нибудь значительным, серьезным заявлением, смелою и новою мыслью, увеличивающею шансы успеха на его стороне. Полемический поход Каткова на петербургских журналистов радикального лагеря был уже в полном разгаре, когда Писарев отдавал в печать свою пространную статью о «Русском Вестнике». В течение двенадцати месяцев обе партии успели обменяться самыми решительными возражениями, и разрыв «Русского Вестника» с либеральным движением общества обозначился с полною очевидностью. Удары Каткова в известную сторону сыпались беспрерывно, обнаруживая неистощимую энергию, движение страстей и сил к определенной, твердо намеченной цели. Пользуясь каждою оплошностью противника и превосходя его размерами литературного таланта, Катков все сильнее и сильнее набрасывался на главных коноводов либеральной партии, то уличая их в грубом философском невежестве, то со смехом обнаруживая все жалкое ничтожество их полемических придирок и громких, пышных фраз без серьезного, внутреннего содержания. Мы уже следили за всеми моментами этой кипучей, яркой борьбы между двумя видными журналами, борьбы, затеянной Катковым и доведенной им до конца с известным успехом. Несмотря на весь свой мятежный задор, Чернышевский не только не сразил своего храброго и искусного соперника, но, схватившись с ним на опасной для него почве философских рассуждений, сделал несколько явных промахов, осмеянных Катковым со всею яростью беспощадного полемиста. Ответы Чернышевского, показавшиеся молодому Писареву образцом литературной полемики, обнаружили только слабую сторону «Современника». О победе Чернышевского над Юркевичем и Катковым не могло быть и речи. Строго научные возражения Юркевича на статью «Современника» требовали объективного разбора, для которого у Чернышевского не хватало соответствующих знаний, уменья тонко разбираться в трудных вопросах метафизического мышления. Борьба с Катковым, проигранная на философской почве и чрезмерно запутанная ненужными излияниями и увертками Чернышевского, не могла окончиться торжеством «Современника» даже в самой ограниченной области. Не сознавая своего бессилия в вопросах философской науки, Чернышевский выступал на защиту примитивно справедливых требований русской жизни с арсеналом таких теоретических аргументов, которых нельзя было отстоять в серьезном споре. Он шел вперед, не сомневаясь в успехе, но шансы победы – решительной, исторической победы над реакционною силою, вставшею на пути прогрессивного движения, уменьшались с каждым днем. Союзники сближались между собою, но, обессиленные в корне фальшивым философским учением, не прибавляли новых элементов для победы, не давали свежих и светлых доказательств своей правоты перед высшими интересами русского общества…
Верный партизан Чернышевского в вопросах философии и эстетики. Писарев не мог оказать «Современнику» серьезной поддержки в его полемическом раздоре с «Отечественными Записками» и «Русским Вестником». Новых объяснений, по сравнению с доводами Чернышевского, он не давал. По типу, все его возражения, в «Схоластике XIX века», против Дудышкина, Альбертини, Громеки, Бестужева-Рюмина, ничем не отличались от жестокой расправы Чернышевского с неожиданными защитниками Юркевича на страницах умеренно либерального журнала. Все его доводы в пользу материализма, выраженные с необузданным задором, эти смелые скачки через бездны научных затруднений, от сложных теорем философии к вопросам и событиям текущей жизни, каждое частное рассуждение, отдельные афоризмы и замечания – все обнаруживало непобедимое влияние Чернышевского, овладевшее всем его существом, его симпатиями и убеждениями. При значительном литературном таланте, Писарев этими своими статьями не мог, конечно, смутить ни сотрудников «Отечественных Записок», ни такого сильного вождя начинавшейся реакции, каким был Катков. Оба журнала – петербургский, с представителями умеренного либерализма во главе, и московский, управляемый опытною рукою блестящего публициста, не могли войти в самостоятельную борьбу с молодым писателем, не показавшим, при видной свежести литературного дарования, при необычайной бойкости и резкости полемического тона, никакой серьезной умственной подготовки в научно-философском направлении. «Схоластика XIX века» произвела большую сенсацию своим эффектным красноречием, задором своих решительных афоризмов, своим смелым заступничеством за Чернышевского, но она не могла поколебать общего положения вещей в журналистике, потому что, несмотря на яркие проблески индивидуализма, не заключала в себе никаких новых теорем по сравнению с главными тезисами «Антропологического принципа» Чернышевского. А статья «Московские мыслители», по стилю и оригинальности содержания, значительно уступала всему, написанному критиком «Русского Слова» в этот период его литературной деятельности.
Под пышным заглавием «Русский Дон-Кихот» Писарев в коротенькой статье пытается набросать исчерпывающую характеристику взглядов и стремлений И. В. Киреевского, одного из самых талантливых представителей славянофильского движения. Вышедшее в 1861 году полное собрание его сочинений, в двух томах, с приложением обширных материалов для биографии Киреевского, собранных А. И. Кошелевым, давало критику «Русского Слова» полную возможность подвергнуть обстоятельному разбору ряд статей литературно-эстетического и философского характера, написанных вдохновенным языком и местами обнаруживающих поразительную глубину оригинального умственного настроения. Широкое образование Киреевского, соединенное с удивительною чистотою нравственного характера, не представляло, конечно, никакого повода для легкомысленного, рецензентского юмора и дилетантского пустословия о посторонних, к делу не относящихся, вопросах. В его рассуждениях о русской литературе, о стихотворениях Языкова, о Грибоедове, о Пушкине, о русских писательницах рассеяно столько великолепных замечаний, заслуживающих полного внимания, что, при серьезном понимании своей задачи, каждому новому критику именно на этих рассуждениях легко было показать и развернуть свое собственное эстетическое мировоззрение, свой взгляд на искусство, свое отношение к важным философским вопросам. В статьях Киреевского под названием: «Девятнадцатый век», «В ответ А. С. Хомякову», «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России», «О необходимости и возможности новых начал для философии» обрисовалась совершенно определенная точка зрения на важнейшие события европейской жизни, на задачу русской культуры, – обрисовалась целая историческая система, возникшая в уме, богатом смелыми и светлыми мыслями. Для литературного критика, идущего по самостоятельному пути, эти два тома произведений Киреевского представляли драгоценный случай высказаться с надлежащею силою по целому ряду вопросов первостепенной важности. Главным тезисам Киреевского надо было противопоставить свои собственные теоремы, продуманные во всех отношениях, в их ближайших и самых отдаленных выводах, соединенные в стройное философское учение. С полным вниманием надо было рассмотреть каждый из элементов его исторической теории, представляющей самостоятельное, широкое обобщение разнообразных фактов духовного и социального характера, потому что в споре с таким противником, как Киреевский, всякое дешевое глумление над враждебными понятиями, всякое легкомысленное бряцание воинствующими фразами не имело никакого смысла.
Но не рожденный для серьезных споров и всем своим умственным воспитанием совершенно не подготовленный для понимания таких натур, какою был Киреевский, Писарев отнесся к своей задаче с тою же легкостью и бойкостью, какою он обрушивался на разных второстепенных авторов. В «Русском Дон-Кихоте», несмотря на кричащие, победоносные фразы, нет ни одной серьезной мысли, ни одного научного аргумента против ярких доводов Киреевского, ни одного смелого и цельного обобщения, бросающего иной свет на исторические факты, собранные и по своему объясненные лучшим из русских славянофилов. Ограничиваясь мелкими по содержанию, но язвительными по форме замечаниями, Писарев не разбирает серьезно ни одной из статей Киреевского, хотя каждая из них, как мы уже сказали, заслуживала изучения с пристальным вниманием ко всем её литературным и философским особенностям. Богатый биографический материал, представленный Кошелевым, не увлек его своим превосходным психологическим содержанием, несмотря на то, что самое славянофильство показалось Писареву «психологическим явлением, возникшим вследствие неудовлетворенных потребностей» русской жизни. Ничего не доказывая, Писарев ничего серьезно не объясняет своему читателю, и вся его смелая рецензия о важном литературном явлении, при внимательном рассмотрении, должна быть признана набором звонких, но пустых фраз, производящих убогое впечатление, по сравнению с глубокими, оригинальными, местами ошибочными и односторонними, но всегда возвышенными, рассуждениями Киреевского.
Вот какими словами Писарев старается определить значение Киреевского в движении русского просвещения. Друзья и единомышленники Киреевского, пишет он, скажут, что его следует изучать, как мыслителя, что его должно уважать, как двигателя русского самосознания, что принесенная им польза будет оценена последующими поколениями. С подобными мнениями Писарев согласиться не может. По его твердому, но ничем недоказанному убеждению, «Киреевский был плохой мыслитель, он боялся мысли». Киреевский никуда не подвинул русское самосознание, и статьи его никогда не производили серьезного впечатления. Пользы Киреевский, категорически заявляет Писарев, – не принес никакой, и если последующие поколения, по какому-нибудь чуду, запомнят его имя, то они пожалеют только о печальных заблуждениях этого даровитого писателя, хотя Киреевский «был человек очень не глупый и в высшей степени добросовестный». Рассказывая вслед за Кошелевым о заграничных впечатлениях Киреевского, Писарев замечает: «мягкосердечный московский юноша мерил западную мысль крошечным аршином своих московских убеждений, которые казались ему непогрешимыми и которые разделяли с ним все убогия старушки Белокаменной». Киреевский слушал лекции известнейших профессоров, сообщал в письмах к родственникам и друзьям «остроумные заметки о методе и манере их преподавания», но при этом он сам оставался «неразвитым, наивным ребенком, не умевшим ни на минуту возвыситься над воззрениями папеньки и маменьки». В статье Киреевского «Девятнадцатый век», по мнению Писарева, не затронута ни одна реальная сторона европейской жизни. Киреевский преклоняется перед вожаками европейской мысли, не умея «взглянуть на умозрительную философию, как на хроническое поветрие, как на болезненный нарост, развившийся вследствие того, что живые силы, стремившиеся к практической деятельности, были насильственно сдавлены и задержаны». Об Европе и России Киреевский судит вкривь и вкось, «не зная фактов, не понимая их и стараясь доказать всему читающему миру, что и философия, и история, и политика нуждаются для своего оживления именно в тех понятиях, которые были привиты ему самому». В сочинениях его хороши только те места, в которых он является чистым поэтом, заявляет в одном месте Писарев, но тут же прибавляет: «повести Киреевского очень плохи, потому что в них преобладает головной элемент, они сбиваются на аллегории».
В трех статьях Киреевского: «Девятнадцатый век», «В ответ А. С. Хомякову», «О характере просвещения Европы» выразились с полною отчетливостью основные принципы его философского мировоззрения, хотя первая из этих статей относится к тому периоду его литературной деятельности, когда мысль Киреевского не достигла своего окончательного развития. В «Девятнадцатом веке» только намечены. в общей, схематической форме, те вопросы, которые занимали Киреевского до последних минут его жизни. В ясных выражениях предлагает он на суд философской критики определенную формулу западно-европейского просвещения, перечисляет все главные силы европейской истории, но, обозначив путь и направление своих будущих литературных работ, он при этом не доводит своих рассуждений до последних возможных заключений. В дальнейших статьях Киреевский видоизменяет свой взгляд на отдельные элементы европейского просвещения, оттеняя их новыми важными замечаниями, иначе определяя их природу в блестящей параллели с историческими силами русской народной культуры. Между первою и последующими статьями легла глубокая умственная работа, в которой мировоззрение Киреевского обнаружило все свои типические черты, свою духовную мощь, в которой этот несомненно большой и разнообразно одаренный ум, горевший экстазом, получил свою окончательную и характерную для русского духа формировку.
Обрисовав в крупных, ярких чертах движение европейской мысли в девятнадцатом веке, Киреевский следующим образом объясняет положение России в истории европейского просвещения. Между Россией и Европой, пишет он, стоит какая-то китайская стена, которая только сквозь некоторые свои отверстия пропускает к нам воздух просвещенного запада. Прошло уже целое тысячелетие с тех пор, как началась историческая жизнь России, но, несмотря на долгий период политической деятельности, её просвещение еще находится в зародыше. Очевидно, говорит Киреевский, что причины, мешающие правильному развитию русского общества, не могут быть случайными, но должны заключаться «в самой сущности его внутренней жизни», в коренных, первоначальных элементах национального русского быта. Эти причины могут быть определены только сопоставлением западноевропейской и русской культуры. Какими силами управлялось развитие Европы? Где главные факторы движения Европы по пути прогресса? Какие стихии спасали европейское общество от разрушительного действия разных внешних обстоятельств, постоянно возрождая в нем дух для успешной борьбы с враждебными ему элементами? Три начала легли в основание европейской истории, говорит Киреевский: христианская религия, классический мир древнего язычества и дух варварских народов, разрушивших Римскую империю. На этих началах выросло европейское общество. Классическая мысль, не перестававшая участвовать во всех областях научной и философской работы, влияла постоянно не только на светскую, но и на духовную жизнь европейских народов. Самая противоположность между христианскою и языческою культурою открывала новым идеям широкое поле развития. В постоянной борьбе с окружающими обстоятельствами, с преданиями языческих нравов и влечений, христианство только укрепляло свои силы. Посреди разногласного, нестройного, невежественного брожения противоположных стремлений, христианство естественным образом становилось средоточием всех элементов европейского развития, облагораживая политическую и социальную борьбу народов и увлекая к высшим целям и задачам могучие силы классического образования.
В России христианская религия, воспринятая в самом чистом виде, не имела такого решительного влияния на историческое развитие общества. Недостаток классических преданий, классической образованности помешал христианской мысли развернуться здесь во всем могуществе её природных сил. В Европе просвещенное единодушие, поддерживаемое общим религиозным идеалом, возбуждало постоянно одни и те же стремления в различных политических телах, спасало их от нашествий диких племен. В России народ, раздробленный по уделам на враждебные части, не связанный общими интересами просвещения, должен был очень легко подпасть владычеству татар, несмотря на все превосходство своих религиозных верований над умственною и нравственною бескультурностью этого дикого, развращенного племени. «Если-бы мы, говорит Киреевский, наследовали остатки классического мира, то религия наша имела-бы более политической силы, мы обладали-бы большею образованностью, большим единодушием и, следовательно, самая разделенность наша не имела-бы ни того варварского характера, ни таких пагубных последствий». Только со времени Петра I начинается истинное развитие России. До Петра просвещение вводилось к нам, пишет Киреевский, мало помалу, отрывисто, отчего, по мере своего появления, оно постоянно искажалось влиянием «нашей пересиливающей национальности». Но переворот, совершенный Петром, был неизбежным, хотя и насильственным переломом в русской истории, – тем переломом, который открыл классическому миру доступ в страну бытового и умственного невежества. В энергических выражениях Киреевский заступается, в конце статьи, за реформу, совершенную Петром Великим. В последнее время, говорит он, в русском обществе появилось целое множество обвинителей Петровского дела. Они говорят нам о просвещении национальном, самобытном. Они запрещают нам всякие заимствования, бранят нововведения и мечтают о коренном возвращении к старинной русской жизни. Вот опасный путь для страны, которую может спасти только широкое европейское просвещение. Французы, немцы, англичане все более и более проникаются национальными интересами и взглядами и это нисколько не мешает их дальнейшему развитию. В союзе с народными стремлениями европейская культура достигнет высшего, самобытного выражения. Но у нас искать национального значит искать необразованного, развивать его на счет европейских нововведений значит изгонять просвещение. Не имея достаточных элементов для внутреннего развития образованности, откуда возьмем мы ее, если не из Европы[1 - Полное собрание сочинений И. В. Киреевского, том I, Девятнадцатый век, стр. 83.]?
В этих немногих соображениях заключается главная мысль статьи. Обняв все европейское просвещение в одной широкой формуле, Киреевский без труда отмечает, в чем заключается важная причина умственной и политической отсталости русского общества по сравнению с западными народами. В России нет просвещения. Христианской мысли не на что опереться в борьбе с темным невежеством народных масс. Вся прошедшая история России, до насильственного переворота, совершенного Петром, можно сказать, пропала даром для интересов высшего христианского развития. Без классического элемента русское общество не выйдет на широкую политическую и умственную дорогу…
Но, как мы уже сказали, Киреевский не остановился на этих важных мыслях. В полемическом ответе Хомякову и в пространном письме на имя графа Е. Е. Комаровского добытая им формула европейского прогресса получила новое освещение и, по отношению к России, открыла широкую перспективу совершенно иных философских соображений, политических догадок и надежд. Ничего не вынимая из этой формулы, Киреевский вошел в более подробный анализ её исторического содержания и, пристально всмотревшись в события русской народной жизни, показал, что в его философских обобщениях нет ничего безотрадного для России. В самой формуле европейского развития ничто не требует никаких перемен, но её частное применение к русской истории должно быть сделано в совершенно ином направлении. К этому убеждению привела его сосредоточенная умственная работа над коренными вопросами философии и истории в течение нескольких лет. После тяжелой неудачи на поприще журнального издательства, Киреевский ушел в себя, забросил перо, замкнулся и затворился от мира. Медленно созревала в нем новая мысль, новый взгляд на русскую жизнь в её главных исторических моментах, и в заметке, служившей ответом на статью Хомякова «О старом и новом», это новое направление Киреевского впервые обозначилось с полною отчетливостью, иначе осветив прежние мысли, выраженные с громадною силою в «Девятнадцатом веке». Теперь он рисует историю католического христианства в иных словах, более мрачными красками, с другою философскою тенденциею. Римская церковь отличается от восточной только своим стремлением к рассудочности, к сухому отвлеченному рационализму, своим пристрастием к формальной логике. На западе бытие Бога доказывается силлогизмами, инквизиция, иезуитизм развились в атмосфере, насыщенной схоластическими спорами. Логическое убеждение легло в самое основание европейской жизни, сузив ширину и свободу её духовного роста, придав всей культуре западных народов характер односторонней, поверхностной мудрости. Классическое образование. не подчинившееся христианской мысли, проникшее в плоть и кровь европейского общества, задерживало движение истинно религиозного духа. «Я совсем не имею намерения писать сатиру на запад, заявляет Киреевский, никто больше меня не ценит тех удобств жизни общественной и частной, которые произошли от рационализма. Я люблю запад, я связан с ним многими неразрывными сочувствиями». Но признавая большое значение за европейскою культурою, он думает при этом, что «в конечном развитии» рассудочное просвещение уже обнаружилось «началом односторонним, обманчивым, обольстительным». В прошедшей истории России Киреевский находит некоторые элементы, в которых христианская мысль могла получить настоящую поддержку. Россия не блестела никогда «ни художествами, ни учеными изобретениями», но в ней постоянно хранились условия широкого духовного развития, «собиралось и жило то устроительное начало знания, та философия христианства, которая одна может дать правильное основание наукам»[2 - Полное собрание сочинений. Том I. В ответ А. С. Хомякову, стр. 198.]… В этих отрывочных фразах слышатся первые отголоски того нового настроения, которое с такою силою сказалось в статье «О характере просвещения Европы», напечатанной спустя двадцать лет после знаменитого дебюта Киреевского на страницах быстро угасшего «Европейца». Все движение европейской философии представилось ему в новом освещении. Его уже больше не восторгает политическое могущество католической церкви, а характерные особенности русской жизни выступили из мрака прошлого в ярком сиянии цельной, светлой, могучей веры, не заглушенной в народе никакими внешними насилиями. Раздвоение и цельность, рассудочность и разумность – вот последние выражения западно-европейской и древне-русской образованности[3 - Полное собрание сочинений. Том II. О характере просвещения Европы, стр. 276.]. На западе христианство приняло характер рассудочной отвлеченности, в России оно сохранило внутреннюю полноту духа. В Европе церковь смешалась с государством, в России она осталась всегда чуждою мирским целям. Мечтая о возрождении русского общества к новой плодотворной деятельности, Киреевский проповедует при этом необходимость разумного, осмысленного отношения к западно-европейскому просвещению. Он хотел-бы, чтобы высшие начала жизни, которые хранятся в христианском учении, господствовали над элементами рассудочного образования, не вытесняя, а обнимая их «своею полнотою». Пусть христианская мысль оживотворяет плодотворную, но ограниченную работу человеческой логики, потому что вера не может и не должна быть слепою.
Этим мыслям Киреевский не изменял уже до конца своей жизни. Все глубже проникаясь ими, он хотел подвергнуть обширной критике главные принципы рационализма в цельном, законченном философском произведении, с подробным изложением новых начал, на которых разовьется будущая духовная работа человечества. Перед самою смертью Киреевскому пришлось напечатать только первые наброски этой оригинально задуманной работы в «Русской беседе» Кошелева, из этих немногих страниц совершенно достаточно для того, чтобы судить о необычайной смелости его огромного критического таланта, о поэтической свежести и яркости его философского настроения, о могучей способности искать высшую религиозную правду в самых глубинах человеческой истории. Отдельные мысли в этой статье, носящей пространное заглавие «О необходимости и возможности новых начал для философии», критика Аристотеля, краткая, но меткая оценка Декарта, несколько горячих рассуждений о Шеллинге – проникнуты духом смелого новаторства и звучат агитационным призывом к свободному научному труду вне порабощающей власти тех или других школьных авторитетов. Основная тенденция рисуется в каждом её доводе, волнуя воображение, постоянно держа перед читателем увлекательный образ самого Киреевского, переливавшего в свои произведения все страсти своей души, боровшегося против сухой рассудочности всею полнотою своих нравственных и умственных сил.
И эти два небольших тома сочинений Киреевского, представляющие огромный интерес для понимания русского просвещения, Писарев оценил, как мы видели, с пренебрежением передового мыслителя, которому незачем разбираться в предрассудках и заблуждениях славянофильского писателя. Обвиняя «Современник» в легкомысленном отношении к деятелям славянофильского движения, Писарев сим не обнаруживает ни малейшего знакомства с их лучшими статьями, с их настоящими политическими и философскими стремлениями. Он рубит с плеча вопросы, требующие строгого изучения, самого широкого понимания, вопросы, в самой постановке которых выразилась несомненно прогрессивная потребность общества – осмыслить внутреннюю историю своего развития, уловить, постичь и разгадать черты народной психологии, незаметно направляющей его развитие по известному пути. В таком писателе, как Киреевский, помимо поразительно яркого литературного таланта, помимо огромной научной образованности, нельзя не видеть типических особенностей народного духа, и критический анализ его произведений, сделанный с необходимым беспристрастием, вернее всякой внешней пропаганды, должен открыть дорогу к самому источнику национального самосознания. Эта необычайная искренность его полу-лирических, полу-философских излияний, окруженных волнующимся туманом глубоких намеков, не всегда ясных для ума, но всегда тревожащих душу, этот патетический тон, придающий любимым идеям автора характер убежденной проповеди, – все это постоянно сближает читателя не с теми или другими мелкими вопросами данной минуты, а именно с мотивами внутренней, еще не вполне развернувшейся народной жизни. Никакая разумная, сознающая свою задачу критика не может пройти мимо Киреевского с равнодушием к тому, что волновало его в течение всей жизни, делало его энергичным бойцом за народные верования, вливало в его писания святую страсть миссионерского увлечения. В Киреевских выражается существенная особенность данной национальной культуры, и кто хочет лишить их обаяния в глазах людей, должен бороться с ними в честном бою, лицом к лицу с их действительными философскими взглядами и религиозными верованиями, проникая до глубины их логических доказательств, не оставляя без самого широкого, систематического возражения их основные теоремы, их руководящие убеждения. Можно обойти молчанием какое-нибудь мелкое явление консервативного или условно-либерального характера, но нельзя, без ущерба для литературы, для своего знамени, отделываться холостыми выстрелами дешевого остроумия, привлекая на суд критики людей, подобных Киреевскому, Хомякову и К. Аксакову. Легко блеснуть эффектным изречением, когда терзаешь, как жалкую добычу, какого-нибудь ничтожного журнального крикуна, дерзнувшего вступить в рискованную полемику с любимцем толпы, но только настоящая острота мысли, умеющей прорезаться к средоточию чужой системы, может с успехом состязаться с выдающимся талантом. Но Писарев, так же, как и автор статьи в «Современнике» под названием «Московское словенство», своим банальным глумлением над лучшими представителями славянофильской партии, мог, по закону противоречия, только укрепить то настроение умов, с которым он боролся своими несовершенными орудиями. Обе статьи – «Русский Дон Кихот» и «Московское словенство»[4 - Современник 1862, январь, Русская Литература, стр. 15-32.] – лишний раз показывают, что в прогрессивном движении нашей недавней истории не было тех сил и знании, которые одни могли обеспечить за ним настоящий успех и значение.
Но о героях славянофильского движения, в том числе о братьях Киреевских, судили в русской литературе и люди с большими знаниями и с большой политической и философской прозорливостью – и судили совершенно иначе. В немногих словах Герцена личность Киреевского оживает во всем богатстве её патетической натуры и природных талантов. Благородный ратоборец, Герцен провожал в могилу своих достойных противников торжественным звоном своего колокола, и его надгробная речь, сказанная по поводу смерти К. Аксакова, звучит высокою, светлою правдою. «Киреевские, Хомяков и Аксаков, писал он 15 января 1861 года, сделали свое дело. Долго ли, коротко ли они жили, но закрывая глаза, они могли сказать себе с полным сознанием, что они сделали то, что хотели сделать, и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром, в которой сидит Бирон и колотит ямщика, чтоб тот скакал по нивам и давил людей, то они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей». С них начинается перелом русской мысли, и хотя между ними и Герценом было огромное различие в некоторых убеждениях, но, по собственному признанию Герцена, всех их соединяла общая любовь. Это было «сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы за пророчество, чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума». В обеих партиях билось одно общее сердце, хотя лица их, как у Януса или двуглавого орла, смотрели в различные стороны. Поклонник свободы и великого времени французской революции, Киреевский не разделял пренебрежения новых старообрядцев к европейскому просвещению, в чем он сам открыто сознавался с глубокой печалью в голосе при разговоре с Грановским. Это был, пишет Герцен, человек с необыкновенными способностями, с умом обширным, политическим, страстным, с характером чистым и твердым, как сталь. О статьях его, напечатанных в № 1 «Европейца» – «Девятнадцатый век», «О слоге Вильменя», «Обозрение русской литературы», «Горе от ума на Московской сцене» – Герцен отзывается в самых восторженных выражениях. Статьи Киреевского – удивительные, пишет он, они опередили современное направление умов в самой Европе. «Какая здоровая, сильная голова, какой талант, слог…»[5 - «Дневник» А. И. Герцена, стр. 156.] Оба брата Киреевских стоят печальными тенями на рубеже народного воскресения. Преждевременно состарившееся лицо Ивана Киреевского носило резкие следы страданий и борьбы. Жизнь его не удалась. С жаром принялся он за издание журнала, но на второй книге «Европеец» был запрещен. В «Деннице» поместил он статью о Новикове, но «Денница» была схвачена и цензор Глинка посажен под арест. Этого твердого и чистого человека «разъела ржа страшного времени»[6 - Не наши, славянофилы и панславизм, Хомяков, Киреевский, К. Аксаков, П. Я. Чаадаев, стр. 301.].
Так рисует Киреевского и его единомышленников Герцен. Эта характеристика вполне сливается со словами самого Киреевского о той роли, какую, он хотел-бы играть в литературе своего времени и народа. «Мы возвратим права истинной религии, говорит Киреевский в письме к А. И. Кошелеву, изящное согласим с нравственностью, возбудим любовь к правде, глупый либерализм заменим уважением законов и чистоту жизни возвысим над чистотою слога»[7 - Полное собрание сочинений, том I, стр. 13. Материалы для биографии Кирееевкого.]. Тот не знает России и не думает о ней в глубине сердца, говорит он, обращаясь к Погодину, кто не видит и не чувствует, что из неё рождается что то великое, небывалое в мире. «Общественный дух начинает пробуждаться. Ложь и неправда, главные наши язвы, начинают обнаруживаться»… Вся страстная сила Киреевского выразилась в этих ярких строках.
Первый период литературной деятельности Писарева – до приключения с брошюрой Шедо-Фероти, т. е. до заключения его в крепость, – Писарев закончил довольно обширной рецензией на огромное исследование П. Пекарского: «Наука и литература в России при Петре Великом». Это – смело и бойко написанная статья с проблесками свободного, хотя и не вполне оригинального отношения к некоторым историческим вопросам, имевшая большой успех в обществе, даже привлекшая к себе, спустя несколько лет, при выпуске в отдельном издании, пристрастное внимание заинтересованных сфер. Писарев, по обыкновению, не орудует никакими серьезными фактами, ничего убедительно не доказывает, но, давая волю чисто публицистическому порыву, играет дерзновенными афоризмами с протестантской окраской. Самое сочинение Пекарского, в двух томах которого рассыпано множество ценных материалов, осталось в сущности без надлежащего разбора, но Писарев и не считал необходимым входить в подробное изучение того, что он сразу же, без всяких колебаний, окинув орлиным взглядом бесконечную библиографию исследования, отнес к «сухой и дряхлой официальной науке», над которою, по его мнению, «может и должен смеяться всякий живой, энергический человек». Отделав в немногих словах Пекарского, щелкнув по дороге любителей «народной подоплеки» и некстати повторив дрянную клевету Минаева на Юркевича, Писарев приступает к изложению своих собственных взглядов на роль личности в историческом процессе. По его убеждению, все великие исторические деятели только «мудрили» над жизнью народов, потому что, в сущности, в их работе не могло быть ничего оригинального, им самим принадлежащего. Образчики известной эпохи, «безответные игрушки событий», безвинные жертвы случайностей и переворотов, которые выносили их на вершины истории, эти титаны сами по себе только вредили интересам личной свободы и просвещения. Никакая крупная личность не может управлять историческим потоком. Все великие люди, совершавшие реформы с высоты своего умственного величия, все «в равной мере достойны неодобрения». Одни из них были очень умны, другие «замечательно бестолковы», но все вместе насиловали природу вещей, ведя за собою общество «к какой-нибудь мечтательной цели». Все поголовно могут быть названы «врагами человечества». Свобода постоянно приносилась в жертву «разным обширным и возвышенным целям, созревающим в разных великих и высоких головах»… Подводя итог этим общим соображениям, Писарев формулирует основную мысль статьи в следующих трех пунктах: во первых, деятельность всех великих людей была совершенно поверхностна и проходила мимо народной жизни, не шевеля и не пробуждая народного сознания, во вторых, деятельность великих людей была всегда ограничена тем кругом идей, в которых вращалась общая мысль эпохи, и в третьих, деятельность великих людей «не достигала своей цели, потому что претензии этих господ постоянно превышали их силы»[8 - «Русское Слово» 1862 г., май, Русская литература, стр. 61.].
Обращаясь к главному предмету статьи, Писарев в резких выражениях оттеняет свое отвращение ко всякого рода цивилизаторам «? la Паншин, или, что то же самое, ? la Петр Великий». Любя европейскую жизнь, мы не должны обольщаться тою бледною пародиею на европейские нравы, которая «разыгрывается высшими слоями нашего общества со времен Петра». С веселым задором Писарев взывает к настоящему европеизму, слегка иронизируя при этом над «остроумными затеями Петра Алексеевича». Деятельность Петра вовсе не имела таких плодотворных последствии, как это кажется его восторженным поклонникам. Его цивилизаторские попытки прошли мимо русского народа. Все, что он сделал, было плодом его личных соображений, не считавшихся с волею людей, которых имела в виду его реформа. Человек, не имевший во всю свою жизнь никакой цели, кроме «удовлетворения крупным прихотям своей крупной личности», он успел «прослыть великим патриотом, благодетелем своего народа и основателем русского просвещения». Нельзя не отдать Петру Алексеевичу полной дани уважения, насмешливо восклицает Писарев, не многим удается так ловко «подкупить в свою пользу суд истории»[9 - «Русское Слово» 1862 г., май, Русская литература стр. 63.]. Он прослыл великим русским деятелем, хотя «жизнь тех семидесяти миллионов, которые называются общим именем русского народа, вовсе не изменилась-бы в своих отправлениях», если-бы, например, Шакловитому удалось совершить задуманное им преступление[10 - «Русское Слово», 1862 г., апрель, Русская литература стр. 43.].
Такова общая историческая философия статьи, таково применение этой философии к частному историческому явлению. По верному замечанию, так сказать, случайного критика Писарева – Ф. Павленкова, – в рецензии на книги Пекарского нет ничего особенно оригинального, принадлежащего собственным творческим теориям Писарева: то, что высказано Писаревым, в гораздо более резкой и неумолимой форме «можно встретить на каждой странице Бокля, Дрэпера и других». У Бокля мы встретим «буквально то же самое», что так поразило некоторых читателей в произведении Писарева. «Книга Бокля, говорил Павленков, была разобрана в предыдущих номерах Русского Слова, положения его цитировались чуть не в каждой журнальной книжке, затем деятельность Петра тоже была оценена в журнале, – таким образом задача Писарева состояла в обсуждении значения Петра с боклевской точки зрения»[11 - Материалы для пересмотра действующих постановлений о цензуре и печати, ч. III, отдел первый, 1870 г., стр. 284.]. Но хотя Писарев и шел по стопам такого модного для того времени авторитета, как Бокль, тем не менее в его рассуждениях о роли великих людей в истории человечества нет надлежащей отчетливости и сколько-нибудь убедительных логических пояснений. Смешав воедино исторических героев, «состоявших на действительной службе», с теми великими людьми, которые в самом деле управляли судьбами и просвещением народов, не прикасаясь к официальному рулю государств, Писарев не показывает, какими силами совершается прогрессивное движение всякого общества. В каждом народе выдающимися работниками являются постоянно отдельные личности, глубже проникающиеся его духом, его умственными и нравственными понятиями, ярче сознающие его потребности и счастливою отгадкою находящие новые начала для переустройства жизни. они бросают новые идеи в народные массы, взбудораженные общим воздухом эпохи, я без всякого внешнего насилия, не прикасаясь к жезлу и мечу, совершают великие умственные перевороты. Об этих героях никаким образом нельзя сказать, что их деятельность поверхностна и не пробуждает народного сознания. Наивно утверждать, что пропаганда этих людей ограничена кругом современных понятий и никогда не достигала своей цели, потому-что их «претензии постоянно превышали их силы». Не разобравшись серьезно в этом коренном вопросе о значении личности в истории, Писарев отнесся и к деятельности Петра Великого без должной научной осторожности в обобщениях и характеристиках. Его насмешка не глубока и отдает юношескою хлесткостью. Как-бы ни были различны взгляды на роль Петра в русской истории, к каким-бы выводам ни пришла серьезная научная критика, при оценке его реформаторской деятельности, нельзя не видеть, что в бойкой статье Писарева нет серьезного содержания. Он не рисует личности Петра, этой богато одаренной индивидуальности с яркою печатью новаторских стремлений, как это мог-бы сделать человек, глубоко и вдумчиво изучивший эпоху, уловивший сквозь туман исторического отдаления живые настроения современного общества. Можно держаться по отношению к Петру I и такого мнения, какого держится, например, как это нам известно, граф X Толстой, широко изучивший документы времени для некогда задуманного им романа, но тогда весь центр тяжести должен быть перенесен от личности Петра в глубину общества, потому-что нельзя не видеть резких и многознаменательных социальных переворотов этого яркого исторического момента. Есть минуты в жизни Петра, писал Киреевский, когда, действуя иначе, он был-бы согласнее сам с собою, согласнее с тою мыслью, которая одушевляла его в продолжение всей жизни. Но общий характер его деятельности, но образованность России, им начатая, – «вот основания его величия и нашего будущего благоденствия». Будем осмотрительны, продолжает Киреевский, когда речь идет о преобразовании, им совершенном. Не забудем, что судить о нем легкомысленно есть дело неблагодарности и невежества[12 - Полное собрание сочинений, том I, Девятнадцатый век, стр. 83.]. Не представив никаких доказательств, совершенно не изучив самостоятельно не только документов эпохи, но даже и обширного труда Пекарского, Писарев не пошел по тому пути, по которому мог-бы с огромным успехом идти такой талант, как Толстой, и не обнаружил той осмотрительности, которую проповедовал Киреевский. Отрицая всякое значение за деятельностью Петра Великого и не признавая в то же время во всей прошедшей жизни русского общества ничего отрадного, прогрессивного, деятельного, Писарев даже не выдерживает своей мысли до конца и, соглашаясь с крайними славянофильскими мнениями относительно личности Петра, отрекается от тех посылок, которые давали смысл и даже некоторую силу их историческим выводам. Мы не думаем, говорит Писарев, чтобы «мыслящий историк» мог в истории московского государства до Петра подметить какие-нибудь симптомы народной жизни. «Мы не думаем, чтобы он нашел что-нибудь, кроме жалкого подавленного прозябания. Мы не думаем, чтобы мыслящий гражданин России мог смотреть на прошедшее своей родины без горести и без отвращения»[13 - «Русское Слово», 1862 г., апрель, Русская литература, стр. 42.]. Но если таково было до Петра прошедшее России, то каким образом при нем что-нибудь могло сложиться в темной жизни русского общества? Из каких элементов, спрашивается, образовалась эта новая прогрессивная сила, которая без Петра I сломила-бы то, что разбито им ради новых форм государственного существования? Писарев не видит, что решительно отрицая всякий смысл в допетровской жизни, он этим самым неизбежно возвышает значение и силу Петра и впадает в явное противоречие с самим собою. Писареву кажется, что русский народ должен проснуться сам собою и что всякая инициатива в этом направлении со стороны не имеет никакого смысла, «Мы его не разбудим, говорит он, воплями и воззваниями, не разбудим любовью и ласками… Если он проснется, то проснется сам по себе, по внутренней потребности». Среди множества примеров, показывающих в Писареве отсутствие деятельного социального инстинкта, это один из самых типических, не требующий никаких комментариев.
II
Мы разобрали все более или менее важное, напечатанное Писаревым в течение первых лет его литературной деятельности. С 3-го июля 1862 года по 18-ое ноября 1866 года и затем, с этого последнего момента до его смерти, перед нами проходит вся его умственная работа, напряженная, кипучая, смелая, – сначала в крепости, потом на свободе. Не покидая литературной критики, Писарев печатает целый ряд статей по историческим, естественно-научным, философским и педагогическим вопросам, которые, по-видимому, занимали его ум, хотя и не увлекали его к серьезному изучению науки. Он популяризирует европейских авторов, передавая их мысли в ясных выражениях, нигде не критикуя их по существу, никогда не поднимаясь выше или даже на один уровень с их идеями. Писарев сам сознавал ограниченность своих знаний и, со свойственной ему откровенностью, не стеснялся признаваться в этом перед своими читателями в тех самых статьях, которые должны были ввести их в круг новейших научных идей. «Я не специалист, и читал до сих пор очень мало по естественным наукам», пишет он на заключительных страницах своих пространных очерков о Дарвине под названием «Прогресс в мире животных и растений». Он отлично понимает, что при наличных сведениях он не может быть признан образцовым популяризатором. Не видя кругом себя людей, которые могли-бы выполнить по отношению к обществу истинно просветительную задачу, он готов «изобразить своей особой деревянную ложку, которую немедленно можно и даже должно бросить под стол, когда на этот стол явится благородный металл». Но при всей ограниченности научной подготовки, Писарев не перестает занимать своих читателей бесконечно длинными компиляциями, написанными прекрасным слогом, но без широких обобщений, без определенного исторического или философского плана. В этих пространных статьях, составленных в большинстве случаев по двум-трем книгам, разбросано множество своеобразных характеристик и не везде выдержана последовательность основных логических соображений. Исторические темы интересовали Писарева почти столько же, сколько и темы естественно-научные. Напечатав еще в 1861 году свое студенческое сочинение об Аполлонии Тианском, не представляющее, несмотря на превосходный материал, живого изображения этой замечательной, несколько загадочной личности, Писарев сейчас же вслед за этой работой помещает в «Русском Слове» довольно бойкую характеристику Меттерниха. Спустя несколько месяцев он публикует свои «Очерки из истории печати во Франции» – почему-то под псевдонимом И. П. Рагодина – и затем исторические статьи становятся его постоянным вкладом в первый отдел журнала. В обширной компиляции «Очерки из истории труда» он излагает идеи американского писателя Кэри, в длинной статье, озаглавленной «Историческое развитие европейской мысли» он идет по стопам известного исследования Дрэпера, в других своих компиляциях он передает важные, но общеизвестные факты, относящиеся к перелому в умственной жизни средневековой Европы, и, наконец, в целом ряде эскизов он рисует события, предшествовавшие французской революции и создавшие ее. Несмотря на темперамент крайнего индивидуалиста и даже вопреки собственному убеждению, Писарев во всех этих статьях остается в высшей степени объективным повествователем, лишь иногда выражающим определенные, субъективные суждения о явлениях и лицах, приобретших широкую историческую известность. Определив однажды задачу историка, как «осмысление события с личной точки зрения»[14 - «Русское Слово» 1861 г., сентябрь, Иностранная литература, стр. 3.], Писарев в первой главе своих «Исторических эскизов» сам же вооружается против всякого излишнего субъективизма в такого рода работах. «Дело историка, пишет он, рассказать и объяснить. Дело читателя передумать и понять предлагаемое объяснение»[15 - Сочинения Д. И. Писарева, ч. VIII, изд. 1872 г., Исторические эскизы, стр. 69.]. В настоящем историческом рассказе нет места ни для похвал, ни для порицания, и вот почему можно сказать, что вся «колоссальная знаменитость» Маколея основана, в сущности, на ложном приеме. Он рисует исторические портреты и торжественно произносит над историческими деятелями оправдательные или обвинительные приговоры, хотя такая адвокатская или прокурорская декламация должна быть признана вопиющею нелепостью. В том месте, где Писарев сделал впервые определение исторической науки, он простирает свой субъективизм до того, что дает каждой политической партии право иметь свою собственную всемирную историю, потому что «история есть и всегда будет теоретическим оправданием известных практических убеждений, составившихся путем жизни и имеющих свое положительное значение в настоящем»[16 - «Русское Слово» 1861 г., сентябрь, Иностранная литература, 3-4.]. В своих «Исторических эскизах» он уже не считает возможным что-либо оправдывать или обвинять в жизни народов с современной точки зрения, потому что он пришел к твердому убеждению, что «всякое отдельное событие, как бы оно ни было ужасно или величественно, есть только неизбежное и очень простое следствие таких же неизбежных и простых причин»[17 - Сочинения Д. И. Писарева, ч. VIII, изд. 1872 г., стр. 70.].
Не большею самостоятельностью отличаются, как мы это уже отчасти знаем, и статьи Писарева по естественно-научным и философским вопросам. Вся его обширная пропаганда идей Дарвина в статье «Прогресс в мире животных и растений» не заключает в себе ни одной самостоятельной мысли и при том пестрит совершенно наивными и ненужными излияниями по адресу читателя. Превознеся Дарвина в выражениях, не обнаруживающих настоящей, научной компетентности, и поглумившись в заключение над его немецкими оппонентами, которые фамильярно обзываются при этом «милашками» и приравниваются к Пульхерии Ивановне и купчихе Кабановой, Писарев уверенным взмахом руки повергает во прах гениального в своем роде Ламарка и Жофруа-Сент-Иллера. Разрушая старые воззрения в естествознании, Писарев молодцевато прогуливается вокруг побежденной им системы, восклицая: «Принцип, принцип! Каково ты себя, друг мой, чувствуешь?» В другом месте Писарев, желая развить самостоятельную мысль в духе Дарвина, делает следующую игривую оговорку, обличающую однако некоторую неуверенность в своей научной правоспособности: «Если Дарвин, пишет он, позволяет медведю превратиться почти в кита, то, пожалуй, почему бы и моему воробью не превратиться, не говорю в крота, а в подземное и, разумеется, совершенно не летающее и не совсем зоркое животное? Pourquoi pas? Однако я все-таки не решусь этого сказать. Дарвину хорошо храбриться, он знает, что не наврет. А я на этот счет, при сильной наклонности моей к широким умозрениям, побаиваюсь за себя ежеминутно»[18 - Сочинения Д. И. Писарева, ч. VI, изд. 1866 г. Прогресс в мире животных и растении, стр. 197.]. В статье под названием «Подвиги европейских авторитетов» Писарев передает знаменитый спор Пастера с французскими учеными, защищавшими теорию произвольного зарождения – Пуше, Жоли и Мюссе, при чем рисует в комических чертах Пастера, отрицавшего за их учением научную солидность. Писареву представлялось, что механическая теория навеки обеспечила за собою полное господство, и знаменитые возражения Пастера, основанные на блестящих экспериментах, кажутся ему какими-то подозрительными происками ловкого чиновника от науки, не дорожащего её истинными, прогрессивными интересами. По непривычке к осторожности, необходимой в разрешении научных споров, он в решительные минуты изменяет скромному сознанию своей некомпетентности и систематически гнет в сторону гетерогенистов, не давая при этом никаких материалов для анализа их воззрений и в то же время грубо размалевывая портрет их противника. Заметим, кстати, в этом пункте, что вопрос, не перестававший волновать умы лучших европейских ученых, можно сказать еще на этих днях был представлен в его настоящей стадии в брошюре талантливого русского профессора И. П. Бородина «Протоплазма и витализм». Если бы науке, пишет Бородин, удалось неопровержимым образом доказать возможность зарождения хотя бы наипростейшего живого существа из бездушных веществ мертвой природы, если бы ей удалось уничтожить грань, отделяющую в природе живое от мертвого, подобно тому, как она блестяще стерла границы, разделявшие некогда растительное и животное царства, то пошатнулся бы один из важнейших оплотов витализма. Но механическое воззрение теряет постоянно доверие ученых и, говоря словами профессора К. Тимирязева, вся история попыток открыть самозарождение организмов должна быть признана рядом более и более решительных поражений. После блестящих опытов Пастера, заявляет Бородин, угасла всякая надежда на возможность самозарождения даже мельчайших живых существ – бактерий. Наука все решительнее и громче провозглашает, что живое порождается только живым. Но изображая в таком виде положение главного вопроса, затронутого в свое время на страницах «Русского Слова», профессор Бородин делает при этом некоторую фактическую ошибку – по отношению к Писареву. «Когда велся знаменитый спор Пастера с гетерогенистами, пишет профессор Бородин, симпатии всего нашего либерального лагеря, с покойным Писаревым во главе, были решительно на стороне Пастера, а Пуше, Жоли и вообще всю компанию гетерогенистов громили ретроградами, обскурантами. Вот уже истинно своя своих не познаша»[19 - И. И. Бородин. Протоплазма и витализм, издание журнала «Мир Божий». Спб. 1895 г., стр. 25-26.]. Профессор Бородин прекрасно понимает, что Писареву, при его миросозерцании, естественно было держать сторону оппонентов Пастера, и, приписывая ему солидарность с Пастером, он отказывает ему в логической последовательности. Но Писарев в настоящем случае не изменил себе, и статья его «Подвиги европейских авторитетов», напечатанная в июньской книге «Русского Слова» 1865 года, служит тому неопровержимым доказательством.
К попыткам философского мышления, теоретического и практического, нужно отнести следующие статьи Писарева: «Пчелы», «Исторические идеи Огюста Конта», «Времена метафизической аргументации» и «Популяризаторы отрицательных доктрин». «Пчелы» представляют довольно остроумную сатиру в аллегорической форме, высмеивающую некоторые одряхлевшие формы социальной жизни. Статейка написана с талантом и обнаруживает в Писареве способность к тонкому политическому юмору без резкой гражданственной крикливости. Полная движения, борьбы и шума, общественных катаклизмов и торжественных празднеств, проносится перед нами своеобразная жизнь пчел, во многом напоминая людскую жизнь. Писарев выдерживает до конца основную тенденцию статьи, в высокой степени сочувственную рабочим силам всякого общества, хотя по отдельным фразам можно догадаться, что его политический индивидуализм не был особенно последовательным и решительным. «Исторические идеи Огюста Конта» составляют в сущности одно целое со статьею «Времена метафизической аргументации», напечатанною впервые в январской книге «Русского Слова» 1866 года, но в отдельном издании слитою с первою. Писарев, не разбирая и даже не излагая главных теоретических начал Контовской философии, пространно говорит об исторических идеях Конта, не подвергая их при этом никакой критике. Теологический период в жизни человечества не отличается в изображении Писарева никакою рельефностью, и суждения критика о первобытных религиях не идут дальше самых поверхностных обобщений. Отличительные черты позитивного мышления поняты Писаревым по дилетантски, а основные особенности метафизического направления представлены в его статье в таком извращенном виде, который, по своей наивности, не может быть признан правильным отражением даже контовской системы. Не будем останавливаться и на компилятивной работе «Популяризаторы общественных доктрин», примыкающей к двум предшествующим очеркам, в которой он с необычайной развязностью издевается над «бабьей» натурой Руссо и хлещет за недостаток ума Вольтера, и отметим, в заключение настоящей главы, несколько статей его по педагогическим вопросам. Об одной из этих статей – «Наша университетская наука» – мы уже упоминали в биографии Писарева. Она написана прекрасным, спокойным языком и в заключительных рассуждениях, посвященных общему образованию, содержит несколько метких замечаний о нашем гимназическом и университетском воспитании. Осмеяв старые педагогические приемы, Писарев требует полной реформы низшего образования и расширения свободы обучения в университетских аудиториях. В основу гимназической программы должно быть положено изучение математических и естественных наук – вот идея, которая проходит по всем его рассуждениям, делая его ярым поборником реализма против всех видов современного классицизма. Эта же идея светится в его обширной статье под названием «Школа и жизнь», заключающей его собственную учебную программу – низшую и высшую. Она же руководит им и при изложении взглядов Вирхова на воспитание женщин, при рассмотрении известной книги Юманса «Modern culture», содержащей в себе публичные лекции Тиндаля, Добени, Паджета и других об умственных потребностях современного общества, при составлении предисловия к «Урокам элементарной физиологии» Гекели. Враждою ко всякого рода классицизму проникнута и его резкая, почти взбешенная полемика против Шаврова, автора статьи «Классическое и реальное воспитание», напечатанной в «Дне»[20 - «День», 1865. № 16, 17, 19. Педагогические очерки; I Классическое и реальное образование. И Открытые и закрытые учебные заведения. No№ 34, 35. Семейство и школа. М. Шаврова.]. Не сдерживая потока бранных слов, хотя и давая понять читателю, что соперник его отнюдь не принадлежит к числу жалких фразеров из «Московских Ведомостей», Писарев яростно обороняет свои реалистические убеждения от всякого компромисса, от всякой возможной поправки или оговорки. В самом разгаре своей публицистической агитации, развернувшись во всей своей неумолимой, но наивной приверженности к реализму, Писарев не щадит противника, проповедующего более гармоническое воспитание гуманных и образовательных стремлений. Эта статья полна шумных криков, оскорбительных придирок и заносчивых поучений, совершенно незаслуженных мало известным, но серьезным автором.
III
В этом периоде своей деятельности Писарев окончательно входит в круг своих любимых реалистических идей и понятий. Без малейших сомнений и колебаний он разрешает теперь эстетические и моральные вопросы, выводя на строгий, беспощадный суд реализма лучших русских писателей. Все прошедшие воззрения, юношеская наклонность к красоте и изяществу окончательно исчезают, уступая место духу смелой, но прозаической публицистики, производящих полное замешательства в его критических приемах и суждениях. Статьи его приобретают вызывающий характер, не смягчаемый никакими случайными проблесками эстетического чувства, а слог становится грубо-популярным, подчас вульгарным, несмотря на поэтические темы критической разработки. Его мысли сосредоточиваются в одном направлении, сокращаясь в содержании и, может быть, вследствие исключительных внешних условий, при которых он писал эти статьи, не обогащаясь никакими свежими, яркими, идущими из самой жизни впечатлениями. Образ Базарова, в том патетическом, но узком истолковании, о котором мы уже говорили, завладел его умом. Каждое частное его соображение доказывается теперь ссылкою на Базарова, направляется Базаровым, вдохновляется Базаровым. Общие рассуждения, до бесконечности растянутые, утомляющие своими бесчисленными повторениями, вращаются в магическом кругу одних и тех же вопросов, не затрагивающих сущность и свойства рассматриваемых художественных произведений, но глубоко волнующих настроения прогрессивной толпы. Полемика с «Современником», возникшая по поводу Базарова, разожженная неожиданным преступлением некогда верных вассалов Чернышевского, появление романа «Что делать?», показавшего новых людей в борьбе с обстоятельствами жизни и бросившего заманчивый свет отдаленной утопии на волнения и страсти современности, – все это окончательно закалило молодого критика «Русского Слова». Базаров и Лопухов, Одинцова и Вера Павловна, взгляды Чернышевского на эстетические отношения искусства к действительности – вот тот материал, которым Писарев постоянно пользуется в своих новых статьях. Доведя до крайних выводов главные мысли Чернышевского, он с неукротимою энергиею набрасывается на русскую эстетическую литературу, разнося ударами своего острого ножа пустую, вздутую славу разных литературных авторитетов, усыплявших русскую публику своим сладкогласным пением, разбивая вековые предрассудки в широкой области эстетических пристрастий. Никому никакой пощады, ни с кем никакого союза, кроме истинного властителя современных дум, так же как и он сброшенного волною жестоких событий с видной и твердой жизненной позиции. Никому никакого сочувствия, кроме Чернышевского. Даже Добролюбов в этот кипучий момент его умственной деятельности не внушает ему полной симпатии. «Если бы Белинский и Добролюбов поговорили между собою с глазу на глаз, с полной откровенностью, заявляет Писарев в сентябре 1864 года в статье своей Нерешенный вопрос, то они разошлись бы между собою на очень многих пунктах. А если бы мы поговорили таким же образом с Добролюбовым, то мы не сошлись бы с ним почти ни на одном пункте»[21 - «Русское Слово» 1864 г., сентябрь, Нерешенный вопрос, стр. 36.]. Ему представляется, что преследуя эстетиков «меткими и справедливыми насмешками», Добролюбов сам в очень многом сходился со своими всегдашними противниками, восхищался «общими впечатлениями», не всегда отдавался спокойному, разумному анализу. Чтобы наглядным образом показать свое полное разногласие с этим недавно умершим критиком «Современника», Писарев еще в марте 1864 года печатает статью под названием «Мотивы русской драмы». Добролюбов нашел какой-то светлый луч в темном царстве своеволия и насилия. Он поддался порыву эстетического чувства и возвел в перл создания образ заурядной Катерины. Нам придется быть строже и последовательнее Добролюбова, говорит Писарев. Нам необходимо защитить его идеи против его собственных увлечений. Статья его об Островском была настоящею литературною ошибкою. Взгляд Добролюбова на Катерину не верен, потому что ни одно светлое явление не может ни возникнуть, ни сложиться в темном царстве патриархальной русской семьи. Обращаясь к самой драме Островского, Писарев следующим образом низводит Катерину с той высоты, на которую поставил ее Добролюбов. Во всех её поступках и ощущениях, пишет он, нас поражает прежде всего резкая несоразмерность между причинами и следствиями. Каждое внешнее впечатление потрясает весь её организм, самое ничтожное событие, самый пустой разговор производит целый переворот в её мыслях, чувствах и поступках. Кабаниха ворчит – Катерина от этого изнывает, Борис Григорьевич бросил несколько нежных взглядов – Катерина влюбляется. Варвара сказала мимоходом несколько слов о Борисе, Катерина заранее считает себя погибшей женщиной. При свидании с Борисом она сначала кричит: «поди прочь, окаянный человек», а вслед за тем кидается ему на шею. Когда приезжает Тихон, она вдруг начинает терзаться угрызениями совести, доходит до полу сумасшествия, хотя Борис живет в том же городе и, «прибегая к маленьким хитростям и предосторожностям, можно было бы кое когда видеться и наслаждаться жизнью». Грянул гром, полоумная барыня прошла по сцене с двумя лакеями, – и Катерина бросается к ногам своего мужа с полным покаянием в грехах. Случайно произнесенное ею слово «могила» возбуждает в ней мысль о самоубийстве: «прыжок в Волгу – и драма оканчивается». Обрисовав таким образом ничтожество Катерины и затем показав её постоянные внутренние противоречия, Писарев схватывается с теми старыми эстетическими понятиями, которые мешают сложиться правильному отношению к человеческим страстям и которые даже такого человека, как Добролюбов, поставили на узкую тропинку, ведущую «в глушь и болото». К людям, а следовательно и к их художественным отражениям в поэтических произведениях надо относиться с точки зрения естественно-научного натурализма, и тогда не трудно будет найти истинное мерило человеческого величия или падения. Критик, чуждый эстетической рутины, следующий в своем мировоззрении за идеями Фохта, Молешотта, Бюхнера, проникшийся учением Дарвина и Бокля, увидит светлое явление только в том человеке, который умеет быть счастливым и приносить пользу себе и другим. Всякого рода карлики и уроды, само собою ясно, только по ошибке могут привлекать к себе симпатии мыслящего человека. Люди, которым обстоятельства подставляют постоянно «разноцветные фонари» под глаза, не могут служить светочами жизни. Способность страдать, ослиная кротость, нелепые порывы бессильного отчаяния – только мешают развитию реалистических идей в обществе. Средневековым людям, даже Шекспиру, было еще извинительно принимать «большие человеческие глупости за великие явления природы», но нам, людям XIX столетия, пора уже называть вещи их настоящими именами[22 - «Русское Слово», 1864, Мотивы русской драмы, стр. 37.].
Вот как оценивает одно из замечательных русских произведений Писарев. Проводя границу между собственными воззрениями и воззрениями Добролюбова и желая остаться верным принципам строгого и в этом случае совершенно бесплодного индивидуализма, он пересматривает старый литературный вопрос и на ярком художественном примере обнаруживает непреклонную прямолинейность своих убеждений. Но, разойдясь с Добролюбовым, Писарев не проливает ни одного светлого луча на явления жизни, изображенные сильным и характерным талантом. В известной статье Добролюбова слышатся живые публицистические ноты, открываются какие-то просветы из мрачного настоящего к восходящему из-за темной тучи солнцу. При господствующем гражданственном настроении, Добролюбов, со свойственной ему иногда тонкой едкостью, набрасывает несколько блестящих характеристик, прекрасно передающих типические свойства разбираемого произведения. Постоянно держа перед своим сознанием мысль о живой личной работе, он правильно шел от освобождения личности к широкому социальному освобождению. В рассуждениях Писарева о драме Островского, совпадающих с его рассуждениями о «бедной русской мысли», публицистическая идея, вытеснившая окончательно все чисто критические приемы, приводит его к такому бессодержательному индивидуализму, который оставляет без какого-бы то ни было разрешения социальный вопрос. Совершенно не вникая в исторические затруднения, преодолеваемые в борьбе за освобождение, не признавая значения за психологическими протестами отдельных единиц, Писарев всю надежду возлагает на естественно-научное просвещение молодых поколений, на отрезвляющее воздействие анатомических вивисекций. «Пока один Базаров окружен тысячами людей, не способных его понимать, восклицает Писарев, до тех пор Базарову следует сидеть за микроскопом и резать лягушек и печатать книги и статьи с анатомическими рисунками». Только это и нужно: «в лягушке заключается спасение и обновление русского народа». Вот ясная дорога к эмансипации общества. А что касается страстей, треволнений любви с её приливами ревности, отчаяния – все это пустые предрассудки старины, прекрасно разоблаченные в романе «Что делать?» Посмотрите на Веру Павловну: она отказалась от корсета, завела мастерскую и смело завладела своим счастьем, великодушно подброшенным ей её реалистически-просвещенным мужем, Лопуховым. Для Веры Павловны, заявляет Писарев, даже немыслимы те огорчения, которые выпадают на долю ординарных женщин. Она знает на перечет все свои нужды, умеет контролировать все свои желания, сама отыскивает средства для удовлетворения своим потребностям. её любовные отношения, без оттенка пустой ревности, протекают среди сознательного труда на свою и чужую пользу. «Я всегда смотрел на любовь, говорит Писарев, не как на самостоятельную цель, а как на превосходное и незаменимое вспомогательное средство». Как настоящий реалист, имеющий высокие положительные задачи, он совершенно застрахован против всяких разочарований и охлаждений. Ощущение ревности обрекает женщину на вечную, унизительную и тягостную зависимость от любимого человека. Это уродливое психическое явление, указывающее «на страшную внутреннюю пустоту» тех людей, для которых любовь составляет «высшее благо и единственную цель существования». У этих несчастных людей нет никакой любимой деятельности. Они не принимают никакого участия в общей работе человечества. Все величайшие усилия человеческой мысли, все колоссальные события новейшей, истории, все животрепещущие надежды и стремления лучших людей совершенно им неизвестны. «Взаимная любовь, замечает Писарев, конечно, дает много наслаждений, больше, чем хороший обед, больше, чем роскошная квартира, больше, чем оперная музыка. Но наполнять всю жизнь взаимною любовью, не видеть в жизни ничего выше и обаятельнее взаимной любви, не уметь, в случае надобности, отказаться от этого наслаждения, – это значит не иметь понятия о настоящей жизни, это значит не подозревать, как велик и силен человеческий ум и какие неисчерпаемые сокровища неотъемлемых наслаждений скрыты в сером веществе нашего головного мозга»[23 - «Русское Слово» 1864 г., август, Литературное обозрение, стр. 37-38.]. Так рассуждает Писарев о любви и о ревности в статье своей «Кукольная трагедия с букетом гражданской скорби» и в том же направлении он рисует, с терпеливою постепенностью, романические отношения Базарова и Одинцовой в «Нерешенном вопросе». Писарев понимает причину, помешавшую Базарову увлечь Одинцову, он признает, что чувство его выразилось некрасиво, в такой форме, которая напугала тонкую, чуткую организацию Одинцовой. Но верный своим реалистическим понятиям, не видя в любви никакого высшего элемента, он с полемическим сарказмом обсуживает поведение Одинцовой, её кокетство, её упорное желание отыскать и разбудить в Базарове скрытую поэтическую силу. Весь этот тонко написанный роман, в котором художник незаметно подтачивает устои Базаровской философии, заставляет на наших глазах колебаться могучую, почти героическую фигуру под напором живой струи непобедимых душевных запросов, в изложении Писарева приобретает узкий смысл, сводится к простой иллюстрации его реалистической программы. Несчастная развязка любви Базарова есть, по мнению Писарева, только результат недомыслия Одинцовой в этом вопросе. Ее связала эстетика: в чувстве Базарова не было той «внешней миловидности, joli ? voir», которую Одинцова совершенно бессознательно считает необходимым атрибутом всякого любовного пафоса. Не будь у Одинцовой подобного печального предрассудка, все сложилось-бы так, как это достойно двух мыслящих реалистов. При естественно-научном взгляде на любовь, как на «вспомогательное средство», при самом наивном истолковании глубоких страстей, овладевающих человеческою душою, Писарев должен был легко покончить с тем сложным вопросом, который так трудно разрешается в жизни и в настоящих художественных произведениях отражается во всей своей трагической запутанности. С наивностью, почти невероятною в устах человека, когда-либо жившего сердцем, Писарев совершенно не допускает самой возможности ревности, охлаждения, каких-либо недоразумений или драм в союзе двух людей, связанных между собою, при любви, общими реалистическими убеждениями, общим реалистическим трудом. «Черт знает, что за чепуха! восклицает он. Охладеть к другу потому, что он десять лета был другом. Разочароваться в этом друге потому, что мы вместе с ним постарели на десять лет. Искать себе новой привязанности, когда старый друг живет со мною в одном доме. Скажите, пожалуйста, есть ли человеческий смысл в подобных предположениях»?[24 - «Русское Слово» 1864, октябрь, Нерешенный вопрос, стр. 55-56.]. Глубоко проникнутый своими понятиями, настоящий реалист, в духе Базарова, как его понимает Писарев, не только не должен, но и не может терзаться какими-бы то ни было любовными неудачами, не только не должен, но и не может ревновать. Таковы были твердые, в своем роде благородные, но лишенные глубины и понимания души, убеждения Писарева в 1864 году, выраженные им с юношескою силою и пылкостью – в статьях, которые он писал в невольном уединении, в тиши каземата, вдали от солнечного света, от настоящей жизни с её прихотливою зыбью на поверхности, скрывающею под собою темную и опасную глубину. Еще за два года перед тем Писарев, быть может, охватывал этот вопрос шире, чем в указанных статьях. Тогда он думал о любви, как человек, хотя и имеющий определенные убеждения, но без той прямолинейности и ограниченности, которая привела его к ряду категорических жизненных выводов, лишенных всякого основания. Коснувшись этого вопроса в статье своей «Бедная русская мысль», Писарев не без тонкости замечает, что при разрешении его приходится иметь дело с целою областью неизвестных, непредвиденных и случайных сил, о которые часто разбиваются заранее придуманные теории. «Кто из нас не знает, например, спрашивает он, что ревность – чепуха, что чувство свободно, что полюбить и разлюбить не от нас зависит, и что женщина не виновата, если изменяет вам и отдается другому? Кто из нас не ратовал словом и пером за свободу женщины? А пусть случится этому бойцу испытать в своей любви огорчение… Что же выйдет? Неужели вы думаете, что он утешит себя теоретическими доводами и успокоится в своей безукоризненно-гуманной философии»[25 - «Русское Слово», 1862, апрель, Русская литература, стр. 35.]? Выражая эти правдивые, искренние сомнения, Писарев был очень близок к пониманию действительной жизни и, может быть, принимал в соображение личный опыт. Он был тогда еще очень не далек от того времени, когда он, потеряв господство над собою, в минуту ревнивого отчаяния, явился на дебаркадер Николаевской железной дороги, скрыв лицо под маской и вооружившись хлыстом, чтобы выместить свою ревнивую злобу на счастливом сопернике. В 1864 году все непосредственные впечатления жизни, не проникая за стены крепостного заключения, уже не шевелили в нем интереса к тем психическим явлениям, которые ум его, лишенный от природы философской или художественной глубины, не постигал в своем чисто теоретическом движении… Мысль его, достигнув известной высоты, еще на первых порах его литературной деятельности, уже больше не развивалась, не обогащалась никакими свежими эмпирическими материалами и потому должна была, в конце концов, выродиться в какую-то бесплодную, радикальную схоластику, с бесконечным повторением одних и тех же доводов и постоянным тяготением к одним и тем же темам, при поразительной бедности поэтических образов и иллюстраций.
В течение нескольких месяцев Писарев завершает путь своего умственного развития. Утвердившись в своем реалистическом мировоззрении, он без всякого труда раскрывает перед своими читателями все детали своей программы. Типические черты человека из нового поколения вырисовываются у него с необычайной отчетливостью, и рассуждения Писарева о нуждах времени, о потребностях данной минуты, приобретают живой колорит эпохи. Реалисты, с их определенным отношением к обществу и фанатическим убеждением, что в естественных науках заключается спасение людей от всех зол, выступают теперь в качестве единственно «светлых личностей», за которыми должна последовать литература, если она не хочет удариться в реакцию. Самое понятие о благородном человеке и полезном труженике суживается в тисках реалистического учения, становится партийным лозунгом известного рода. Писарев входит в определение самых мелких подробностей реалистического образа мысли и жизни. Ничто не должно быть упущено. Все имеет высокий смысл, если лучшие силы должны быть направлены на решительную реформу старых, отживших понятий и привычек. В новом уставе каждый параграф должен иметь строго утилитарный характер, – иначе все движение может улетучиться в случайных проявлениях бессмысленных, личных капризов. У человека с реалистическими убеждениями все должно иметь определенное значение. «Человек строго реальный, говорит Писарев, видится только с теми людьми, с которыми ему нужно видеться, читает только те книги, которые ему нужно прочесть, даже ест только ту пищу, которую ему нужно есть, для того чтобы поддерживать в себе физическую силу. А поддерживает он эту силу также потому, что это кажется ему нужным, т. е. потому, что это находится в связи с общею целью его жизни». Человек с реальным направлением нуждается менее других умных и честных людей в отдыхе и может обходиться без того, что называется личным счастьем. Ему нет надобности «освежать свои силы любовью женщины, хорошею музыкою, смотрением шекспировской драмы или просто веселым обедом с добрыми друзьями». У него может быть разве только одна слабость: «хорошая сигара, без которой он не может вполне успешно работать», хотя он курит вовсе не потому, что это доставляет ему удовольствие, а потому, что курение «возбуждает его мозговую деятельность»[26 - «Русское Слово», 1864 г., сентябрь, Нерешенный вопрос, стр. 6-7.]. Вся жизнь мыслящего реалиста ясна и разумна. Он трудится только над тем, что имеет близкое или отдаленное отношение к естественным наукам. На любовь он смотрит только как на вспомогательное средство, от которого ему не трудно отказаться при возвышенном образе мысли, устремленной к более важной задаче. У него нет ни единой свободной минуты, а для умственного подкрепления и возбуждения достаточно затянуться хорошей сигарой. Искусство реалист допускает в самом ограниченном виде. Вне реализма он не признает никакой поэзии. «Кто не реалист, говорит Писарев, тот не поэт, а просто даровитый неуч или ловкий шарлатан, или мелкая, но самолюбивая козявка». Быстро подходя к своим крайним, диким выводам, Писарев отказывается признать какую-нибудь пользу от изучения русской литературы. Он протестует против одного романиста за то, что тот приписал своему герою, принадлежащему к молодому поколению, интерес к литературным занятиям. Если в этом человеке должны воплощаться преобладающие стремления теперешней молодежи и если он действительно одарен блестящими способностями, то изучение русской литературы навязано ему совершенно некстати. Передовые силы общества относятся с полным равнодушием к таким деятелям, как Тихонравов, Буслаев, Сухомлинов. Что можно изучать в русской литературе? Какая сторона её может завлечь даровитого представителя современности? С решительностью убежденного варвара, он осмеивает самую возможность интересоваться народным мировоззрением, отражающимся в народной литературе. Люди, посвятившие свою жизнь на изучение памятников народного творчества, как, например, знаменитые братья Гриммы, могут быть уподоблены Рафаэлю, за которого Базаров справедливо не хочет дать медного гроша. Если бы в Италии было десять тысяч художников с талантом Рафаэля, то это нисколько не подвинуло бы итальянский народ ни в каком отношении, даже в умственном. Если бы Германия имела тысячу таких ученых, как Яков Гримм, она не сделалась бы ни богаче, ни счастливее. «Поэтому, с убийственной решимостью заявляет Писарев, я говорю совершенно искренно, что желал бы быть лучше русским сапожником или булочником, чем русским Рафаэлем или Гриммом… Я не могу, не хочу и не должен быть ни Рафаэлем, ни Гриммом – ни в малых, ни в больших размерах». Отрицая интерес древней и народной русской литературы, Писарев за произведениями новейшего искусства признает значение только сырых материалов, на которые нечего тратить время в бесплодных эстетических разглагольствованиях[27 - «Русское Слово» 1864, август, Кукольная трагедия, стр. 53-58.]. К тому, что называется русской поэзией в тесном смысле этого слова, он относится с явной иронией. У нас были, говорит он, или зародыши поэтов, или пародии на поэта. К первым относятся Лермонтов, Гоголь, Полежаев, Крылов, Грибоедов, а к числу пародий надо отнести Пушкина и Жуковского. Первые, как бы то ни было, заслуживают уважения, как зародыши, хотя и не развернувшиеся по недостатку благоприятных обстоятельств, чего то полезного для общества. Вторые не заслуживают никакой пощады. Они процветали, «яко крин», щебетали, как певчие птицы, им жилось легко и хорошо и это останется вечным пятном на их прославленных именах. Хотя Писарев еще недавно, в своей «Кукольной трагедии», снисходительно допускал, что Пушкин умен, что стих его легок, что образы картинны, но в «Нерешенном вопросе», при постепенно возраставшем полемическом раздражении и задоре, при постоянно усиливавшемся шуме литературной стихии, яростно гнавшей в одном направлении его легковесный и утлый челн, он уже не знает удержу своему отрицанию. Он окончательно отвернулся от этой ложно вздутой славы, «ничем не связанной с современным развитием нашей умственной жизни». Имя Жуковского уже забыто, говорит он, но Пушкина мы еще как-то не решаемся забыть окончательно, хотя в действительности он уже почти забыт. Эстетические критики пустили в ход о Пушкине разные нелепые слухи, прославив его, как великого поэта, а между тем Пушкин только великий стилист – и больше ничего. Не он, а Гоголь основал новейшую литературу. Пушкину мы обязаны только нашими милыми лириками. Затем, как бы чувствуя вокруг себя шепот общего недоумения, Писарев обещает развернуть свои настоящие доказательства по этому вопросу, ошибочно решенному Белинским, в ряде готовящихся статей под названием: «Пушкин и Белинский»[28 - «Русское Слово» 1864 г. Ноябрь, Нерешенный вопрос, стр. 27-28.]. Отделавшись пока от Пушкина обещанием будущего разгрома, Писарев в небольшой главе выражает свой взгляд на искусства «пластические, тонические и мимические». По своей эксцентричной откровенности, поддерживаемой детской наивностью совершенно неразвитого в этом отношении ума, эта страница останется навсегда курьезным памятником странного культурного периода нашей жизни, с её прогрессивными гражданственными стремлениями, освобождением крестьян, судебной реформой и грубо ошибочными, хотя и в высшей степени влиятельными философскими и литературными теориями, уже тогда подрывавшими успехи социального развития. Несмотря на свою краткость, эти рассуждения Писарева о различных искусствах заключают в себе известную силу и привлекательность новизны, которая не могла не произвести впечатления на молодое общество, искавшее новых начал для жизни. Писарев прямо сознается, что он глубоко равнодушен ко всем искусствам, потому что он не верит, чтобы они «каким-бы то ни было образом» могли содействовать умственному или нравственному совершенствованию человечества. Конечно, он понимает самые различные пристрастия вкусов: один любит рюмку очищенной водки перед обедом, другой увлекается взвизгиванием Ольриджа в роли Отелло. «Ну и бесподобно, пускай утешаются». Разнообразие вкусов может, конечно, привести к устройству различных обществ, как, например, общество любителей водки, общество театралов, общество любителей слоеных пирожков, общество любителей музыки – и такие общества станут раздавать патенты на гениальность. «Вследствие этого могут появиться на свет великие люди самых различных сортов: великий Бетховен, великий Рафаэль, Канова, великий повар Дюссо, великий маркер Тюря». Но зная настоящую цену всем этим обществам с их патентованными героями, людям с просветленным реалистическим сознанием остается только осторожно проходить мимо них, «тщательно скрывая улыбку». Впрочем, для живописи, не нашедшей себе особенного наименования в приведенном перечислении видов искусства, Писарев готов сделать маленькое исключение: черчение планов необходимо для архитектуры, почти во всех сочинениях по естественным наукам требуются рисунки, – и талантливый художник своим карандашом может содействовать архитектору в его деле и ученому натуралисту в распространении полезных знаний[29 - «Русское Слово» 1864 г. Ноябрь, Нерешенный вопрос, стр. 35.].
В апрельской и июньской книгах «Русского Слова» 1865 года появились, наконец, обещанные статьи Писарева под названием «Пушкин и Белинский». В первой из них Писарев подробно разбирает «Евгения Онегина», во второй лирику Пушкина. Но мы начнем со второй, потому что в ней Писарев точно определяет свои отношения к двум предыдущим русским критикам, высказывает несколько общих теоретических соображений и, наконец, приводит к известному единству все разнообразные поэтические черты, разбросанные в стихотворениях Пушкина. Не по таланту, а по своему историческому значению это самые важные из статей Писарева. Вся его огромная известность в русском обществе основана на этом критическом разборе поэтических произведений Пушкина, невероятном по резкости тона, по открыто выраженному презрению к его светлому гению. Статьи эти, так сказать, ввели в литературу грубую утилитарную логику, чуждую всяких утонченных эстетических интересов и, забрызгав уличною грязью вдохновенные поэтические страницы, надолго убили критическое понимание русского общества. Дико насмеявшись над Пушкиным и приложив к его творчеству критерий новейшего реализма, Писарев с шумом и звоном победного ликования провозгласил полное ничтожество того, кого общественное мнение до сих пор считало лучшим представителем русского искусства. Поэт с гениальным умом и с талантом свободным и смелым, как стихия природы, был выведен на рыночную площадь и, оговоренный перед лицом толпы, как изменник её насущным интересам, подвергнут беспощадному суду её типичных, тупых и нагло-самоуверенных представителей. С этого момента в русской литературе должен был начаться тот разлив вульгарных притязаний и тиранических придирок по отношению к произведениям искусства, которому присвоено наименование либеральной тенденциозной критики и которому русское общество обязано целым рядом почти позорных ошибок в эстетических приговорах и пагубным предубеждением против высших, себе довлеющих интересов человеческой природы. До знаменитой речи Достоевского на Пушкинском празднике в Москве, когда с такою силою прозвучал протестующий голос этого фанатического апостола истинного искусства, над развитием художественной литературы тяготела узкая программа утилитаризма, сдавливавшая её рост, сковывавшая её воздействие на общественное сознание, державшая под страхом отвержения свободную работу поэтических талантов. Слово Писарева, несмотря на всю свою внутреннюю пустоту, несмотря на явный недостаток меткости и настоящего остроумия, произвело свое громадное влияние на общество, развязав его деспотические стремления, признав за его случайными, пристрастными и недальновидными суждениями значение верховного суда в вопросах, требующих для своего разрешения тонкого чутья и изысканной умственной подготовки. Вся эта серая накинь бессвязных философских идей с оттенком научного недомыслия и фанфаронской передовитости, все эти заносчивые окрики на деятелей искусства, идущих к высшей цели народного просвещения по своим самобытным путям, вся эта раздраженная нетерпимость, свирепо бичующая за малейшее уклонение от партийного шаблона – все это началось отсюда, с этих двух знаменитых статей Писарева о Пушкине. И что особенно важно заметить и что уже указано нами в наших предыдущих статьях, Писарев, в своих суждениях о Пушкине, о задачах поэзии шел по стопам не только Чернышевского и Добролюбова, но и Белинского, который в последнем периоде своей деятельности, несмотря на свою удивительную природную чуткость в вопросах искусства, оставил огромный материал для реалистической разработки такого именно рода, Писарев сам хорошо сознавал выгодность своего положения в качестве открытого партизана философских идей Чернышевского и свободного от всяких эстетических предрассудков и шелухи гегелизма преемника Белинского. Обороняясь от своих противников, он прямо ссылается на Белинского, которого называет при этом своим великим учителем. В некоторых суждениях Белинского он видит живые элементы, развернувшиеся в 1855 г. в знаменитом трактате Чернышевского. Идеи Белинского, прошедшие через научную переработку Чернышевского и получившие при этом простоту и ясность общедоступной аксиомы, восприняты им и приложены к оценке отдельных явлений русской литературы. В статьях Белинского – корень того явления, которое с такою силою стало заявлять себя на страницах «Русского Слова», вызывая на бой все то, что стояло на пути его развития. Осуждая приемы реалистической критики в лице Писарева, мы должны произнести беспристрастное, безбоязненное слово осуждения тем многочисленным и, по своему яркому таланту, крайне влиятельным реалистическим уклонениям Белинского, которые создали известную атмосферу для исступленного отрицания Писарева. «Уже в 1844 году, заявляет Писарев, была провозглашена в русской журналистике та великая идея, что искусство не должно быть целью самому себе и что жизнь выше искусства, а слишком двадцать лет спустя тот самый журнал („Отечественные Записки“), который бросил русскому обществу эти две блестящие и плодотворные идеи, с тупым самодовольством восстает против Эстетических отношений, которые целиком построены на этих двух идеях»[30 - «Русское Слово», 1865, июнь. Пушкин и Белинский, стр. 3.]. Даже самые смелые и блистательные сальтомортале Зайцева оправдываются, по мнению Писарева, этими двумя идеями, и не подлежит никакому сомнению, что между теперешними реалистами и Белинским существует самая тесная родственная связь. Кто принимает Белинского, тот, во имя простой логической последовательности, не может отказаться и от философских воззрений Чернышевского. Кто внимательно усвоил все суждения Белинского о Пушкине, в том виде, в каком они отразились в его критических статьях об «Евгении Онегине» и других произведениях Пушкина, тот должен согласиться с воззрениями Писарева, признав, что они представляют собою только законченный вывод из посылок его учителя. Оговорившись таким образом относительно главных пунктов своего единомыслия с Белинским, Писарев на нескольких страницах приводит его отдельные теоретические взгляды, не выдерживающие, по его мнению, никакой серьезной критики и затем разражается оглушительным свистом по поводу восьми лирических стихотворений Пушкина. Он приводит небольшую цитату из VIII тома Белинского, где говорится, что настоящее художественное произведение есть нечто большее, чем известная идея, втиснутая в придуманную форму. Как бы ни была верна мысль человека, если у него нет настоящего поэтического таланта, произведение его все-таки выйдет мелочным, фальшивым, уродливым и мертвым. Толпа не понимает искусства: она не видит, что без творчества поэзия не существует. Так рассуждает Белинский. Но Писарев, окончательно стряхнувший с себя прах каких либо эстетических пристрастий, свойственных ему по природе и оживлявших поэтическим огнем его юношеские заметки на страницах «Рассвета», не находит в этих мыслях ничего, кроме «богатой дани эстетическому мистицизму», который держится в обществе благодаря отъявленному шарлатанству одних и трогательной доверчивости других. По свойственной ему наивности. Белинский думает, что поэты не втискивают идеи в форму, а между тем, с уверенностью заявляет Писарев, «все поэтические произведения создаются именно таким образом: тот человек, которого мы называем поэтом, придумывает какую-нибудь мысль и потом втискивает ее в придуманную форму»[31 - «Русское Слово», 1865, июнь, Пушкин и Белинский, стр. 7.].
Поэт, как плохой портной, кроит и перекраивает, урезывает и приставляет, сшивает и утюжит до тех пор, пока в окончательном результате не получится нечто правдоподобное и благообразное. Поэтом можно сделаться, точно так же как можно сделаться профессором, адвокатом, публицистом, сапожником, ибо художник такой же ремесленник, как и все те, которые своим трудом удовлетворяют различным естественным или искусственным потребностям общества. Подобно этим людям, он нуждается в известных врожденных способностях, но у каждого «нормального и здорового экземпляра человеческой породы» обыкновенно встречается именно та доза сил, которая нужна ему для его ремесла. «Затем все остальное довершается в образовании художника впечатлениями жизни, чтением и размышлением и преимущественно упражнением и навыком». После такого простодушно-развязного вступления, Писарев, подходя к Пушкину, счищает своим рабочим ножом шелуху гегелизма с критических определений Белинского. Нашему «маленькому» Пушкину, замечает он, решительно нечего делать в знатной компании настоящих, больших, европейских талантов, к числу которых относит его Белинский. «Наш маленький и миленький Пушкин не способен не только вставить свое слово в разговор важных господ, но даже и понять то, о чем эти господа между собою толкуют». Что такое Пушкин, в самом деле? спрашивает Писарев. «Пушкин – художник?! Вот тебе раз! Это тоже что за рекомендация?» Пушкин – художник, и больше ничего. Это значит, что он пользуется своею художественною виртуозностью, как средством «посвятить всю читающую Россию в печальные тайны своей внутренней пустоты, своей духовной нищеты и своего умственного бессилия». Серьезно толковать о его значении для русской литературы напрасный труд, и в настоящее время он может иметь только историческое значение для тех, которые интересуются прошлыми судьбами русского стиля. Место Пушкина не на письменном столе современного реалиста, а в пыльном кабинете антиквария, «рядом с заржавленными латами и изломанными аркебузами». Для тех людей, в которых Пушкин не возбуждает истерической зевоты, его произведения оказываются вернейшим средством «притупить здоровый ум и усыпить человеческое чувство»[32 - «Русское Слово», 1865 г., июнь, Пушкин и Белинский, стр. 19.].
Обращаясь к отдельным лирическим стихотворениям Пушкина., Писарев с распущенностью площадного оратора коверкает в грубых и нелепых фразах его тонкие поэтические мысли. Он издевается над Пушкиным с полною откровенностью. Он хохочет над его талантом, топчет грязными охотничьими сапогами лучшие перлы Пушкинской поэзии, то комкает в нескольких фразах полные глубокого смысла лирические строфы, то, затягиваясь для возбуждения умственных сил дозволенною реалистическим уставом хорошею сигарою, размазывает на многие страницы длиннейший резонерский комментарий к какому-нибудь маленькому стихотворению. И каждое новое объяснение того или другого поэтического образа сопровождается у него надменными нотациями по адресу ловкого, но пустого стилиста, лишенного образования, чуждого лучшим интересам своей эпохи, плохо владеющего орудиями простого и ясного логического мышления. Окончательно убедившись в совершенном ничтожестве Пушкина, Писарев уже не выбирает никаких особенных выражений для передачи своей мысли: он то фамильярно подступает к самому Пушкину и, пуская ему в лицо густой дым своей сигары, как-бы приглашает его самого понять всю глубину его нравственного падения, то с игривой ужимкой обращается к передовой публике, призывая ее в свидетели недомыслия я явного умственного убожества поэта. Разбирая стихотворение Пушкина «19-ое октября 1825 года», где Пушкин в трогательных стихах вспоминает некоторых своих лицейских товарищей, Писарев приводит его отдельные куплеты и затем подвергает их особому, мучительно искусственному истолкованию в нарочито-плебейском стиле. Пушкин говорит:
Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,
Хвала тебе – Фортуны блеск холодный
Не изменил души твоей свободной:
Все тот же ты для чести и друзей.
Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись,
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.
Желая, по-видимому, представить Пушкина человеком без гордости и чувства собственного достоинства, Писарев на целой странице допекает поэта вопросами о том, почему бы фортуна могла испортить Горчакова и что особенного в том, что при встрече они дружески обнялись. Допустив, для реализации изображенного положения, что Фортуна могла разделить товарищей различием каких-нибудь двух-трех чинов, он передает всю соль поэтического куплета в следующих коротких словах: «коллежский советник великодушно обнял титулярного, и Пушкин восклицает с восторгом: хвала тебе, ваше высокоблагородие». Приводя на другой странице известные слова из стихотворения «Чернь», Писарев донимает поэта следующими необузданно-грубыми вопросами: «Ну, а ты, возвышенный кретин, ты сын небес, в чем варишь себе пищу, в горшке или в Бельведерском кумире? Или, может быть, ты питаешься только амброзиею, которая ни в чем не варится, а присылается к тебе в готовом виде из твоей небесной родины?» Писареву кажется совершенно невероятным то презрение, которое поэт обнаруживает по отношению к назойливой черни. Уверенный в том, что тщеславие составляет преобладающую страсть в деятельности чистых художников, он не может постичь, какие силы способны их двинуть против общего течения? «Все отрасли искусства, провозглашает он, всегда и везде подчинялись мельчайшим и глупейшим требованиям изменчивого общественного вкуса и прихотливой моды». Перебрав два-три стихотворения Пушкина и отпустив относительно каждого из них по несколько вульгарных шуток и пошловатых острот, Писарев, в заключение статьи, выкидывает ряд неприличных акробатических фокусов по поводу знаменитого вдохновенного пророчества Пушкина, начинающегося словами: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»… Почти задетый крылом смерти, под надвигающейся зловещей, грозовой тучей, дышащей влажным холодом, изъятый из оживленного круга своих друзей, осыпаемый низкими подметными письмами, окруженный шипящей клеветою и уже слегка удаленный от зыбкой, изменчивой симпатии легкомысленной толпы, Пушкин, в минуту духовного откровения, видит свою судьбу в ином лучшем свете.
В этом поразительном стихотворении, в котором, несмотря на ровный, далеко вперед льющийся свет надежды, все образы смягчены широкою благородною грустью, Пушкин не проронил ни одного лишнего слова, и его каждое выражение шевелит нежнейшие струны сердца. Но Писарев сделал из этого стихотворения какую-то скверную буффонаду. Дело Пушкина, восклицает он, не задумываясь над судьбою своих собственных слов, проиграно окончательно. Мыслящие реалисты имеют полное право осудить его безапелляционно. «Я буду бессмертен, говорит Пушкин, потому что я пробуждал лирой добрые чувства. Позвольте, господин Пушкин, скажут мыслящие реалисты, какие же добрые чувства вы пробуждали? Любовь к красивым женщинам? Любовь к хорошему шампанскому? Презрение к полезному труду? Уважение к благородной праздности?» Писарев уверен в полной убедительности своих доказательств, убийственности своих допросов и потому, подведя итог всем своим взглядам на Пушкина, он следующим образом передает свое настоящее мнение о нем. «В так называемом великом поэте, пишет он, я показал моим читателям легкомысленного версификатора, опутанного мелкими предрассудками, погруженного в созерцание мелких личных ощущений и совершенно неспособного анализировать и понимать великие общественные и философские вопросы нашего века…»[33 - «Русское Слово» 1865 г., июнь, Пушкин и Белинский, стр. 57. Кн. 5 Отд. I.] Стихотворение Пушкина, начавшееся торжественным аккордом, заканчивается строфою, выражающею истинно философскую твердость, которая в самой грусти одерживает полную духовную победу в настоящем и будущем. Высшее религиозное настроение дает поэту решимость мужественно встретить всякий приговор современников и потомства:
Велению Божию, о муза, будь послушна:
Обиды не страшись, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца.
Разбор «Евгения Онегина» отличается теми же красотами остроумия и тонкого понимания, какими блистает критика лирических стихотворений Пушкина. Все произведение кажется Писареву совершенно ничтожным. В нем нет даже исторической картины нравов, никаких материалов – бытовых или психологических, – для характеристики тогдашнего общества в физиологическом или патологическом отношении. Это какая-то коллекция старинных костюмов и причесок, старинных прейскурантов и афиш, «старинной мебели и старинных ужимок». Онегин – ничто иное, как Митрофанушка Простаков, одетый и причесанный по столичной моде двадцатых годов, и скука Онегина, его разочарование жизнью не могут произвести ничего, кроме нелепостей и гадостей. «Онегин скучает, как толстая купчиха, которая выпила три самовара и жалеет о том, что не может выпить их тридцать-три. Если бы человеческое брюхо не имело пределов, то Онегинская скука не могла-бы существовать. Белинский любит Онегина по недоразумению, но со стороны Пушкина тут нет никаких недоразумений»[34 - «Русское Слово» 1865 г., апрель, Пушкин и Белинский, стр. 37.]. Онегин – это вечный и безнадежный эмбрион. Расхлестав Онегина ходкими словами из современного естественно научного лексикона, Писарев упрекает Пушкина за то, что он возвысил в своем романе такие черты человеческого характера, которые сами по себе низки, пошлы и ничтожны. Пушкин, говорит он, так красиво описал мелкие чувства, дрянные мысли и пошлые поступки, что он подкупил в пользу ничтожного Онегина не только простодушную толпу читателей, но даже такого тонкого критика, как Белинский. Взяв под свою защиту «нравственную гнилость и тряпичность», прикрытую в романе сусальным золотом стихотворной риторики, Белинский восторгается Пушкиным тогда, когда его следует строго порицать и, с последовательностью убежденного реалиста, выставить на позор перед всей мыслящей Россией.
Показав в юмористическом свете фигуру Онегина, Писарев начинает выводить на чистую воду Татьяну, эту любимицу пушкинской фантазии, героиню первого русского романа, бессмертный тип русской женщины, с её поэтическими грезами, схороненными в глубине души, с её смелостью и прямотою под юношескою бурею любви, с её непоколебимою твердостью в борьбе с нравственными искушениями. С начала романа до конца она стоит перед нами живая, нежная, верная себе в каждом слове, достигая в последнем монологе чарующей горделивой красоты. Она любит Онегина, но не сделает теперь ему навстречу ни одного шага, потому-что его неожиданно вспыхнувшее чувство кажется ей мелким по мотиву. Она бросает Онегину упрек, проникнутый глубокой горечью, упрек, в том, что, не сумев понять и полюбить её душу, он увлекся теперь случайною эффектностью её положения в свете и обстановки. Не из верности условному долгу, а из нравственной гордости, не позволяющей человеку быть жертвой чужой изменчивой прихоти, она не ответит на его страстные мольбы. Суровость его прежних холодных назиданий она считает более благородною и потому менее оскорбительною для себя, чем его теперешние письма:
Тогда имели вы хоть жалость,
Хоть уважение к летам…
А нынче!.. Что к моим ногам
Вас привело? Какая малость!
Как, с вашим сердцем и умом,
Быть чувства мелкого рабом?
Она любит Онегина, но, не любимая им тою любовью, которая всегда носилась в её мечтах, и презирая, как ветошь маскарада, весь тот блеск и чад, который кружит голову Онегину, несмотря на его разочарованность, она уже не сойдет с того пути, на который решилась вступить в трагическую минуту своей жизни… Писарев, рассматривая образ Татьяны, не находит в нем ничего привлекательного и даже мало-мальски удовлетворительного с точки зрения новейших требований реализма. Голова её «засорена всякою дрянью». Она предпочитает страдать и чахнуть в мире «воображаемой» любви, чем жить и веселиться «в сфере презренной действительности». Комментируя «бестолковое» письмо Татьяны к Онегину, он перебивает приводимые им цитаты грубыми обращениями к самой Татьяне: «Это с вашей стороны очень похвально, Татьяна Дмитриевна, что вы помогаете бедным и усердно молитесь Богу, но только зачем же вы сочиняете небылицы?», «Да перестаньте же, наконец, Татьяна Дмитриевна, ведь вы уже до галлюцинаций договорились!..» Передавая смысл последнего монолога Татьяны, Писарев открывает в нем самое ничтожное прозаическое содержание. По его словам, Татьяна говорит Онегину: «Я вас все-таки люблю, но прошу вас убираться к черту. Свет мне противен, но я намерена безусловно исполнять все его требования». Татьяна ничего не любит, никого не уважает, никого не презирает, а живет себе, разгоняя непроходимую скуку «разными крошечными подобиями чувств и мыслей». Вообще говоря, Пушкин в своей Татьяне рисует с восторгом «такое явление русской жизни, которое можно и должно рисовать только с глубоким состраданием или с резкою ирониею»[35 - «Русское Слово» 1865 г., апрель, Пушкин и Белинский, стр. 38.]. Так разделывается с Татьяною стремительный критик «Русского Слова». Представив в утрированном виде некоторые рассуждения о ней Белинского, он сделал два-три дополнительных вывода в реалистическом духе и свел все произведение к заурядному и скверному по тенденции романическому рассказу. Пушкин оказался разбитым на голову, и его ложная слава, мешавшая успехам русского просвещения, рассеяна дуновением отрезвляющего ветра.
Аким Львович Волынский
Полемика с «Русским Вестником». – Писарев и Герцен о Киреевском. – Писарев о Петре Великом. – Исторические, естественно-научные, философские и педагогические статьи Писарева. – «Темное царство» в новом освещении. – Реалистический взгляд на любовь и ревность. – Первые нападки на искусство. – Пушкин и Белинский. – Разрушение эстетики. – Два романа с эмансипаторскими идеями. – «Новый тип». – Проблески новых настроений.
Аким Волынский
Литературные заметки. Статья III. Д. И. Писарев
I
Первый период своей литературной деятельности Писарев завершил тремя большими статьями, напечатанными в «Русском Слове» 1862 года: «Московские мыслители», «Русский Дон-Кихот» и «Бедная русская мысль». В «Московских мыслителях» Писарев подробно обозревает критический отдел «Русского Вестника» за 1861 год. Полемизируя с Катковым, он по пути обстреливает ядовитыми замечаниями Я. Грота, Лонгинова, торжественно отрекается от всякого спора с Юркевичем и не без апломба выставляет свое полное разногласие во всех литературных и общественных вопросах с солидными убеждениями ученой редакции «Русского Вестника». Сознавая себя деятельным поборником либерального принципа, ясного и понятного для всякого беспристрастного ума и без помощи широких научных или философских доказательств, Писарев с юмористическою усмешкою проводит параллель между публицистическими претензиями московского журнала и бойкими, быстрыми приемами радикального «Русского Слова», приемами, рассчитанными на чуткость передовых читателей к блестящим парадоксам и афоризмам, ко всякой ярко и пылко выраженной мысли. «Мы фантазеры, верхогляды, говоруны», восклицает Писарев с оттенком явной иронии над своими учеными противниками. «Мы, грешные, вязнем в тине и барахтаемся среди всяких нечистот, а Русский Вестник идет себе ровною дорогою и неспешною поступью пробирается к храму славы и бессмертия». Собираясь дать отчет о некоторых выдающихся статьях этого журнала, Писарев и не думает вооружаться против них серьезными аргументами. К чему возражать? Для кого возражать? Если его читатели не сочувствуют тем идеям, которые он выражал в прежних своих работах, они не пойдут с ним по одной дороге и в настоящем случае. При различии в мировоззрениях и радикально несходных взглядах на задачу русской журналистики, между ними не может оказаться ничего общего в понимании литературной деятельности Каткова. Если же читатели сочувствуют ему, то совершенно достаточно верно передать содержание, общий смысл важнейших, руководящих статей московского журнала, чтобы отчетливо выразить известное к ним отношение. Проницательные люди поймут, в чем дело.
Это – одна из самых слабых статей Писарева. Присутствуя при первых решительных схватках Каткова с «Современником», показавших силы враждующих сторон в их настоящем объеме. Писарев не сумел вмешаться в эту важную борьбу каким-нибудь значительным, серьезным заявлением, смелою и новою мыслью, увеличивающею шансы успеха на его стороне. Полемический поход Каткова на петербургских журналистов радикального лагеря был уже в полном разгаре, когда Писарев отдавал в печать свою пространную статью о «Русском Вестнике». В течение двенадцати месяцев обе партии успели обменяться самыми решительными возражениями, и разрыв «Русского Вестника» с либеральным движением общества обозначился с полною очевидностью. Удары Каткова в известную сторону сыпались беспрерывно, обнаруживая неистощимую энергию, движение страстей и сил к определенной, твердо намеченной цели. Пользуясь каждою оплошностью противника и превосходя его размерами литературного таланта, Катков все сильнее и сильнее набрасывался на главных коноводов либеральной партии, то уличая их в грубом философском невежестве, то со смехом обнаруживая все жалкое ничтожество их полемических придирок и громких, пышных фраз без серьезного, внутреннего содержания. Мы уже следили за всеми моментами этой кипучей, яркой борьбы между двумя видными журналами, борьбы, затеянной Катковым и доведенной им до конца с известным успехом. Несмотря на весь свой мятежный задор, Чернышевский не только не сразил своего храброго и искусного соперника, но, схватившись с ним на опасной для него почве философских рассуждений, сделал несколько явных промахов, осмеянных Катковым со всею яростью беспощадного полемиста. Ответы Чернышевского, показавшиеся молодому Писареву образцом литературной полемики, обнаружили только слабую сторону «Современника». О победе Чернышевского над Юркевичем и Катковым не могло быть и речи. Строго научные возражения Юркевича на статью «Современника» требовали объективного разбора, для которого у Чернышевского не хватало соответствующих знаний, уменья тонко разбираться в трудных вопросах метафизического мышления. Борьба с Катковым, проигранная на философской почве и чрезмерно запутанная ненужными излияниями и увертками Чернышевского, не могла окончиться торжеством «Современника» даже в самой ограниченной области. Не сознавая своего бессилия в вопросах философской науки, Чернышевский выступал на защиту примитивно справедливых требований русской жизни с арсеналом таких теоретических аргументов, которых нельзя было отстоять в серьезном споре. Он шел вперед, не сомневаясь в успехе, но шансы победы – решительной, исторической победы над реакционною силою, вставшею на пути прогрессивного движения, уменьшались с каждым днем. Союзники сближались между собою, но, обессиленные в корне фальшивым философским учением, не прибавляли новых элементов для победы, не давали свежих и светлых доказательств своей правоты перед высшими интересами русского общества…
Верный партизан Чернышевского в вопросах философии и эстетики. Писарев не мог оказать «Современнику» серьезной поддержки в его полемическом раздоре с «Отечественными Записками» и «Русским Вестником». Новых объяснений, по сравнению с доводами Чернышевского, он не давал. По типу, все его возражения, в «Схоластике XIX века», против Дудышкина, Альбертини, Громеки, Бестужева-Рюмина, ничем не отличались от жестокой расправы Чернышевского с неожиданными защитниками Юркевича на страницах умеренно либерального журнала. Все его доводы в пользу материализма, выраженные с необузданным задором, эти смелые скачки через бездны научных затруднений, от сложных теорем философии к вопросам и событиям текущей жизни, каждое частное рассуждение, отдельные афоризмы и замечания – все обнаруживало непобедимое влияние Чернышевского, овладевшее всем его существом, его симпатиями и убеждениями. При значительном литературном таланте, Писарев этими своими статьями не мог, конечно, смутить ни сотрудников «Отечественных Записок», ни такого сильного вождя начинавшейся реакции, каким был Катков. Оба журнала – петербургский, с представителями умеренного либерализма во главе, и московский, управляемый опытною рукою блестящего публициста, не могли войти в самостоятельную борьбу с молодым писателем, не показавшим, при видной свежести литературного дарования, при необычайной бойкости и резкости полемического тона, никакой серьезной умственной подготовки в научно-философском направлении. «Схоластика XIX века» произвела большую сенсацию своим эффектным красноречием, задором своих решительных афоризмов, своим смелым заступничеством за Чернышевского, но она не могла поколебать общего положения вещей в журналистике, потому что, несмотря на яркие проблески индивидуализма, не заключала в себе никаких новых теорем по сравнению с главными тезисами «Антропологического принципа» Чернышевского. А статья «Московские мыслители», по стилю и оригинальности содержания, значительно уступала всему, написанному критиком «Русского Слова» в этот период его литературной деятельности.
Под пышным заглавием «Русский Дон-Кихот» Писарев в коротенькой статье пытается набросать исчерпывающую характеристику взглядов и стремлений И. В. Киреевского, одного из самых талантливых представителей славянофильского движения. Вышедшее в 1861 году полное собрание его сочинений, в двух томах, с приложением обширных материалов для биографии Киреевского, собранных А. И. Кошелевым, давало критику «Русского Слова» полную возможность подвергнуть обстоятельному разбору ряд статей литературно-эстетического и философского характера, написанных вдохновенным языком и местами обнаруживающих поразительную глубину оригинального умственного настроения. Широкое образование Киреевского, соединенное с удивительною чистотою нравственного характера, не представляло, конечно, никакого повода для легкомысленного, рецензентского юмора и дилетантского пустословия о посторонних, к делу не относящихся, вопросах. В его рассуждениях о русской литературе, о стихотворениях Языкова, о Грибоедове, о Пушкине, о русских писательницах рассеяно столько великолепных замечаний, заслуживающих полного внимания, что, при серьезном понимании своей задачи, каждому новому критику именно на этих рассуждениях легко было показать и развернуть свое собственное эстетическое мировоззрение, свой взгляд на искусство, свое отношение к важным философским вопросам. В статьях Киреевского под названием: «Девятнадцатый век», «В ответ А. С. Хомякову», «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России», «О необходимости и возможности новых начал для философии» обрисовалась совершенно определенная точка зрения на важнейшие события европейской жизни, на задачу русской культуры, – обрисовалась целая историческая система, возникшая в уме, богатом смелыми и светлыми мыслями. Для литературного критика, идущего по самостоятельному пути, эти два тома произведений Киреевского представляли драгоценный случай высказаться с надлежащею силою по целому ряду вопросов первостепенной важности. Главным тезисам Киреевского надо было противопоставить свои собственные теоремы, продуманные во всех отношениях, в их ближайших и самых отдаленных выводах, соединенные в стройное философское учение. С полным вниманием надо было рассмотреть каждый из элементов его исторической теории, представляющей самостоятельное, широкое обобщение разнообразных фактов духовного и социального характера, потому что в споре с таким противником, как Киреевский, всякое дешевое глумление над враждебными понятиями, всякое легкомысленное бряцание воинствующими фразами не имело никакого смысла.
Но не рожденный для серьезных споров и всем своим умственным воспитанием совершенно не подготовленный для понимания таких натур, какою был Киреевский, Писарев отнесся к своей задаче с тою же легкостью и бойкостью, какою он обрушивался на разных второстепенных авторов. В «Русском Дон-Кихоте», несмотря на кричащие, победоносные фразы, нет ни одной серьезной мысли, ни одного научного аргумента против ярких доводов Киреевского, ни одного смелого и цельного обобщения, бросающего иной свет на исторические факты, собранные и по своему объясненные лучшим из русских славянофилов. Ограничиваясь мелкими по содержанию, но язвительными по форме замечаниями, Писарев не разбирает серьезно ни одной из статей Киреевского, хотя каждая из них, как мы уже сказали, заслуживала изучения с пристальным вниманием ко всем её литературным и философским особенностям. Богатый биографический материал, представленный Кошелевым, не увлек его своим превосходным психологическим содержанием, несмотря на то, что самое славянофильство показалось Писареву «психологическим явлением, возникшим вследствие неудовлетворенных потребностей» русской жизни. Ничего не доказывая, Писарев ничего серьезно не объясняет своему читателю, и вся его смелая рецензия о важном литературном явлении, при внимательном рассмотрении, должна быть признана набором звонких, но пустых фраз, производящих убогое впечатление, по сравнению с глубокими, оригинальными, местами ошибочными и односторонними, но всегда возвышенными, рассуждениями Киреевского.
Вот какими словами Писарев старается определить значение Киреевского в движении русского просвещения. Друзья и единомышленники Киреевского, пишет он, скажут, что его следует изучать, как мыслителя, что его должно уважать, как двигателя русского самосознания, что принесенная им польза будет оценена последующими поколениями. С подобными мнениями Писарев согласиться не может. По его твердому, но ничем недоказанному убеждению, «Киреевский был плохой мыслитель, он боялся мысли». Киреевский никуда не подвинул русское самосознание, и статьи его никогда не производили серьезного впечатления. Пользы Киреевский, категорически заявляет Писарев, – не принес никакой, и если последующие поколения, по какому-нибудь чуду, запомнят его имя, то они пожалеют только о печальных заблуждениях этого даровитого писателя, хотя Киреевский «был человек очень не глупый и в высшей степени добросовестный». Рассказывая вслед за Кошелевым о заграничных впечатлениях Киреевского, Писарев замечает: «мягкосердечный московский юноша мерил западную мысль крошечным аршином своих московских убеждений, которые казались ему непогрешимыми и которые разделяли с ним все убогия старушки Белокаменной». Киреевский слушал лекции известнейших профессоров, сообщал в письмах к родственникам и друзьям «остроумные заметки о методе и манере их преподавания», но при этом он сам оставался «неразвитым, наивным ребенком, не умевшим ни на минуту возвыситься над воззрениями папеньки и маменьки». В статье Киреевского «Девятнадцатый век», по мнению Писарева, не затронута ни одна реальная сторона европейской жизни. Киреевский преклоняется перед вожаками европейской мысли, не умея «взглянуть на умозрительную философию, как на хроническое поветрие, как на болезненный нарост, развившийся вследствие того, что живые силы, стремившиеся к практической деятельности, были насильственно сдавлены и задержаны». Об Европе и России Киреевский судит вкривь и вкось, «не зная фактов, не понимая их и стараясь доказать всему читающему миру, что и философия, и история, и политика нуждаются для своего оживления именно в тех понятиях, которые были привиты ему самому». В сочинениях его хороши только те места, в которых он является чистым поэтом, заявляет в одном месте Писарев, но тут же прибавляет: «повести Киреевского очень плохи, потому что в них преобладает головной элемент, они сбиваются на аллегории».
В трех статьях Киреевского: «Девятнадцатый век», «В ответ А. С. Хомякову», «О характере просвещения Европы» выразились с полною отчетливостью основные принципы его философского мировоззрения, хотя первая из этих статей относится к тому периоду его литературной деятельности, когда мысль Киреевского не достигла своего окончательного развития. В «Девятнадцатом веке» только намечены. в общей, схематической форме, те вопросы, которые занимали Киреевского до последних минут его жизни. В ясных выражениях предлагает он на суд философской критики определенную формулу западно-европейского просвещения, перечисляет все главные силы европейской истории, но, обозначив путь и направление своих будущих литературных работ, он при этом не доводит своих рассуждений до последних возможных заключений. В дальнейших статьях Киреевский видоизменяет свой взгляд на отдельные элементы европейского просвещения, оттеняя их новыми важными замечаниями, иначе определяя их природу в блестящей параллели с историческими силами русской народной культуры. Между первою и последующими статьями легла глубокая умственная работа, в которой мировоззрение Киреевского обнаружило все свои типические черты, свою духовную мощь, в которой этот несомненно большой и разнообразно одаренный ум, горевший экстазом, получил свою окончательную и характерную для русского духа формировку.
Обрисовав в крупных, ярких чертах движение европейской мысли в девятнадцатом веке, Киреевский следующим образом объясняет положение России в истории европейского просвещения. Между Россией и Европой, пишет он, стоит какая-то китайская стена, которая только сквозь некоторые свои отверстия пропускает к нам воздух просвещенного запада. Прошло уже целое тысячелетие с тех пор, как началась историческая жизнь России, но, несмотря на долгий период политической деятельности, её просвещение еще находится в зародыше. Очевидно, говорит Киреевский, что причины, мешающие правильному развитию русского общества, не могут быть случайными, но должны заключаться «в самой сущности его внутренней жизни», в коренных, первоначальных элементах национального русского быта. Эти причины могут быть определены только сопоставлением западноевропейской и русской культуры. Какими силами управлялось развитие Европы? Где главные факторы движения Европы по пути прогресса? Какие стихии спасали европейское общество от разрушительного действия разных внешних обстоятельств, постоянно возрождая в нем дух для успешной борьбы с враждебными ему элементами? Три начала легли в основание европейской истории, говорит Киреевский: христианская религия, классический мир древнего язычества и дух варварских народов, разрушивших Римскую империю. На этих началах выросло европейское общество. Классическая мысль, не перестававшая участвовать во всех областях научной и философской работы, влияла постоянно не только на светскую, но и на духовную жизнь европейских народов. Самая противоположность между христианскою и языческою культурою открывала новым идеям широкое поле развития. В постоянной борьбе с окружающими обстоятельствами, с преданиями языческих нравов и влечений, христианство только укрепляло свои силы. Посреди разногласного, нестройного, невежественного брожения противоположных стремлений, христианство естественным образом становилось средоточием всех элементов европейского развития, облагораживая политическую и социальную борьбу народов и увлекая к высшим целям и задачам могучие силы классического образования.
В России христианская религия, воспринятая в самом чистом виде, не имела такого решительного влияния на историческое развитие общества. Недостаток классических преданий, классической образованности помешал христианской мысли развернуться здесь во всем могуществе её природных сил. В Европе просвещенное единодушие, поддерживаемое общим религиозным идеалом, возбуждало постоянно одни и те же стремления в различных политических телах, спасало их от нашествий диких племен. В России народ, раздробленный по уделам на враждебные части, не связанный общими интересами просвещения, должен был очень легко подпасть владычеству татар, несмотря на все превосходство своих религиозных верований над умственною и нравственною бескультурностью этого дикого, развращенного племени. «Если-бы мы, говорит Киреевский, наследовали остатки классического мира, то религия наша имела-бы более политической силы, мы обладали-бы большею образованностью, большим единодушием и, следовательно, самая разделенность наша не имела-бы ни того варварского характера, ни таких пагубных последствий». Только со времени Петра I начинается истинное развитие России. До Петра просвещение вводилось к нам, пишет Киреевский, мало помалу, отрывисто, отчего, по мере своего появления, оно постоянно искажалось влиянием «нашей пересиливающей национальности». Но переворот, совершенный Петром, был неизбежным, хотя и насильственным переломом в русской истории, – тем переломом, который открыл классическому миру доступ в страну бытового и умственного невежества. В энергических выражениях Киреевский заступается, в конце статьи, за реформу, совершенную Петром Великим. В последнее время, говорит он, в русском обществе появилось целое множество обвинителей Петровского дела. Они говорят нам о просвещении национальном, самобытном. Они запрещают нам всякие заимствования, бранят нововведения и мечтают о коренном возвращении к старинной русской жизни. Вот опасный путь для страны, которую может спасти только широкое европейское просвещение. Французы, немцы, англичане все более и более проникаются национальными интересами и взглядами и это нисколько не мешает их дальнейшему развитию. В союзе с народными стремлениями европейская культура достигнет высшего, самобытного выражения. Но у нас искать национального значит искать необразованного, развивать его на счет европейских нововведений значит изгонять просвещение. Не имея достаточных элементов для внутреннего развития образованности, откуда возьмем мы ее, если не из Европы[1 - Полное собрание сочинений И. В. Киреевского, том I, Девятнадцатый век, стр. 83.]?
В этих немногих соображениях заключается главная мысль статьи. Обняв все европейское просвещение в одной широкой формуле, Киреевский без труда отмечает, в чем заключается важная причина умственной и политической отсталости русского общества по сравнению с западными народами. В России нет просвещения. Христианской мысли не на что опереться в борьбе с темным невежеством народных масс. Вся прошедшая история России, до насильственного переворота, совершенного Петром, можно сказать, пропала даром для интересов высшего христианского развития. Без классического элемента русское общество не выйдет на широкую политическую и умственную дорогу…
Но, как мы уже сказали, Киреевский не остановился на этих важных мыслях. В полемическом ответе Хомякову и в пространном письме на имя графа Е. Е. Комаровского добытая им формула европейского прогресса получила новое освещение и, по отношению к России, открыла широкую перспективу совершенно иных философских соображений, политических догадок и надежд. Ничего не вынимая из этой формулы, Киреевский вошел в более подробный анализ её исторического содержания и, пристально всмотревшись в события русской народной жизни, показал, что в его философских обобщениях нет ничего безотрадного для России. В самой формуле европейского развития ничто не требует никаких перемен, но её частное применение к русской истории должно быть сделано в совершенно ином направлении. К этому убеждению привела его сосредоточенная умственная работа над коренными вопросами философии и истории в течение нескольких лет. После тяжелой неудачи на поприще журнального издательства, Киреевский ушел в себя, забросил перо, замкнулся и затворился от мира. Медленно созревала в нем новая мысль, новый взгляд на русскую жизнь в её главных исторических моментах, и в заметке, служившей ответом на статью Хомякова «О старом и новом», это новое направление Киреевского впервые обозначилось с полною отчетливостью, иначе осветив прежние мысли, выраженные с громадною силою в «Девятнадцатом веке». Теперь он рисует историю католического христианства в иных словах, более мрачными красками, с другою философскою тенденциею. Римская церковь отличается от восточной только своим стремлением к рассудочности, к сухому отвлеченному рационализму, своим пристрастием к формальной логике. На западе бытие Бога доказывается силлогизмами, инквизиция, иезуитизм развились в атмосфере, насыщенной схоластическими спорами. Логическое убеждение легло в самое основание европейской жизни, сузив ширину и свободу её духовного роста, придав всей культуре западных народов характер односторонней, поверхностной мудрости. Классическое образование. не подчинившееся христианской мысли, проникшее в плоть и кровь европейского общества, задерживало движение истинно религиозного духа. «Я совсем не имею намерения писать сатиру на запад, заявляет Киреевский, никто больше меня не ценит тех удобств жизни общественной и частной, которые произошли от рационализма. Я люблю запад, я связан с ним многими неразрывными сочувствиями». Но признавая большое значение за европейскою культурою, он думает при этом, что «в конечном развитии» рассудочное просвещение уже обнаружилось «началом односторонним, обманчивым, обольстительным». В прошедшей истории России Киреевский находит некоторые элементы, в которых христианская мысль могла получить настоящую поддержку. Россия не блестела никогда «ни художествами, ни учеными изобретениями», но в ней постоянно хранились условия широкого духовного развития, «собиралось и жило то устроительное начало знания, та философия христианства, которая одна может дать правильное основание наукам»[2 - Полное собрание сочинений. Том I. В ответ А. С. Хомякову, стр. 198.]… В этих отрывочных фразах слышатся первые отголоски того нового настроения, которое с такою силою сказалось в статье «О характере просвещения Европы», напечатанной спустя двадцать лет после знаменитого дебюта Киреевского на страницах быстро угасшего «Европейца». Все движение европейской философии представилось ему в новом освещении. Его уже больше не восторгает политическое могущество католической церкви, а характерные особенности русской жизни выступили из мрака прошлого в ярком сиянии цельной, светлой, могучей веры, не заглушенной в народе никакими внешними насилиями. Раздвоение и цельность, рассудочность и разумность – вот последние выражения западно-европейской и древне-русской образованности[3 - Полное собрание сочинений. Том II. О характере просвещения Европы, стр. 276.]. На западе христианство приняло характер рассудочной отвлеченности, в России оно сохранило внутреннюю полноту духа. В Европе церковь смешалась с государством, в России она осталась всегда чуждою мирским целям. Мечтая о возрождении русского общества к новой плодотворной деятельности, Киреевский проповедует при этом необходимость разумного, осмысленного отношения к западно-европейскому просвещению. Он хотел-бы, чтобы высшие начала жизни, которые хранятся в христианском учении, господствовали над элементами рассудочного образования, не вытесняя, а обнимая их «своею полнотою». Пусть христианская мысль оживотворяет плодотворную, но ограниченную работу человеческой логики, потому что вера не может и не должна быть слепою.
Этим мыслям Киреевский не изменял уже до конца своей жизни. Все глубже проникаясь ими, он хотел подвергнуть обширной критике главные принципы рационализма в цельном, законченном философском произведении, с подробным изложением новых начал, на которых разовьется будущая духовная работа человечества. Перед самою смертью Киреевскому пришлось напечатать только первые наброски этой оригинально задуманной работы в «Русской беседе» Кошелева, из этих немногих страниц совершенно достаточно для того, чтобы судить о необычайной смелости его огромного критического таланта, о поэтической свежести и яркости его философского настроения, о могучей способности искать высшую религиозную правду в самых глубинах человеческой истории. Отдельные мысли в этой статье, носящей пространное заглавие «О необходимости и возможности новых начал для философии», критика Аристотеля, краткая, но меткая оценка Декарта, несколько горячих рассуждений о Шеллинге – проникнуты духом смелого новаторства и звучат агитационным призывом к свободному научному труду вне порабощающей власти тех или других школьных авторитетов. Основная тенденция рисуется в каждом её доводе, волнуя воображение, постоянно держа перед читателем увлекательный образ самого Киреевского, переливавшего в свои произведения все страсти своей души, боровшегося против сухой рассудочности всею полнотою своих нравственных и умственных сил.
И эти два небольших тома сочинений Киреевского, представляющие огромный интерес для понимания русского просвещения, Писарев оценил, как мы видели, с пренебрежением передового мыслителя, которому незачем разбираться в предрассудках и заблуждениях славянофильского писателя. Обвиняя «Современник» в легкомысленном отношении к деятелям славянофильского движения, Писарев сим не обнаруживает ни малейшего знакомства с их лучшими статьями, с их настоящими политическими и философскими стремлениями. Он рубит с плеча вопросы, требующие строгого изучения, самого широкого понимания, вопросы, в самой постановке которых выразилась несомненно прогрессивная потребность общества – осмыслить внутреннюю историю своего развития, уловить, постичь и разгадать черты народной психологии, незаметно направляющей его развитие по известному пути. В таком писателе, как Киреевский, помимо поразительно яркого литературного таланта, помимо огромной научной образованности, нельзя не видеть типических особенностей народного духа, и критический анализ его произведений, сделанный с необходимым беспристрастием, вернее всякой внешней пропаганды, должен открыть дорогу к самому источнику национального самосознания. Эта необычайная искренность его полу-лирических, полу-философских излияний, окруженных волнующимся туманом глубоких намеков, не всегда ясных для ума, но всегда тревожащих душу, этот патетический тон, придающий любимым идеям автора характер убежденной проповеди, – все это постоянно сближает читателя не с теми или другими мелкими вопросами данной минуты, а именно с мотивами внутренней, еще не вполне развернувшейся народной жизни. Никакая разумная, сознающая свою задачу критика не может пройти мимо Киреевского с равнодушием к тому, что волновало его в течение всей жизни, делало его энергичным бойцом за народные верования, вливало в его писания святую страсть миссионерского увлечения. В Киреевских выражается существенная особенность данной национальной культуры, и кто хочет лишить их обаяния в глазах людей, должен бороться с ними в честном бою, лицом к лицу с их действительными философскими взглядами и религиозными верованиями, проникая до глубины их логических доказательств, не оставляя без самого широкого, систематического возражения их основные теоремы, их руководящие убеждения. Можно обойти молчанием какое-нибудь мелкое явление консервативного или условно-либерального характера, но нельзя, без ущерба для литературы, для своего знамени, отделываться холостыми выстрелами дешевого остроумия, привлекая на суд критики людей, подобных Киреевскому, Хомякову и К. Аксакову. Легко блеснуть эффектным изречением, когда терзаешь, как жалкую добычу, какого-нибудь ничтожного журнального крикуна, дерзнувшего вступить в рискованную полемику с любимцем толпы, но только настоящая острота мысли, умеющей прорезаться к средоточию чужой системы, может с успехом состязаться с выдающимся талантом. Но Писарев, так же, как и автор статьи в «Современнике» под названием «Московское словенство», своим банальным глумлением над лучшими представителями славянофильской партии, мог, по закону противоречия, только укрепить то настроение умов, с которым он боролся своими несовершенными орудиями. Обе статьи – «Русский Дон Кихот» и «Московское словенство»[4 - Современник 1862, январь, Русская Литература, стр. 15-32.] – лишний раз показывают, что в прогрессивном движении нашей недавней истории не было тех сил и знании, которые одни могли обеспечить за ним настоящий успех и значение.
Но о героях славянофильского движения, в том числе о братьях Киреевских, судили в русской литературе и люди с большими знаниями и с большой политической и философской прозорливостью – и судили совершенно иначе. В немногих словах Герцена личность Киреевского оживает во всем богатстве её патетической натуры и природных талантов. Благородный ратоборец, Герцен провожал в могилу своих достойных противников торжественным звоном своего колокола, и его надгробная речь, сказанная по поводу смерти К. Аксакова, звучит высокою, светлою правдою. «Киреевские, Хомяков и Аксаков, писал он 15 января 1861 года, сделали свое дело. Долго ли, коротко ли они жили, но закрывая глаза, они могли сказать себе с полным сознанием, что они сделали то, что хотели сделать, и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром, в которой сидит Бирон и колотит ямщика, чтоб тот скакал по нивам и давил людей, то они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей». С них начинается перелом русской мысли, и хотя между ними и Герценом было огромное различие в некоторых убеждениях, но, по собственному признанию Герцена, всех их соединяла общая любовь. Это было «сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы за пророчество, чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума». В обеих партиях билось одно общее сердце, хотя лица их, как у Януса или двуглавого орла, смотрели в различные стороны. Поклонник свободы и великого времени французской революции, Киреевский не разделял пренебрежения новых старообрядцев к европейскому просвещению, в чем он сам открыто сознавался с глубокой печалью в голосе при разговоре с Грановским. Это был, пишет Герцен, человек с необыкновенными способностями, с умом обширным, политическим, страстным, с характером чистым и твердым, как сталь. О статьях его, напечатанных в № 1 «Европейца» – «Девятнадцатый век», «О слоге Вильменя», «Обозрение русской литературы», «Горе от ума на Московской сцене» – Герцен отзывается в самых восторженных выражениях. Статьи Киреевского – удивительные, пишет он, они опередили современное направление умов в самой Европе. «Какая здоровая, сильная голова, какой талант, слог…»[5 - «Дневник» А. И. Герцена, стр. 156.] Оба брата Киреевских стоят печальными тенями на рубеже народного воскресения. Преждевременно состарившееся лицо Ивана Киреевского носило резкие следы страданий и борьбы. Жизнь его не удалась. С жаром принялся он за издание журнала, но на второй книге «Европеец» был запрещен. В «Деннице» поместил он статью о Новикове, но «Денница» была схвачена и цензор Глинка посажен под арест. Этого твердого и чистого человека «разъела ржа страшного времени»[6 - Не наши, славянофилы и панславизм, Хомяков, Киреевский, К. Аксаков, П. Я. Чаадаев, стр. 301.].
Так рисует Киреевского и его единомышленников Герцен. Эта характеристика вполне сливается со словами самого Киреевского о той роли, какую, он хотел-бы играть в литературе своего времени и народа. «Мы возвратим права истинной религии, говорит Киреевский в письме к А. И. Кошелеву, изящное согласим с нравственностью, возбудим любовь к правде, глупый либерализм заменим уважением законов и чистоту жизни возвысим над чистотою слога»[7 - Полное собрание сочинений, том I, стр. 13. Материалы для биографии Кирееевкого.]. Тот не знает России и не думает о ней в глубине сердца, говорит он, обращаясь к Погодину, кто не видит и не чувствует, что из неё рождается что то великое, небывалое в мире. «Общественный дух начинает пробуждаться. Ложь и неправда, главные наши язвы, начинают обнаруживаться»… Вся страстная сила Киреевского выразилась в этих ярких строках.
Первый период литературной деятельности Писарева – до приключения с брошюрой Шедо-Фероти, т. е. до заключения его в крепость, – Писарев закончил довольно обширной рецензией на огромное исследование П. Пекарского: «Наука и литература в России при Петре Великом». Это – смело и бойко написанная статья с проблесками свободного, хотя и не вполне оригинального отношения к некоторым историческим вопросам, имевшая большой успех в обществе, даже привлекшая к себе, спустя несколько лет, при выпуске в отдельном издании, пристрастное внимание заинтересованных сфер. Писарев, по обыкновению, не орудует никакими серьезными фактами, ничего убедительно не доказывает, но, давая волю чисто публицистическому порыву, играет дерзновенными афоризмами с протестантской окраской. Самое сочинение Пекарского, в двух томах которого рассыпано множество ценных материалов, осталось в сущности без надлежащего разбора, но Писарев и не считал необходимым входить в подробное изучение того, что он сразу же, без всяких колебаний, окинув орлиным взглядом бесконечную библиографию исследования, отнес к «сухой и дряхлой официальной науке», над которою, по его мнению, «может и должен смеяться всякий живой, энергический человек». Отделав в немногих словах Пекарского, щелкнув по дороге любителей «народной подоплеки» и некстати повторив дрянную клевету Минаева на Юркевича, Писарев приступает к изложению своих собственных взглядов на роль личности в историческом процессе. По его убеждению, все великие исторические деятели только «мудрили» над жизнью народов, потому что, в сущности, в их работе не могло быть ничего оригинального, им самим принадлежащего. Образчики известной эпохи, «безответные игрушки событий», безвинные жертвы случайностей и переворотов, которые выносили их на вершины истории, эти титаны сами по себе только вредили интересам личной свободы и просвещения. Никакая крупная личность не может управлять историческим потоком. Все великие люди, совершавшие реформы с высоты своего умственного величия, все «в равной мере достойны неодобрения». Одни из них были очень умны, другие «замечательно бестолковы», но все вместе насиловали природу вещей, ведя за собою общество «к какой-нибудь мечтательной цели». Все поголовно могут быть названы «врагами человечества». Свобода постоянно приносилась в жертву «разным обширным и возвышенным целям, созревающим в разных великих и высоких головах»… Подводя итог этим общим соображениям, Писарев формулирует основную мысль статьи в следующих трех пунктах: во первых, деятельность всех великих людей была совершенно поверхностна и проходила мимо народной жизни, не шевеля и не пробуждая народного сознания, во вторых, деятельность великих людей была всегда ограничена тем кругом идей, в которых вращалась общая мысль эпохи, и в третьих, деятельность великих людей «не достигала своей цели, потому что претензии этих господ постоянно превышали их силы»[8 - «Русское Слово» 1862 г., май, Русская литература, стр. 61.].
Обращаясь к главному предмету статьи, Писарев в резких выражениях оттеняет свое отвращение ко всякого рода цивилизаторам «? la Паншин, или, что то же самое, ? la Петр Великий». Любя европейскую жизнь, мы не должны обольщаться тою бледною пародиею на европейские нравы, которая «разыгрывается высшими слоями нашего общества со времен Петра». С веселым задором Писарев взывает к настоящему европеизму, слегка иронизируя при этом над «остроумными затеями Петра Алексеевича». Деятельность Петра вовсе не имела таких плодотворных последствии, как это кажется его восторженным поклонникам. Его цивилизаторские попытки прошли мимо русского народа. Все, что он сделал, было плодом его личных соображений, не считавшихся с волею людей, которых имела в виду его реформа. Человек, не имевший во всю свою жизнь никакой цели, кроме «удовлетворения крупным прихотям своей крупной личности», он успел «прослыть великим патриотом, благодетелем своего народа и основателем русского просвещения». Нельзя не отдать Петру Алексеевичу полной дани уважения, насмешливо восклицает Писарев, не многим удается так ловко «подкупить в свою пользу суд истории»[9 - «Русское Слово» 1862 г., май, Русская литература стр. 63.]. Он прослыл великим русским деятелем, хотя «жизнь тех семидесяти миллионов, которые называются общим именем русского народа, вовсе не изменилась-бы в своих отправлениях», если-бы, например, Шакловитому удалось совершить задуманное им преступление[10 - «Русское Слово», 1862 г., апрель, Русская литература стр. 43.].
Такова общая историческая философия статьи, таково применение этой философии к частному историческому явлению. По верному замечанию, так сказать, случайного критика Писарева – Ф. Павленкова, – в рецензии на книги Пекарского нет ничего особенно оригинального, принадлежащего собственным творческим теориям Писарева: то, что высказано Писаревым, в гораздо более резкой и неумолимой форме «можно встретить на каждой странице Бокля, Дрэпера и других». У Бокля мы встретим «буквально то же самое», что так поразило некоторых читателей в произведении Писарева. «Книга Бокля, говорил Павленков, была разобрана в предыдущих номерах Русского Слова, положения его цитировались чуть не в каждой журнальной книжке, затем деятельность Петра тоже была оценена в журнале, – таким образом задача Писарева состояла в обсуждении значения Петра с боклевской точки зрения»[11 - Материалы для пересмотра действующих постановлений о цензуре и печати, ч. III, отдел первый, 1870 г., стр. 284.]. Но хотя Писарев и шел по стопам такого модного для того времени авторитета, как Бокль, тем не менее в его рассуждениях о роли великих людей в истории человечества нет надлежащей отчетливости и сколько-нибудь убедительных логических пояснений. Смешав воедино исторических героев, «состоявших на действительной службе», с теми великими людьми, которые в самом деле управляли судьбами и просвещением народов, не прикасаясь к официальному рулю государств, Писарев не показывает, какими силами совершается прогрессивное движение всякого общества. В каждом народе выдающимися работниками являются постоянно отдельные личности, глубже проникающиеся его духом, его умственными и нравственными понятиями, ярче сознающие его потребности и счастливою отгадкою находящие новые начала для переустройства жизни. они бросают новые идеи в народные массы, взбудораженные общим воздухом эпохи, я без всякого внешнего насилия, не прикасаясь к жезлу и мечу, совершают великие умственные перевороты. Об этих героях никаким образом нельзя сказать, что их деятельность поверхностна и не пробуждает народного сознания. Наивно утверждать, что пропаганда этих людей ограничена кругом современных понятий и никогда не достигала своей цели, потому-что их «претензии постоянно превышали их силы». Не разобравшись серьезно в этом коренном вопросе о значении личности в истории, Писарев отнесся и к деятельности Петра Великого без должной научной осторожности в обобщениях и характеристиках. Его насмешка не глубока и отдает юношескою хлесткостью. Как-бы ни были различны взгляды на роль Петра в русской истории, к каким-бы выводам ни пришла серьезная научная критика, при оценке его реформаторской деятельности, нельзя не видеть, что в бойкой статье Писарева нет серьезного содержания. Он не рисует личности Петра, этой богато одаренной индивидуальности с яркою печатью новаторских стремлений, как это мог-бы сделать человек, глубоко и вдумчиво изучивший эпоху, уловивший сквозь туман исторического отдаления живые настроения современного общества. Можно держаться по отношению к Петру I и такого мнения, какого держится, например, как это нам известно, граф X Толстой, широко изучивший документы времени для некогда задуманного им романа, но тогда весь центр тяжести должен быть перенесен от личности Петра в глубину общества, потому-что нельзя не видеть резких и многознаменательных социальных переворотов этого яркого исторического момента. Есть минуты в жизни Петра, писал Киреевский, когда, действуя иначе, он был-бы согласнее сам с собою, согласнее с тою мыслью, которая одушевляла его в продолжение всей жизни. Но общий характер его деятельности, но образованность России, им начатая, – «вот основания его величия и нашего будущего благоденствия». Будем осмотрительны, продолжает Киреевский, когда речь идет о преобразовании, им совершенном. Не забудем, что судить о нем легкомысленно есть дело неблагодарности и невежества[12 - Полное собрание сочинений, том I, Девятнадцатый век, стр. 83.]. Не представив никаких доказательств, совершенно не изучив самостоятельно не только документов эпохи, но даже и обширного труда Пекарского, Писарев не пошел по тому пути, по которому мог-бы с огромным успехом идти такой талант, как Толстой, и не обнаружил той осмотрительности, которую проповедовал Киреевский. Отрицая всякое значение за деятельностью Петра Великого и не признавая в то же время во всей прошедшей жизни русского общества ничего отрадного, прогрессивного, деятельного, Писарев даже не выдерживает своей мысли до конца и, соглашаясь с крайними славянофильскими мнениями относительно личности Петра, отрекается от тех посылок, которые давали смысл и даже некоторую силу их историческим выводам. Мы не думаем, говорит Писарев, чтобы «мыслящий историк» мог в истории московского государства до Петра подметить какие-нибудь симптомы народной жизни. «Мы не думаем, чтобы он нашел что-нибудь, кроме жалкого подавленного прозябания. Мы не думаем, чтобы мыслящий гражданин России мог смотреть на прошедшее своей родины без горести и без отвращения»[13 - «Русское Слово», 1862 г., апрель, Русская литература, стр. 42.]. Но если таково было до Петра прошедшее России, то каким образом при нем что-нибудь могло сложиться в темной жизни русского общества? Из каких элементов, спрашивается, образовалась эта новая прогрессивная сила, которая без Петра I сломила-бы то, что разбито им ради новых форм государственного существования? Писарев не видит, что решительно отрицая всякий смысл в допетровской жизни, он этим самым неизбежно возвышает значение и силу Петра и впадает в явное противоречие с самим собою. Писареву кажется, что русский народ должен проснуться сам собою и что всякая инициатива в этом направлении со стороны не имеет никакого смысла, «Мы его не разбудим, говорит он, воплями и воззваниями, не разбудим любовью и ласками… Если он проснется, то проснется сам по себе, по внутренней потребности». Среди множества примеров, показывающих в Писареве отсутствие деятельного социального инстинкта, это один из самых типических, не требующий никаких комментариев.
II
Мы разобрали все более или менее важное, напечатанное Писаревым в течение первых лет его литературной деятельности. С 3-го июля 1862 года по 18-ое ноября 1866 года и затем, с этого последнего момента до его смерти, перед нами проходит вся его умственная работа, напряженная, кипучая, смелая, – сначала в крепости, потом на свободе. Не покидая литературной критики, Писарев печатает целый ряд статей по историческим, естественно-научным, философским и педагогическим вопросам, которые, по-видимому, занимали его ум, хотя и не увлекали его к серьезному изучению науки. Он популяризирует европейских авторов, передавая их мысли в ясных выражениях, нигде не критикуя их по существу, никогда не поднимаясь выше или даже на один уровень с их идеями. Писарев сам сознавал ограниченность своих знаний и, со свойственной ему откровенностью, не стеснялся признаваться в этом перед своими читателями в тех самых статьях, которые должны были ввести их в круг новейших научных идей. «Я не специалист, и читал до сих пор очень мало по естественным наукам», пишет он на заключительных страницах своих пространных очерков о Дарвине под названием «Прогресс в мире животных и растений». Он отлично понимает, что при наличных сведениях он не может быть признан образцовым популяризатором. Не видя кругом себя людей, которые могли-бы выполнить по отношению к обществу истинно просветительную задачу, он готов «изобразить своей особой деревянную ложку, которую немедленно можно и даже должно бросить под стол, когда на этот стол явится благородный металл». Но при всей ограниченности научной подготовки, Писарев не перестает занимать своих читателей бесконечно длинными компиляциями, написанными прекрасным слогом, но без широких обобщений, без определенного исторического или философского плана. В этих пространных статьях, составленных в большинстве случаев по двум-трем книгам, разбросано множество своеобразных характеристик и не везде выдержана последовательность основных логических соображений. Исторические темы интересовали Писарева почти столько же, сколько и темы естественно-научные. Напечатав еще в 1861 году свое студенческое сочинение об Аполлонии Тианском, не представляющее, несмотря на превосходный материал, живого изображения этой замечательной, несколько загадочной личности, Писарев сейчас же вслед за этой работой помещает в «Русском Слове» довольно бойкую характеристику Меттерниха. Спустя несколько месяцев он публикует свои «Очерки из истории печати во Франции» – почему-то под псевдонимом И. П. Рагодина – и затем исторические статьи становятся его постоянным вкладом в первый отдел журнала. В обширной компиляции «Очерки из истории труда» он излагает идеи американского писателя Кэри, в длинной статье, озаглавленной «Историческое развитие европейской мысли» он идет по стопам известного исследования Дрэпера, в других своих компиляциях он передает важные, но общеизвестные факты, относящиеся к перелому в умственной жизни средневековой Европы, и, наконец, в целом ряде эскизов он рисует события, предшествовавшие французской революции и создавшие ее. Несмотря на темперамент крайнего индивидуалиста и даже вопреки собственному убеждению, Писарев во всех этих статьях остается в высшей степени объективным повествователем, лишь иногда выражающим определенные, субъективные суждения о явлениях и лицах, приобретших широкую историческую известность. Определив однажды задачу историка, как «осмысление события с личной точки зрения»[14 - «Русское Слово» 1861 г., сентябрь, Иностранная литература, стр. 3.], Писарев в первой главе своих «Исторических эскизов» сам же вооружается против всякого излишнего субъективизма в такого рода работах. «Дело историка, пишет он, рассказать и объяснить. Дело читателя передумать и понять предлагаемое объяснение»[15 - Сочинения Д. И. Писарева, ч. VIII, изд. 1872 г., Исторические эскизы, стр. 69.]. В настоящем историческом рассказе нет места ни для похвал, ни для порицания, и вот почему можно сказать, что вся «колоссальная знаменитость» Маколея основана, в сущности, на ложном приеме. Он рисует исторические портреты и торжественно произносит над историческими деятелями оправдательные или обвинительные приговоры, хотя такая адвокатская или прокурорская декламация должна быть признана вопиющею нелепостью. В том месте, где Писарев сделал впервые определение исторической науки, он простирает свой субъективизм до того, что дает каждой политической партии право иметь свою собственную всемирную историю, потому что «история есть и всегда будет теоретическим оправданием известных практических убеждений, составившихся путем жизни и имеющих свое положительное значение в настоящем»[16 - «Русское Слово» 1861 г., сентябрь, Иностранная литература, 3-4.]. В своих «Исторических эскизах» он уже не считает возможным что-либо оправдывать или обвинять в жизни народов с современной точки зрения, потому что он пришел к твердому убеждению, что «всякое отдельное событие, как бы оно ни было ужасно или величественно, есть только неизбежное и очень простое следствие таких же неизбежных и простых причин»[17 - Сочинения Д. И. Писарева, ч. VIII, изд. 1872 г., стр. 70.].
Не большею самостоятельностью отличаются, как мы это уже отчасти знаем, и статьи Писарева по естественно-научным и философским вопросам. Вся его обширная пропаганда идей Дарвина в статье «Прогресс в мире животных и растений» не заключает в себе ни одной самостоятельной мысли и при том пестрит совершенно наивными и ненужными излияниями по адресу читателя. Превознеся Дарвина в выражениях, не обнаруживающих настоящей, научной компетентности, и поглумившись в заключение над его немецкими оппонентами, которые фамильярно обзываются при этом «милашками» и приравниваются к Пульхерии Ивановне и купчихе Кабановой, Писарев уверенным взмахом руки повергает во прах гениального в своем роде Ламарка и Жофруа-Сент-Иллера. Разрушая старые воззрения в естествознании, Писарев молодцевато прогуливается вокруг побежденной им системы, восклицая: «Принцип, принцип! Каково ты себя, друг мой, чувствуешь?» В другом месте Писарев, желая развить самостоятельную мысль в духе Дарвина, делает следующую игривую оговорку, обличающую однако некоторую неуверенность в своей научной правоспособности: «Если Дарвин, пишет он, позволяет медведю превратиться почти в кита, то, пожалуй, почему бы и моему воробью не превратиться, не говорю в крота, а в подземное и, разумеется, совершенно не летающее и не совсем зоркое животное? Pourquoi pas? Однако я все-таки не решусь этого сказать. Дарвину хорошо храбриться, он знает, что не наврет. А я на этот счет, при сильной наклонности моей к широким умозрениям, побаиваюсь за себя ежеминутно»[18 - Сочинения Д. И. Писарева, ч. VI, изд. 1866 г. Прогресс в мире животных и растении, стр. 197.]. В статье под названием «Подвиги европейских авторитетов» Писарев передает знаменитый спор Пастера с французскими учеными, защищавшими теорию произвольного зарождения – Пуше, Жоли и Мюссе, при чем рисует в комических чертах Пастера, отрицавшего за их учением научную солидность. Писареву представлялось, что механическая теория навеки обеспечила за собою полное господство, и знаменитые возражения Пастера, основанные на блестящих экспериментах, кажутся ему какими-то подозрительными происками ловкого чиновника от науки, не дорожащего её истинными, прогрессивными интересами. По непривычке к осторожности, необходимой в разрешении научных споров, он в решительные минуты изменяет скромному сознанию своей некомпетентности и систематически гнет в сторону гетерогенистов, не давая при этом никаких материалов для анализа их воззрений и в то же время грубо размалевывая портрет их противника. Заметим, кстати, в этом пункте, что вопрос, не перестававший волновать умы лучших европейских ученых, можно сказать еще на этих днях был представлен в его настоящей стадии в брошюре талантливого русского профессора И. П. Бородина «Протоплазма и витализм». Если бы науке, пишет Бородин, удалось неопровержимым образом доказать возможность зарождения хотя бы наипростейшего живого существа из бездушных веществ мертвой природы, если бы ей удалось уничтожить грань, отделяющую в природе живое от мертвого, подобно тому, как она блестяще стерла границы, разделявшие некогда растительное и животное царства, то пошатнулся бы один из важнейших оплотов витализма. Но механическое воззрение теряет постоянно доверие ученых и, говоря словами профессора К. Тимирязева, вся история попыток открыть самозарождение организмов должна быть признана рядом более и более решительных поражений. После блестящих опытов Пастера, заявляет Бородин, угасла всякая надежда на возможность самозарождения даже мельчайших живых существ – бактерий. Наука все решительнее и громче провозглашает, что живое порождается только живым. Но изображая в таком виде положение главного вопроса, затронутого в свое время на страницах «Русского Слова», профессор Бородин делает при этом некоторую фактическую ошибку – по отношению к Писареву. «Когда велся знаменитый спор Пастера с гетерогенистами, пишет профессор Бородин, симпатии всего нашего либерального лагеря, с покойным Писаревым во главе, были решительно на стороне Пастера, а Пуше, Жоли и вообще всю компанию гетерогенистов громили ретроградами, обскурантами. Вот уже истинно своя своих не познаша»[19 - И. И. Бородин. Протоплазма и витализм, издание журнала «Мир Божий». Спб. 1895 г., стр. 25-26.]. Профессор Бородин прекрасно понимает, что Писареву, при его миросозерцании, естественно было держать сторону оппонентов Пастера, и, приписывая ему солидарность с Пастером, он отказывает ему в логической последовательности. Но Писарев в настоящем случае не изменил себе, и статья его «Подвиги европейских авторитетов», напечатанная в июньской книге «Русского Слова» 1865 года, служит тому неопровержимым доказательством.
К попыткам философского мышления, теоретического и практического, нужно отнести следующие статьи Писарева: «Пчелы», «Исторические идеи Огюста Конта», «Времена метафизической аргументации» и «Популяризаторы отрицательных доктрин». «Пчелы» представляют довольно остроумную сатиру в аллегорической форме, высмеивающую некоторые одряхлевшие формы социальной жизни. Статейка написана с талантом и обнаруживает в Писареве способность к тонкому политическому юмору без резкой гражданственной крикливости. Полная движения, борьбы и шума, общественных катаклизмов и торжественных празднеств, проносится перед нами своеобразная жизнь пчел, во многом напоминая людскую жизнь. Писарев выдерживает до конца основную тенденцию статьи, в высокой степени сочувственную рабочим силам всякого общества, хотя по отдельным фразам можно догадаться, что его политический индивидуализм не был особенно последовательным и решительным. «Исторические идеи Огюста Конта» составляют в сущности одно целое со статьею «Времена метафизической аргументации», напечатанною впервые в январской книге «Русского Слова» 1866 года, но в отдельном издании слитою с первою. Писарев, не разбирая и даже не излагая главных теоретических начал Контовской философии, пространно говорит об исторических идеях Конта, не подвергая их при этом никакой критике. Теологический период в жизни человечества не отличается в изображении Писарева никакою рельефностью, и суждения критика о первобытных религиях не идут дальше самых поверхностных обобщений. Отличительные черты позитивного мышления поняты Писаревым по дилетантски, а основные особенности метафизического направления представлены в его статье в таком извращенном виде, который, по своей наивности, не может быть признан правильным отражением даже контовской системы. Не будем останавливаться и на компилятивной работе «Популяризаторы общественных доктрин», примыкающей к двум предшествующим очеркам, в которой он с необычайной развязностью издевается над «бабьей» натурой Руссо и хлещет за недостаток ума Вольтера, и отметим, в заключение настоящей главы, несколько статей его по педагогическим вопросам. Об одной из этих статей – «Наша университетская наука» – мы уже упоминали в биографии Писарева. Она написана прекрасным, спокойным языком и в заключительных рассуждениях, посвященных общему образованию, содержит несколько метких замечаний о нашем гимназическом и университетском воспитании. Осмеяв старые педагогические приемы, Писарев требует полной реформы низшего образования и расширения свободы обучения в университетских аудиториях. В основу гимназической программы должно быть положено изучение математических и естественных наук – вот идея, которая проходит по всем его рассуждениям, делая его ярым поборником реализма против всех видов современного классицизма. Эта же идея светится в его обширной статье под названием «Школа и жизнь», заключающей его собственную учебную программу – низшую и высшую. Она же руководит им и при изложении взглядов Вирхова на воспитание женщин, при рассмотрении известной книги Юманса «Modern culture», содержащей в себе публичные лекции Тиндаля, Добени, Паджета и других об умственных потребностях современного общества, при составлении предисловия к «Урокам элементарной физиологии» Гекели. Враждою ко всякого рода классицизму проникнута и его резкая, почти взбешенная полемика против Шаврова, автора статьи «Классическое и реальное воспитание», напечатанной в «Дне»[20 - «День», 1865. № 16, 17, 19. Педагогические очерки; I Классическое и реальное образование. И Открытые и закрытые учебные заведения. No№ 34, 35. Семейство и школа. М. Шаврова.]. Не сдерживая потока бранных слов, хотя и давая понять читателю, что соперник его отнюдь не принадлежит к числу жалких фразеров из «Московских Ведомостей», Писарев яростно обороняет свои реалистические убеждения от всякого компромисса, от всякой возможной поправки или оговорки. В самом разгаре своей публицистической агитации, развернувшись во всей своей неумолимой, но наивной приверженности к реализму, Писарев не щадит противника, проповедующего более гармоническое воспитание гуманных и образовательных стремлений. Эта статья полна шумных криков, оскорбительных придирок и заносчивых поучений, совершенно незаслуженных мало известным, но серьезным автором.
III
В этом периоде своей деятельности Писарев окончательно входит в круг своих любимых реалистических идей и понятий. Без малейших сомнений и колебаний он разрешает теперь эстетические и моральные вопросы, выводя на строгий, беспощадный суд реализма лучших русских писателей. Все прошедшие воззрения, юношеская наклонность к красоте и изяществу окончательно исчезают, уступая место духу смелой, но прозаической публицистики, производящих полное замешательства в его критических приемах и суждениях. Статьи его приобретают вызывающий характер, не смягчаемый никакими случайными проблесками эстетического чувства, а слог становится грубо-популярным, подчас вульгарным, несмотря на поэтические темы критической разработки. Его мысли сосредоточиваются в одном направлении, сокращаясь в содержании и, может быть, вследствие исключительных внешних условий, при которых он писал эти статьи, не обогащаясь никакими свежими, яркими, идущими из самой жизни впечатлениями. Образ Базарова, в том патетическом, но узком истолковании, о котором мы уже говорили, завладел его умом. Каждое частное его соображение доказывается теперь ссылкою на Базарова, направляется Базаровым, вдохновляется Базаровым. Общие рассуждения, до бесконечности растянутые, утомляющие своими бесчисленными повторениями, вращаются в магическом кругу одних и тех же вопросов, не затрагивающих сущность и свойства рассматриваемых художественных произведений, но глубоко волнующих настроения прогрессивной толпы. Полемика с «Современником», возникшая по поводу Базарова, разожженная неожиданным преступлением некогда верных вассалов Чернышевского, появление романа «Что делать?», показавшего новых людей в борьбе с обстоятельствами жизни и бросившего заманчивый свет отдаленной утопии на волнения и страсти современности, – все это окончательно закалило молодого критика «Русского Слова». Базаров и Лопухов, Одинцова и Вера Павловна, взгляды Чернышевского на эстетические отношения искусства к действительности – вот тот материал, которым Писарев постоянно пользуется в своих новых статьях. Доведя до крайних выводов главные мысли Чернышевского, он с неукротимою энергиею набрасывается на русскую эстетическую литературу, разнося ударами своего острого ножа пустую, вздутую славу разных литературных авторитетов, усыплявших русскую публику своим сладкогласным пением, разбивая вековые предрассудки в широкой области эстетических пристрастий. Никому никакой пощады, ни с кем никакого союза, кроме истинного властителя современных дум, так же как и он сброшенного волною жестоких событий с видной и твердой жизненной позиции. Никому никакого сочувствия, кроме Чернышевского. Даже Добролюбов в этот кипучий момент его умственной деятельности не внушает ему полной симпатии. «Если бы Белинский и Добролюбов поговорили между собою с глазу на глаз, с полной откровенностью, заявляет Писарев в сентябре 1864 года в статье своей Нерешенный вопрос, то они разошлись бы между собою на очень многих пунктах. А если бы мы поговорили таким же образом с Добролюбовым, то мы не сошлись бы с ним почти ни на одном пункте»[21 - «Русское Слово» 1864 г., сентябрь, Нерешенный вопрос, стр. 36.]. Ему представляется, что преследуя эстетиков «меткими и справедливыми насмешками», Добролюбов сам в очень многом сходился со своими всегдашними противниками, восхищался «общими впечатлениями», не всегда отдавался спокойному, разумному анализу. Чтобы наглядным образом показать свое полное разногласие с этим недавно умершим критиком «Современника», Писарев еще в марте 1864 года печатает статью под названием «Мотивы русской драмы». Добролюбов нашел какой-то светлый луч в темном царстве своеволия и насилия. Он поддался порыву эстетического чувства и возвел в перл создания образ заурядной Катерины. Нам придется быть строже и последовательнее Добролюбова, говорит Писарев. Нам необходимо защитить его идеи против его собственных увлечений. Статья его об Островском была настоящею литературною ошибкою. Взгляд Добролюбова на Катерину не верен, потому что ни одно светлое явление не может ни возникнуть, ни сложиться в темном царстве патриархальной русской семьи. Обращаясь к самой драме Островского, Писарев следующим образом низводит Катерину с той высоты, на которую поставил ее Добролюбов. Во всех её поступках и ощущениях, пишет он, нас поражает прежде всего резкая несоразмерность между причинами и следствиями. Каждое внешнее впечатление потрясает весь её организм, самое ничтожное событие, самый пустой разговор производит целый переворот в её мыслях, чувствах и поступках. Кабаниха ворчит – Катерина от этого изнывает, Борис Григорьевич бросил несколько нежных взглядов – Катерина влюбляется. Варвара сказала мимоходом несколько слов о Борисе, Катерина заранее считает себя погибшей женщиной. При свидании с Борисом она сначала кричит: «поди прочь, окаянный человек», а вслед за тем кидается ему на шею. Когда приезжает Тихон, она вдруг начинает терзаться угрызениями совести, доходит до полу сумасшествия, хотя Борис живет в том же городе и, «прибегая к маленьким хитростям и предосторожностям, можно было бы кое когда видеться и наслаждаться жизнью». Грянул гром, полоумная барыня прошла по сцене с двумя лакеями, – и Катерина бросается к ногам своего мужа с полным покаянием в грехах. Случайно произнесенное ею слово «могила» возбуждает в ней мысль о самоубийстве: «прыжок в Волгу – и драма оканчивается». Обрисовав таким образом ничтожество Катерины и затем показав её постоянные внутренние противоречия, Писарев схватывается с теми старыми эстетическими понятиями, которые мешают сложиться правильному отношению к человеческим страстям и которые даже такого человека, как Добролюбов, поставили на узкую тропинку, ведущую «в глушь и болото». К людям, а следовательно и к их художественным отражениям в поэтических произведениях надо относиться с точки зрения естественно-научного натурализма, и тогда не трудно будет найти истинное мерило человеческого величия или падения. Критик, чуждый эстетической рутины, следующий в своем мировоззрении за идеями Фохта, Молешотта, Бюхнера, проникшийся учением Дарвина и Бокля, увидит светлое явление только в том человеке, который умеет быть счастливым и приносить пользу себе и другим. Всякого рода карлики и уроды, само собою ясно, только по ошибке могут привлекать к себе симпатии мыслящего человека. Люди, которым обстоятельства подставляют постоянно «разноцветные фонари» под глаза, не могут служить светочами жизни. Способность страдать, ослиная кротость, нелепые порывы бессильного отчаяния – только мешают развитию реалистических идей в обществе. Средневековым людям, даже Шекспиру, было еще извинительно принимать «большие человеческие глупости за великие явления природы», но нам, людям XIX столетия, пора уже называть вещи их настоящими именами[22 - «Русское Слово», 1864, Мотивы русской драмы, стр. 37.].
Вот как оценивает одно из замечательных русских произведений Писарев. Проводя границу между собственными воззрениями и воззрениями Добролюбова и желая остаться верным принципам строгого и в этом случае совершенно бесплодного индивидуализма, он пересматривает старый литературный вопрос и на ярком художественном примере обнаруживает непреклонную прямолинейность своих убеждений. Но, разойдясь с Добролюбовым, Писарев не проливает ни одного светлого луча на явления жизни, изображенные сильным и характерным талантом. В известной статье Добролюбова слышатся живые публицистические ноты, открываются какие-то просветы из мрачного настоящего к восходящему из-за темной тучи солнцу. При господствующем гражданственном настроении, Добролюбов, со свойственной ему иногда тонкой едкостью, набрасывает несколько блестящих характеристик, прекрасно передающих типические свойства разбираемого произведения. Постоянно держа перед своим сознанием мысль о живой личной работе, он правильно шел от освобождения личности к широкому социальному освобождению. В рассуждениях Писарева о драме Островского, совпадающих с его рассуждениями о «бедной русской мысли», публицистическая идея, вытеснившая окончательно все чисто критические приемы, приводит его к такому бессодержательному индивидуализму, который оставляет без какого-бы то ни было разрешения социальный вопрос. Совершенно не вникая в исторические затруднения, преодолеваемые в борьбе за освобождение, не признавая значения за психологическими протестами отдельных единиц, Писарев всю надежду возлагает на естественно-научное просвещение молодых поколений, на отрезвляющее воздействие анатомических вивисекций. «Пока один Базаров окружен тысячами людей, не способных его понимать, восклицает Писарев, до тех пор Базарову следует сидеть за микроскопом и резать лягушек и печатать книги и статьи с анатомическими рисунками». Только это и нужно: «в лягушке заключается спасение и обновление русского народа». Вот ясная дорога к эмансипации общества. А что касается страстей, треволнений любви с её приливами ревности, отчаяния – все это пустые предрассудки старины, прекрасно разоблаченные в романе «Что делать?» Посмотрите на Веру Павловну: она отказалась от корсета, завела мастерскую и смело завладела своим счастьем, великодушно подброшенным ей её реалистически-просвещенным мужем, Лопуховым. Для Веры Павловны, заявляет Писарев, даже немыслимы те огорчения, которые выпадают на долю ординарных женщин. Она знает на перечет все свои нужды, умеет контролировать все свои желания, сама отыскивает средства для удовлетворения своим потребностям. её любовные отношения, без оттенка пустой ревности, протекают среди сознательного труда на свою и чужую пользу. «Я всегда смотрел на любовь, говорит Писарев, не как на самостоятельную цель, а как на превосходное и незаменимое вспомогательное средство». Как настоящий реалист, имеющий высокие положительные задачи, он совершенно застрахован против всяких разочарований и охлаждений. Ощущение ревности обрекает женщину на вечную, унизительную и тягостную зависимость от любимого человека. Это уродливое психическое явление, указывающее «на страшную внутреннюю пустоту» тех людей, для которых любовь составляет «высшее благо и единственную цель существования». У этих несчастных людей нет никакой любимой деятельности. Они не принимают никакого участия в общей работе человечества. Все величайшие усилия человеческой мысли, все колоссальные события новейшей, истории, все животрепещущие надежды и стремления лучших людей совершенно им неизвестны. «Взаимная любовь, замечает Писарев, конечно, дает много наслаждений, больше, чем хороший обед, больше, чем роскошная квартира, больше, чем оперная музыка. Но наполнять всю жизнь взаимною любовью, не видеть в жизни ничего выше и обаятельнее взаимной любви, не уметь, в случае надобности, отказаться от этого наслаждения, – это значит не иметь понятия о настоящей жизни, это значит не подозревать, как велик и силен человеческий ум и какие неисчерпаемые сокровища неотъемлемых наслаждений скрыты в сером веществе нашего головного мозга»[23 - «Русское Слово» 1864 г., август, Литературное обозрение, стр. 37-38.]. Так рассуждает Писарев о любви и о ревности в статье своей «Кукольная трагедия с букетом гражданской скорби» и в том же направлении он рисует, с терпеливою постепенностью, романические отношения Базарова и Одинцовой в «Нерешенном вопросе». Писарев понимает причину, помешавшую Базарову увлечь Одинцову, он признает, что чувство его выразилось некрасиво, в такой форме, которая напугала тонкую, чуткую организацию Одинцовой. Но верный своим реалистическим понятиям, не видя в любви никакого высшего элемента, он с полемическим сарказмом обсуживает поведение Одинцовой, её кокетство, её упорное желание отыскать и разбудить в Базарове скрытую поэтическую силу. Весь этот тонко написанный роман, в котором художник незаметно подтачивает устои Базаровской философии, заставляет на наших глазах колебаться могучую, почти героическую фигуру под напором живой струи непобедимых душевных запросов, в изложении Писарева приобретает узкий смысл, сводится к простой иллюстрации его реалистической программы. Несчастная развязка любви Базарова есть, по мнению Писарева, только результат недомыслия Одинцовой в этом вопросе. Ее связала эстетика: в чувстве Базарова не было той «внешней миловидности, joli ? voir», которую Одинцова совершенно бессознательно считает необходимым атрибутом всякого любовного пафоса. Не будь у Одинцовой подобного печального предрассудка, все сложилось-бы так, как это достойно двух мыслящих реалистов. При естественно-научном взгляде на любовь, как на «вспомогательное средство», при самом наивном истолковании глубоких страстей, овладевающих человеческою душою, Писарев должен был легко покончить с тем сложным вопросом, который так трудно разрешается в жизни и в настоящих художественных произведениях отражается во всей своей трагической запутанности. С наивностью, почти невероятною в устах человека, когда-либо жившего сердцем, Писарев совершенно не допускает самой возможности ревности, охлаждения, каких-либо недоразумений или драм в союзе двух людей, связанных между собою, при любви, общими реалистическими убеждениями, общим реалистическим трудом. «Черт знает, что за чепуха! восклицает он. Охладеть к другу потому, что он десять лета был другом. Разочароваться в этом друге потому, что мы вместе с ним постарели на десять лет. Искать себе новой привязанности, когда старый друг живет со мною в одном доме. Скажите, пожалуйста, есть ли человеческий смысл в подобных предположениях»?[24 - «Русское Слово» 1864, октябрь, Нерешенный вопрос, стр. 55-56.]. Глубоко проникнутый своими понятиями, настоящий реалист, в духе Базарова, как его понимает Писарев, не только не должен, но и не может терзаться какими-бы то ни было любовными неудачами, не только не должен, но и не может ревновать. Таковы были твердые, в своем роде благородные, но лишенные глубины и понимания души, убеждения Писарева в 1864 году, выраженные им с юношескою силою и пылкостью – в статьях, которые он писал в невольном уединении, в тиши каземата, вдали от солнечного света, от настоящей жизни с её прихотливою зыбью на поверхности, скрывающею под собою темную и опасную глубину. Еще за два года перед тем Писарев, быть может, охватывал этот вопрос шире, чем в указанных статьях. Тогда он думал о любви, как человек, хотя и имеющий определенные убеждения, но без той прямолинейности и ограниченности, которая привела его к ряду категорических жизненных выводов, лишенных всякого основания. Коснувшись этого вопроса в статье своей «Бедная русская мысль», Писарев не без тонкости замечает, что при разрешении его приходится иметь дело с целою областью неизвестных, непредвиденных и случайных сил, о которые часто разбиваются заранее придуманные теории. «Кто из нас не знает, например, спрашивает он, что ревность – чепуха, что чувство свободно, что полюбить и разлюбить не от нас зависит, и что женщина не виновата, если изменяет вам и отдается другому? Кто из нас не ратовал словом и пером за свободу женщины? А пусть случится этому бойцу испытать в своей любви огорчение… Что же выйдет? Неужели вы думаете, что он утешит себя теоретическими доводами и успокоится в своей безукоризненно-гуманной философии»[25 - «Русское Слово», 1862, апрель, Русская литература, стр. 35.]? Выражая эти правдивые, искренние сомнения, Писарев был очень близок к пониманию действительной жизни и, может быть, принимал в соображение личный опыт. Он был тогда еще очень не далек от того времени, когда он, потеряв господство над собою, в минуту ревнивого отчаяния, явился на дебаркадер Николаевской железной дороги, скрыв лицо под маской и вооружившись хлыстом, чтобы выместить свою ревнивую злобу на счастливом сопернике. В 1864 году все непосредственные впечатления жизни, не проникая за стены крепостного заключения, уже не шевелили в нем интереса к тем психическим явлениям, которые ум его, лишенный от природы философской или художественной глубины, не постигал в своем чисто теоретическом движении… Мысль его, достигнув известной высоты, еще на первых порах его литературной деятельности, уже больше не развивалась, не обогащалась никакими свежими эмпирическими материалами и потому должна была, в конце концов, выродиться в какую-то бесплодную, радикальную схоластику, с бесконечным повторением одних и тех же доводов и постоянным тяготением к одним и тем же темам, при поразительной бедности поэтических образов и иллюстраций.
В течение нескольких месяцев Писарев завершает путь своего умственного развития. Утвердившись в своем реалистическом мировоззрении, он без всякого труда раскрывает перед своими читателями все детали своей программы. Типические черты человека из нового поколения вырисовываются у него с необычайной отчетливостью, и рассуждения Писарева о нуждах времени, о потребностях данной минуты, приобретают живой колорит эпохи. Реалисты, с их определенным отношением к обществу и фанатическим убеждением, что в естественных науках заключается спасение людей от всех зол, выступают теперь в качестве единственно «светлых личностей», за которыми должна последовать литература, если она не хочет удариться в реакцию. Самое понятие о благородном человеке и полезном труженике суживается в тисках реалистического учения, становится партийным лозунгом известного рода. Писарев входит в определение самых мелких подробностей реалистического образа мысли и жизни. Ничто не должно быть упущено. Все имеет высокий смысл, если лучшие силы должны быть направлены на решительную реформу старых, отживших понятий и привычек. В новом уставе каждый параграф должен иметь строго утилитарный характер, – иначе все движение может улетучиться в случайных проявлениях бессмысленных, личных капризов. У человека с реалистическими убеждениями все должно иметь определенное значение. «Человек строго реальный, говорит Писарев, видится только с теми людьми, с которыми ему нужно видеться, читает только те книги, которые ему нужно прочесть, даже ест только ту пищу, которую ему нужно есть, для того чтобы поддерживать в себе физическую силу. А поддерживает он эту силу также потому, что это кажется ему нужным, т. е. потому, что это находится в связи с общею целью его жизни». Человек с реальным направлением нуждается менее других умных и честных людей в отдыхе и может обходиться без того, что называется личным счастьем. Ему нет надобности «освежать свои силы любовью женщины, хорошею музыкою, смотрением шекспировской драмы или просто веселым обедом с добрыми друзьями». У него может быть разве только одна слабость: «хорошая сигара, без которой он не может вполне успешно работать», хотя он курит вовсе не потому, что это доставляет ему удовольствие, а потому, что курение «возбуждает его мозговую деятельность»[26 - «Русское Слово», 1864 г., сентябрь, Нерешенный вопрос, стр. 6-7.]. Вся жизнь мыслящего реалиста ясна и разумна. Он трудится только над тем, что имеет близкое или отдаленное отношение к естественным наукам. На любовь он смотрит только как на вспомогательное средство, от которого ему не трудно отказаться при возвышенном образе мысли, устремленной к более важной задаче. У него нет ни единой свободной минуты, а для умственного подкрепления и возбуждения достаточно затянуться хорошей сигарой. Искусство реалист допускает в самом ограниченном виде. Вне реализма он не признает никакой поэзии. «Кто не реалист, говорит Писарев, тот не поэт, а просто даровитый неуч или ловкий шарлатан, или мелкая, но самолюбивая козявка». Быстро подходя к своим крайним, диким выводам, Писарев отказывается признать какую-нибудь пользу от изучения русской литературы. Он протестует против одного романиста за то, что тот приписал своему герою, принадлежащему к молодому поколению, интерес к литературным занятиям. Если в этом человеке должны воплощаться преобладающие стремления теперешней молодежи и если он действительно одарен блестящими способностями, то изучение русской литературы навязано ему совершенно некстати. Передовые силы общества относятся с полным равнодушием к таким деятелям, как Тихонравов, Буслаев, Сухомлинов. Что можно изучать в русской литературе? Какая сторона её может завлечь даровитого представителя современности? С решительностью убежденного варвара, он осмеивает самую возможность интересоваться народным мировоззрением, отражающимся в народной литературе. Люди, посвятившие свою жизнь на изучение памятников народного творчества, как, например, знаменитые братья Гриммы, могут быть уподоблены Рафаэлю, за которого Базаров справедливо не хочет дать медного гроша. Если бы в Италии было десять тысяч художников с талантом Рафаэля, то это нисколько не подвинуло бы итальянский народ ни в каком отношении, даже в умственном. Если бы Германия имела тысячу таких ученых, как Яков Гримм, она не сделалась бы ни богаче, ни счастливее. «Поэтому, с убийственной решимостью заявляет Писарев, я говорю совершенно искренно, что желал бы быть лучше русским сапожником или булочником, чем русским Рафаэлем или Гриммом… Я не могу, не хочу и не должен быть ни Рафаэлем, ни Гриммом – ни в малых, ни в больших размерах». Отрицая интерес древней и народной русской литературы, Писарев за произведениями новейшего искусства признает значение только сырых материалов, на которые нечего тратить время в бесплодных эстетических разглагольствованиях[27 - «Русское Слово» 1864, август, Кукольная трагедия, стр. 53-58.]. К тому, что называется русской поэзией в тесном смысле этого слова, он относится с явной иронией. У нас были, говорит он, или зародыши поэтов, или пародии на поэта. К первым относятся Лермонтов, Гоголь, Полежаев, Крылов, Грибоедов, а к числу пародий надо отнести Пушкина и Жуковского. Первые, как бы то ни было, заслуживают уважения, как зародыши, хотя и не развернувшиеся по недостатку благоприятных обстоятельств, чего то полезного для общества. Вторые не заслуживают никакой пощады. Они процветали, «яко крин», щебетали, как певчие птицы, им жилось легко и хорошо и это останется вечным пятном на их прославленных именах. Хотя Писарев еще недавно, в своей «Кукольной трагедии», снисходительно допускал, что Пушкин умен, что стих его легок, что образы картинны, но в «Нерешенном вопросе», при постепенно возраставшем полемическом раздражении и задоре, при постоянно усиливавшемся шуме литературной стихии, яростно гнавшей в одном направлении его легковесный и утлый челн, он уже не знает удержу своему отрицанию. Он окончательно отвернулся от этой ложно вздутой славы, «ничем не связанной с современным развитием нашей умственной жизни». Имя Жуковского уже забыто, говорит он, но Пушкина мы еще как-то не решаемся забыть окончательно, хотя в действительности он уже почти забыт. Эстетические критики пустили в ход о Пушкине разные нелепые слухи, прославив его, как великого поэта, а между тем Пушкин только великий стилист – и больше ничего. Не он, а Гоголь основал новейшую литературу. Пушкину мы обязаны только нашими милыми лириками. Затем, как бы чувствуя вокруг себя шепот общего недоумения, Писарев обещает развернуть свои настоящие доказательства по этому вопросу, ошибочно решенному Белинским, в ряде готовящихся статей под названием: «Пушкин и Белинский»[28 - «Русское Слово» 1864 г. Ноябрь, Нерешенный вопрос, стр. 27-28.]. Отделавшись пока от Пушкина обещанием будущего разгрома, Писарев в небольшой главе выражает свой взгляд на искусства «пластические, тонические и мимические». По своей эксцентричной откровенности, поддерживаемой детской наивностью совершенно неразвитого в этом отношении ума, эта страница останется навсегда курьезным памятником странного культурного периода нашей жизни, с её прогрессивными гражданственными стремлениями, освобождением крестьян, судебной реформой и грубо ошибочными, хотя и в высшей степени влиятельными философскими и литературными теориями, уже тогда подрывавшими успехи социального развития. Несмотря на свою краткость, эти рассуждения Писарева о различных искусствах заключают в себе известную силу и привлекательность новизны, которая не могла не произвести впечатления на молодое общество, искавшее новых начал для жизни. Писарев прямо сознается, что он глубоко равнодушен ко всем искусствам, потому что он не верит, чтобы они «каким-бы то ни было образом» могли содействовать умственному или нравственному совершенствованию человечества. Конечно, он понимает самые различные пристрастия вкусов: один любит рюмку очищенной водки перед обедом, другой увлекается взвизгиванием Ольриджа в роли Отелло. «Ну и бесподобно, пускай утешаются». Разнообразие вкусов может, конечно, привести к устройству различных обществ, как, например, общество любителей водки, общество театралов, общество любителей слоеных пирожков, общество любителей музыки – и такие общества станут раздавать патенты на гениальность. «Вследствие этого могут появиться на свет великие люди самых различных сортов: великий Бетховен, великий Рафаэль, Канова, великий повар Дюссо, великий маркер Тюря». Но зная настоящую цену всем этим обществам с их патентованными героями, людям с просветленным реалистическим сознанием остается только осторожно проходить мимо них, «тщательно скрывая улыбку». Впрочем, для живописи, не нашедшей себе особенного наименования в приведенном перечислении видов искусства, Писарев готов сделать маленькое исключение: черчение планов необходимо для архитектуры, почти во всех сочинениях по естественным наукам требуются рисунки, – и талантливый художник своим карандашом может содействовать архитектору в его деле и ученому натуралисту в распространении полезных знаний[29 - «Русское Слово» 1864 г. Ноябрь, Нерешенный вопрос, стр. 35.].
В апрельской и июньской книгах «Русского Слова» 1865 года появились, наконец, обещанные статьи Писарева под названием «Пушкин и Белинский». В первой из них Писарев подробно разбирает «Евгения Онегина», во второй лирику Пушкина. Но мы начнем со второй, потому что в ней Писарев точно определяет свои отношения к двум предыдущим русским критикам, высказывает несколько общих теоретических соображений и, наконец, приводит к известному единству все разнообразные поэтические черты, разбросанные в стихотворениях Пушкина. Не по таланту, а по своему историческому значению это самые важные из статей Писарева. Вся его огромная известность в русском обществе основана на этом критическом разборе поэтических произведений Пушкина, невероятном по резкости тона, по открыто выраженному презрению к его светлому гению. Статьи эти, так сказать, ввели в литературу грубую утилитарную логику, чуждую всяких утонченных эстетических интересов и, забрызгав уличною грязью вдохновенные поэтические страницы, надолго убили критическое понимание русского общества. Дико насмеявшись над Пушкиным и приложив к его творчеству критерий новейшего реализма, Писарев с шумом и звоном победного ликования провозгласил полное ничтожество того, кого общественное мнение до сих пор считало лучшим представителем русского искусства. Поэт с гениальным умом и с талантом свободным и смелым, как стихия природы, был выведен на рыночную площадь и, оговоренный перед лицом толпы, как изменник её насущным интересам, подвергнут беспощадному суду её типичных, тупых и нагло-самоуверенных представителей. С этого момента в русской литературе должен был начаться тот разлив вульгарных притязаний и тиранических придирок по отношению к произведениям искусства, которому присвоено наименование либеральной тенденциозной критики и которому русское общество обязано целым рядом почти позорных ошибок в эстетических приговорах и пагубным предубеждением против высших, себе довлеющих интересов человеческой природы. До знаменитой речи Достоевского на Пушкинском празднике в Москве, когда с такою силою прозвучал протестующий голос этого фанатического апостола истинного искусства, над развитием художественной литературы тяготела узкая программа утилитаризма, сдавливавшая её рост, сковывавшая её воздействие на общественное сознание, державшая под страхом отвержения свободную работу поэтических талантов. Слово Писарева, несмотря на всю свою внутреннюю пустоту, несмотря на явный недостаток меткости и настоящего остроумия, произвело свое громадное влияние на общество, развязав его деспотические стремления, признав за его случайными, пристрастными и недальновидными суждениями значение верховного суда в вопросах, требующих для своего разрешения тонкого чутья и изысканной умственной подготовки. Вся эта серая накинь бессвязных философских идей с оттенком научного недомыслия и фанфаронской передовитости, все эти заносчивые окрики на деятелей искусства, идущих к высшей цели народного просвещения по своим самобытным путям, вся эта раздраженная нетерпимость, свирепо бичующая за малейшее уклонение от партийного шаблона – все это началось отсюда, с этих двух знаменитых статей Писарева о Пушкине. И что особенно важно заметить и что уже указано нами в наших предыдущих статьях, Писарев, в своих суждениях о Пушкине, о задачах поэзии шел по стопам не только Чернышевского и Добролюбова, но и Белинского, который в последнем периоде своей деятельности, несмотря на свою удивительную природную чуткость в вопросах искусства, оставил огромный материал для реалистической разработки такого именно рода, Писарев сам хорошо сознавал выгодность своего положения в качестве открытого партизана философских идей Чернышевского и свободного от всяких эстетических предрассудков и шелухи гегелизма преемника Белинского. Обороняясь от своих противников, он прямо ссылается на Белинского, которого называет при этом своим великим учителем. В некоторых суждениях Белинского он видит живые элементы, развернувшиеся в 1855 г. в знаменитом трактате Чернышевского. Идеи Белинского, прошедшие через научную переработку Чернышевского и получившие при этом простоту и ясность общедоступной аксиомы, восприняты им и приложены к оценке отдельных явлений русской литературы. В статьях Белинского – корень того явления, которое с такою силою стало заявлять себя на страницах «Русского Слова», вызывая на бой все то, что стояло на пути его развития. Осуждая приемы реалистической критики в лице Писарева, мы должны произнести беспристрастное, безбоязненное слово осуждения тем многочисленным и, по своему яркому таланту, крайне влиятельным реалистическим уклонениям Белинского, которые создали известную атмосферу для исступленного отрицания Писарева. «Уже в 1844 году, заявляет Писарев, была провозглашена в русской журналистике та великая идея, что искусство не должно быть целью самому себе и что жизнь выше искусства, а слишком двадцать лет спустя тот самый журнал („Отечественные Записки“), который бросил русскому обществу эти две блестящие и плодотворные идеи, с тупым самодовольством восстает против Эстетических отношений, которые целиком построены на этих двух идеях»[30 - «Русское Слово», 1865, июнь. Пушкин и Белинский, стр. 3.]. Даже самые смелые и блистательные сальтомортале Зайцева оправдываются, по мнению Писарева, этими двумя идеями, и не подлежит никакому сомнению, что между теперешними реалистами и Белинским существует самая тесная родственная связь. Кто принимает Белинского, тот, во имя простой логической последовательности, не может отказаться и от философских воззрений Чернышевского. Кто внимательно усвоил все суждения Белинского о Пушкине, в том виде, в каком они отразились в его критических статьях об «Евгении Онегине» и других произведениях Пушкина, тот должен согласиться с воззрениями Писарева, признав, что они представляют собою только законченный вывод из посылок его учителя. Оговорившись таким образом относительно главных пунктов своего единомыслия с Белинским, Писарев на нескольких страницах приводит его отдельные теоретические взгляды, не выдерживающие, по его мнению, никакой серьезной критики и затем разражается оглушительным свистом по поводу восьми лирических стихотворений Пушкина. Он приводит небольшую цитату из VIII тома Белинского, где говорится, что настоящее художественное произведение есть нечто большее, чем известная идея, втиснутая в придуманную форму. Как бы ни была верна мысль человека, если у него нет настоящего поэтического таланта, произведение его все-таки выйдет мелочным, фальшивым, уродливым и мертвым. Толпа не понимает искусства: она не видит, что без творчества поэзия не существует. Так рассуждает Белинский. Но Писарев, окончательно стряхнувший с себя прах каких либо эстетических пристрастий, свойственных ему по природе и оживлявших поэтическим огнем его юношеские заметки на страницах «Рассвета», не находит в этих мыслях ничего, кроме «богатой дани эстетическому мистицизму», который держится в обществе благодаря отъявленному шарлатанству одних и трогательной доверчивости других. По свойственной ему наивности. Белинский думает, что поэты не втискивают идеи в форму, а между тем, с уверенностью заявляет Писарев, «все поэтические произведения создаются именно таким образом: тот человек, которого мы называем поэтом, придумывает какую-нибудь мысль и потом втискивает ее в придуманную форму»[31 - «Русское Слово», 1865, июнь, Пушкин и Белинский, стр. 7.].
Поэт, как плохой портной, кроит и перекраивает, урезывает и приставляет, сшивает и утюжит до тех пор, пока в окончательном результате не получится нечто правдоподобное и благообразное. Поэтом можно сделаться, точно так же как можно сделаться профессором, адвокатом, публицистом, сапожником, ибо художник такой же ремесленник, как и все те, которые своим трудом удовлетворяют различным естественным или искусственным потребностям общества. Подобно этим людям, он нуждается в известных врожденных способностях, но у каждого «нормального и здорового экземпляра человеческой породы» обыкновенно встречается именно та доза сил, которая нужна ему для его ремесла. «Затем все остальное довершается в образовании художника впечатлениями жизни, чтением и размышлением и преимущественно упражнением и навыком». После такого простодушно-развязного вступления, Писарев, подходя к Пушкину, счищает своим рабочим ножом шелуху гегелизма с критических определений Белинского. Нашему «маленькому» Пушкину, замечает он, решительно нечего делать в знатной компании настоящих, больших, европейских талантов, к числу которых относит его Белинский. «Наш маленький и миленький Пушкин не способен не только вставить свое слово в разговор важных господ, но даже и понять то, о чем эти господа между собою толкуют». Что такое Пушкин, в самом деле? спрашивает Писарев. «Пушкин – художник?! Вот тебе раз! Это тоже что за рекомендация?» Пушкин – художник, и больше ничего. Это значит, что он пользуется своею художественною виртуозностью, как средством «посвятить всю читающую Россию в печальные тайны своей внутренней пустоты, своей духовной нищеты и своего умственного бессилия». Серьезно толковать о его значении для русской литературы напрасный труд, и в настоящее время он может иметь только историческое значение для тех, которые интересуются прошлыми судьбами русского стиля. Место Пушкина не на письменном столе современного реалиста, а в пыльном кабинете антиквария, «рядом с заржавленными латами и изломанными аркебузами». Для тех людей, в которых Пушкин не возбуждает истерической зевоты, его произведения оказываются вернейшим средством «притупить здоровый ум и усыпить человеческое чувство»[32 - «Русское Слово», 1865 г., июнь, Пушкин и Белинский, стр. 19.].
Обращаясь к отдельным лирическим стихотворениям Пушкина., Писарев с распущенностью площадного оратора коверкает в грубых и нелепых фразах его тонкие поэтические мысли. Он издевается над Пушкиным с полною откровенностью. Он хохочет над его талантом, топчет грязными охотничьими сапогами лучшие перлы Пушкинской поэзии, то комкает в нескольких фразах полные глубокого смысла лирические строфы, то, затягиваясь для возбуждения умственных сил дозволенною реалистическим уставом хорошею сигарою, размазывает на многие страницы длиннейший резонерский комментарий к какому-нибудь маленькому стихотворению. И каждое новое объяснение того или другого поэтического образа сопровождается у него надменными нотациями по адресу ловкого, но пустого стилиста, лишенного образования, чуждого лучшим интересам своей эпохи, плохо владеющего орудиями простого и ясного логического мышления. Окончательно убедившись в совершенном ничтожестве Пушкина, Писарев уже не выбирает никаких особенных выражений для передачи своей мысли: он то фамильярно подступает к самому Пушкину и, пуская ему в лицо густой дым своей сигары, как-бы приглашает его самого понять всю глубину его нравственного падения, то с игривой ужимкой обращается к передовой публике, призывая ее в свидетели недомыслия я явного умственного убожества поэта. Разбирая стихотворение Пушкина «19-ое октября 1825 года», где Пушкин в трогательных стихах вспоминает некоторых своих лицейских товарищей, Писарев приводит его отдельные куплеты и затем подвергает их особому, мучительно искусственному истолкованию в нарочито-плебейском стиле. Пушкин говорит:
Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,
Хвала тебе – Фортуны блеск холодный
Не изменил души твоей свободной:
Все тот же ты для чести и друзей.
Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись,
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.
Желая, по-видимому, представить Пушкина человеком без гордости и чувства собственного достоинства, Писарев на целой странице допекает поэта вопросами о том, почему бы фортуна могла испортить Горчакова и что особенного в том, что при встрече они дружески обнялись. Допустив, для реализации изображенного положения, что Фортуна могла разделить товарищей различием каких-нибудь двух-трех чинов, он передает всю соль поэтического куплета в следующих коротких словах: «коллежский советник великодушно обнял титулярного, и Пушкин восклицает с восторгом: хвала тебе, ваше высокоблагородие». Приводя на другой странице известные слова из стихотворения «Чернь», Писарев донимает поэта следующими необузданно-грубыми вопросами: «Ну, а ты, возвышенный кретин, ты сын небес, в чем варишь себе пищу, в горшке или в Бельведерском кумире? Или, может быть, ты питаешься только амброзиею, которая ни в чем не варится, а присылается к тебе в готовом виде из твоей небесной родины?» Писареву кажется совершенно невероятным то презрение, которое поэт обнаруживает по отношению к назойливой черни. Уверенный в том, что тщеславие составляет преобладающую страсть в деятельности чистых художников, он не может постичь, какие силы способны их двинуть против общего течения? «Все отрасли искусства, провозглашает он, всегда и везде подчинялись мельчайшим и глупейшим требованиям изменчивого общественного вкуса и прихотливой моды». Перебрав два-три стихотворения Пушкина и отпустив относительно каждого из них по несколько вульгарных шуток и пошловатых острот, Писарев, в заключение статьи, выкидывает ряд неприличных акробатических фокусов по поводу знаменитого вдохновенного пророчества Пушкина, начинающегося словами: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»… Почти задетый крылом смерти, под надвигающейся зловещей, грозовой тучей, дышащей влажным холодом, изъятый из оживленного круга своих друзей, осыпаемый низкими подметными письмами, окруженный шипящей клеветою и уже слегка удаленный от зыбкой, изменчивой симпатии легкомысленной толпы, Пушкин, в минуту духовного откровения, видит свою судьбу в ином лучшем свете.
В этом поразительном стихотворении, в котором, несмотря на ровный, далеко вперед льющийся свет надежды, все образы смягчены широкою благородною грустью, Пушкин не проронил ни одного лишнего слова, и его каждое выражение шевелит нежнейшие струны сердца. Но Писарев сделал из этого стихотворения какую-то скверную буффонаду. Дело Пушкина, восклицает он, не задумываясь над судьбою своих собственных слов, проиграно окончательно. Мыслящие реалисты имеют полное право осудить его безапелляционно. «Я буду бессмертен, говорит Пушкин, потому что я пробуждал лирой добрые чувства. Позвольте, господин Пушкин, скажут мыслящие реалисты, какие же добрые чувства вы пробуждали? Любовь к красивым женщинам? Любовь к хорошему шампанскому? Презрение к полезному труду? Уважение к благородной праздности?» Писарев уверен в полной убедительности своих доказательств, убийственности своих допросов и потому, подведя итог всем своим взглядам на Пушкина, он следующим образом передает свое настоящее мнение о нем. «В так называемом великом поэте, пишет он, я показал моим читателям легкомысленного версификатора, опутанного мелкими предрассудками, погруженного в созерцание мелких личных ощущений и совершенно неспособного анализировать и понимать великие общественные и философские вопросы нашего века…»[33 - «Русское Слово» 1865 г., июнь, Пушкин и Белинский, стр. 57. Кн. 5 Отд. I.] Стихотворение Пушкина, начавшееся торжественным аккордом, заканчивается строфою, выражающею истинно философскую твердость, которая в самой грусти одерживает полную духовную победу в настоящем и будущем. Высшее религиозное настроение дает поэту решимость мужественно встретить всякий приговор современников и потомства:
Велению Божию, о муза, будь послушна:
Обиды не страшись, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца.
Разбор «Евгения Онегина» отличается теми же красотами остроумия и тонкого понимания, какими блистает критика лирических стихотворений Пушкина. Все произведение кажется Писареву совершенно ничтожным. В нем нет даже исторической картины нравов, никаких материалов – бытовых или психологических, – для характеристики тогдашнего общества в физиологическом или патологическом отношении. Это какая-то коллекция старинных костюмов и причесок, старинных прейскурантов и афиш, «старинной мебели и старинных ужимок». Онегин – ничто иное, как Митрофанушка Простаков, одетый и причесанный по столичной моде двадцатых годов, и скука Онегина, его разочарование жизнью не могут произвести ничего, кроме нелепостей и гадостей. «Онегин скучает, как толстая купчиха, которая выпила три самовара и жалеет о том, что не может выпить их тридцать-три. Если бы человеческое брюхо не имело пределов, то Онегинская скука не могла-бы существовать. Белинский любит Онегина по недоразумению, но со стороны Пушкина тут нет никаких недоразумений»[34 - «Русское Слово» 1865 г., апрель, Пушкин и Белинский, стр. 37.]. Онегин – это вечный и безнадежный эмбрион. Расхлестав Онегина ходкими словами из современного естественно научного лексикона, Писарев упрекает Пушкина за то, что он возвысил в своем романе такие черты человеческого характера, которые сами по себе низки, пошлы и ничтожны. Пушкин, говорит он, так красиво описал мелкие чувства, дрянные мысли и пошлые поступки, что он подкупил в пользу ничтожного Онегина не только простодушную толпу читателей, но даже такого тонкого критика, как Белинский. Взяв под свою защиту «нравственную гнилость и тряпичность», прикрытую в романе сусальным золотом стихотворной риторики, Белинский восторгается Пушкиным тогда, когда его следует строго порицать и, с последовательностью убежденного реалиста, выставить на позор перед всей мыслящей Россией.
Показав в юмористическом свете фигуру Онегина, Писарев начинает выводить на чистую воду Татьяну, эту любимицу пушкинской фантазии, героиню первого русского романа, бессмертный тип русской женщины, с её поэтическими грезами, схороненными в глубине души, с её смелостью и прямотою под юношескою бурею любви, с её непоколебимою твердостью в борьбе с нравственными искушениями. С начала романа до конца она стоит перед нами живая, нежная, верная себе в каждом слове, достигая в последнем монологе чарующей горделивой красоты. Она любит Онегина, но не сделает теперь ему навстречу ни одного шага, потому-что его неожиданно вспыхнувшее чувство кажется ей мелким по мотиву. Она бросает Онегину упрек, проникнутый глубокой горечью, упрек, в том, что, не сумев понять и полюбить её душу, он увлекся теперь случайною эффектностью её положения в свете и обстановки. Не из верности условному долгу, а из нравственной гордости, не позволяющей человеку быть жертвой чужой изменчивой прихоти, она не ответит на его страстные мольбы. Суровость его прежних холодных назиданий она считает более благородною и потому менее оскорбительною для себя, чем его теперешние письма:
Тогда имели вы хоть жалость,
Хоть уважение к летам…
А нынче!.. Что к моим ногам
Вас привело? Какая малость!
Как, с вашим сердцем и умом,
Быть чувства мелкого рабом?
Она любит Онегина, но, не любимая им тою любовью, которая всегда носилась в её мечтах, и презирая, как ветошь маскарада, весь тот блеск и чад, который кружит голову Онегину, несмотря на его разочарованность, она уже не сойдет с того пути, на который решилась вступить в трагическую минуту своей жизни… Писарев, рассматривая образ Татьяны, не находит в нем ничего привлекательного и даже мало-мальски удовлетворительного с точки зрения новейших требований реализма. Голова её «засорена всякою дрянью». Она предпочитает страдать и чахнуть в мире «воображаемой» любви, чем жить и веселиться «в сфере презренной действительности». Комментируя «бестолковое» письмо Татьяны к Онегину, он перебивает приводимые им цитаты грубыми обращениями к самой Татьяне: «Это с вашей стороны очень похвально, Татьяна Дмитриевна, что вы помогаете бедным и усердно молитесь Богу, но только зачем же вы сочиняете небылицы?», «Да перестаньте же, наконец, Татьяна Дмитриевна, ведь вы уже до галлюцинаций договорились!..» Передавая смысл последнего монолога Татьяны, Писарев открывает в нем самое ничтожное прозаическое содержание. По его словам, Татьяна говорит Онегину: «Я вас все-таки люблю, но прошу вас убираться к черту. Свет мне противен, но я намерена безусловно исполнять все его требования». Татьяна ничего не любит, никого не уважает, никого не презирает, а живет себе, разгоняя непроходимую скуку «разными крошечными подобиями чувств и мыслей». Вообще говоря, Пушкин в своей Татьяне рисует с восторгом «такое явление русской жизни, которое можно и должно рисовать только с глубоким состраданием или с резкою ирониею»[35 - «Русское Слово» 1865 г., апрель, Пушкин и Белинский, стр. 38.]. Так разделывается с Татьяною стремительный критик «Русского Слова». Представив в утрированном виде некоторые рассуждения о ней Белинского, он сделал два-три дополнительных вывода в реалистическом духе и свел все произведение к заурядному и скверному по тенденции романическому рассказу. Пушкин оказался разбитым на голову, и его ложная слава, мешавшая успехам русского просвещения, рассеяна дуновением отрезвляющего ветра.