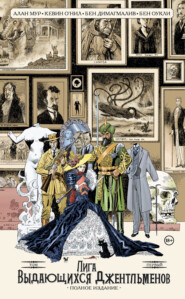По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Иерусалим
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Повернуться, свихнуться, ум за разум, шарики за ролики: в семье Альмы многие делали этот мысленный поворот. Она воображала, будто при этом внутри разума вдруг появляется угол, который нельзя заметить издали, в отличие от сгиба улицы. Он невидимый или почти невидимый – возможно, прозрачный, как теплица или привидение. Линии угла по отношению ко всем остальным линиям мыслей лежат совершенно непредсказуемо, а потому вместо того, чтобы пойти прямо, вниз или вбок, они ведут куда-то еще – в таком направлении, что нельзя ни нарисовать, ни даже вообразить, – и стоит завернуть за этот скрытый угол, как ты потерян навек. Оказываешься в лабиринте, который прежде не видел и о котором даже не догадывался, и все тебя жалеют, когда видят, как ты в нем блуждаешь, но, наверное, уже вряд ли захотят водиться с тобой так же, как раньше.
Ум за разум, очевидно, заходил у очень многих людей, но Альма по-прежнему была уверена, что за этим незримым поворотом одиноко, пусто и никогда никого нет, кроме тебя самого. Ты в этом не виноват, но все равно это почему-то стыдно, почему-то бабуля Клара такого не одобряет, это позор для семьи. Вот почему о Верналлах никто не говорил, и вот почему Альма едва ли не с испугом слушала, как мамка и Третий Боро в почтительных тонах обсуждают запланированное «Дознание Верналлов» – это слушание по межеванию, из-за которого столько хлопот. Неужели эта семейная линия Альмы на самом деле особенная, или же наименование дознания – простое совпадение? А если речь не о семье Альмы, то что же такое Верналл?
Ей показалось, что это похоже на название какого-нибудь стародавнего ремесла, которое по прошествии многих лет осталось в памяти в виде одной только фамилии. Например, отец Альмы Томми Уоррен, работавший на пивоварне, однажды рассказал ей, что словом «купер» много лет назад называли людей, ладивших бочки, так что предки ее лучшей подруги Дженет Купер, скорее всего, были бондарями. Конечно, это все равно не объясняло, что такое Верналл или что Верналлы делают. Возможно, имя связано с дознанием об углах, потому что дело Верналлов – присматривать за межами и углами? Альме стало интересно, нет ли среди углов, за которыми они следили, того, за который зашли умы Эрнеста, Снежка, Турсы и несчастной Одри Верналл, но мысль ни к чему не привела и затухла сама по себе.
Еще без всякой видимой причины имя Верналл напоминало ей о траве и о том, как пах после покоса заросший пятачок на дороге Андрея близ Спенсеровского моста, о зеленых травинках, пробивающихся из подземной темноты в солнечный мир, – хотя как это соотносится с межами и углами, она и сама объяснить не могла. В воображении она видела дом бабки в обшарпанном конце Зеленой улицы, между кирпичей которого росли сорняки и даже маки, пустившие корни в железнодорожную сажу – истинные уличные обои Боро: черная квашня, висящая гармошкой на обожженных оранжевых кирпичных стенах, как вуаль на вдовствующем районе. Через улицу к тылам церкви Святого Петра, у задних ворот во двор «Черного льва», поднимался зеленый склон за низкой оградой сухой кладки. Этот травянистый откос она всегда представляла, когда слышала в песне, что Иисус идет по зеленым лугам [6 - Имеется в виду стихотворение Уильяма Блейка «Иерусалим» из предисловия к его поэме «Мильтон» (1804). Когда в 1916 году его положил на музыку композитор Хьюберт Пэрри, оно получило широкую известность как гимн «Иерусалим» и стало неофициальным гимном Англии.]: в длинном одеянии, со светом вокруг головы и с босыми ногами, вниз от ворот паба к началу переулка Узкого Пальца и магазину сладостей Готча, что на другом конце Зеленой улицы от дома бабки. Поймав себя на том, что она начала гадать, какая сласть нравилась Иисусу больше всего, Альма поняла, что снова с головой ушла в фантазии, и кое-как принудила беспокойное облако внимания вернуться к тому, что обсуждали мамка и человек в белом капюшоне.
Третий Боро заканчивал свой рассказ о положении дел, заверяя Дорин, что работа по дереву с незапамятных времен была ремеслом его семьи. Он говорил, что, хотя труд предстоит долгий и немало еще человек надорвет над ним спину, идет он по плану и завершен будет вовремя. Альма сама не могла объяснить, почему эти торжественные слова отозвались в ней такой радостью. Как будто можно больше не беспокоиться ни о чем на свете, ведь в конце концов все будет хорошо – как когда родители заверяют тебя, что герой не умрет и к концу сказки добьется своего.
Вокруг в блеске лавки плотники в поте лица продолжали свой неустанный труд, строгая доски против волокон, но Альма заметила, как они посматривают на нее с вопросом в глазах, поняла она или нет, какие это для всех добрые вести, и с молчаливым удовлетворением улыбаются, заметив, что поняла, – гордые собой и в то же время зардевшиеся от стыда за свою гордыню. Портимот ди Норан будет построен – в каком-то смысле уже построен. Она оглянулась на Майкла, внимательно привставшего в коляске. Словно даже малыш понимал, что происходит нечто особенное, и он с готовностью встретил взгляд сестры большими голубыми глазами с танцующими искорками, сообщая по их личной бессловесной связи свою радость, возбужденно дергая ремни. Альма видела, что, хотя брат еще мал и не умеет называть вещи своими именами, каким-то образом он все-таки осознал, кем на самом деле был бригадир в накидке. При встрече его невозможно было не узнать, даже если ты младенец. По натуре Майкл был спокойным ребенком, но сейчас его распирало от изумления, словно он в точности знал, что означает для всех грандиозная стройка. Откуда ни возьмись к Альме вдруг пришла мысль, что однажды, когда они с Майклом будут взрослыми, они обязательно усядутся на забор и посмеются при воспоминании об этой встрече.
Теперь Дорин благодарила бригадира за то, что он позвал их к себе, и в то же время готовилась уходить – проверяла застежки ремней Майкла и велела Альме подтянуть пояс макинтоша. То ли свет в лавке становился ярче, думала Альма, то ли тьма пустой площади снаружи сгустилась до неизвестного цвета хуже черного. Она думала о дороге домой без воодушевления – и о необъяснимом приглушенном ужасе, который иногда нападал на нее на Банной улице, и о входе в проулок, узкий, словно сбойка, похожий на челюсти ночи, что бежал позади сплошного ряда домиков, построенных стена в стену между Ручейным переулком и улицей Алого Колодца, – но ей казалось, что она покажется неблагодарной, если признается в этом вслух. Ведь для Альмы эта встреча стоила даже прогулки по холодным улицам – хотя она все же была не прочь проскочить следующие двадцать промозглых минут жизни, чтобы сразу оказаться в своей уютной постельке.
Но свет в лавке определенно становился ярче, решила она, пока с трудом теребила вдруг ставший таким неподатливым пояс макинтоша. Пока она стояла у коляски и возилась с пальто, перед ней – или, возможно, над ней – зависли блестящие прямоугольники яркой белизны – как поняла Альма, отражения окон за ее спиной. Только какие-то неправильные. Освещенная комната иногда может отражаться в окне, но только не окна – в пустом пространстве комнаты, повиснув в воздухе, все белее и ослепительнее с каждым мигом. Где-то рядом Дорин говорила ей поторопиться с поясом, чтобы уйти и не мешать дядям работать. Альма выпустила из пальцев пряжку и потеряла ее в сложном узле, которого всего пару секунд назад как будто бы не было. Чем старательней она распутывала ремень, тем больше из неожиданных складок пальто, в которых разбираются только галантерейщики, в руки лезли новые лоскуты габардина и обвивали Альму своими полосатыми хитросплетениями. В глаза все сильнее били листы света, парящие над ней – или, возможно, перед ней. Мамка где-то поблизости велела пошевеливаться, но ситуация с макинтошем становилась только отчаянней. Альма боролась с бесконечной, всепоглощающей тканью, лежа на спине, когда вдруг заметила, что замершие перед ней светящиеся пятна задернуты шторами. Шторами с узором из серых роз, точь-в-точь как те, что висели в спальне Альмы.
* * *
Вот такой, если вкратце, сон увидела одной февральской ночью 1959 года, когда ей было пять лет, Альма Уоррен, впоследствии ставшая достаточно знаменитой художницей. Спустя год после сна ее брат Майкл задохнулся и умер, но всего через день-другой каким-то образом вернулся к жизни и к ним домой на дорогу Андрея невредимым, о чем в дальнейшем ни он, ни Альма особо не распространялись, хотя в то время вся семья натерпелась страха.
Их отец Томми Уоррен умер в 1990 году, а вскоре, в знойное лето 1995-го, за ним последовала Дорин. Чуть меньше десяти лет спустя, с Миком Уорреном произошел несчастный случай на работе, где он утилизировал стальные баки. Довольно комично лишившись сознания и придя в себя только под струями холодной воды, которыми коллеги смывали едкую пыль с его глаз, второй раз Мик восстал из мертвых со множеством тревожных мыслей в голове – странных воспоминаний, всплывших на поверхность, пока он лежал в отключке. Кое-что из того, что он якобы вспомнил, казалось таким странным, что явно не могло произойти наяву, и Мик начал опасаться, что в нем просыпается таящаяся в семейной крови болезнь, которой боялись и потому обходили молчанием, – что у него заходит ум за разум.
Когда он наконец набрался смелости поведать о своих страхах жене Кэт, она с ходу предложила поговорить с Альмой. Семью Кэти, как и семью Мика, выселили с прокоптившихся пустырей Боро – квадратной мили грязи у железнодорожной станции, – когда в начале 1970-х управа вычищала последние остатки района. Надежная, здравомыслящая и все же не стыдящаяся своих причуд, Кэт, на взгляд Мика, могла похвастаться всеми чертами женщин Боро: решительностью и непоколебимой верой в интуицию, в собственную способность решить, как лучше поступить в любых обстоятельствах, какими бы они ни выдались необычными.
Кэти и Альма ладили замечательно, вопреки – а может быть, благодаря – пропасти между их характерами, при этом Кэти открыто считала Альму юродивой, которая жила на помойке, а Альма в ответ язвила о любви невестки к Мику Хакнеллу из Simply Red. Тем не менее обе испытывали друг к другу исключительное уважение как к специалисткам в непересекающихся областях знаний, и, когда Кэт рекомендовала мужу обратиться к Альме, раз уж он решил, что у него начала протекать крыша, Мик знал: это потому что жена верила, будто его старшая сестра – настоящий эксперт не только в том, как объесться белены, но и вообще в пожизненном вегетарианском рационе из этого растения. Более того, он и сам полагал, что Кэти недалека от истины. Мик сговорился с Альмой о встрече за кружечкой пива в следующую субботу, причем без всякой вразумительной причины назначил ее в «Золотом льве» на Замковой улице – одном из редких сохранившихся пабов из дюжин, которыми когда-то могли похвастаться Боро, и, по совпадению, том самом, где он познакомился с Кэт, когда она там работала, перед тем как воплотил в жизнь мечту жениться на барменше.
На встрече с Альмой он обнаружил, что некогда забитое до отказа заведение теперь оставалось практически пустым даже по субботам. Очевидно, те обитатели квартир распотрошенного района, что не были прикованы к спальням домашним арестом по ASBO, обычно предпочитали зоопарк городского центра, терпимый к справлению естественных потребностей и выделению жидкостей из любых отверстий, включая проделанные ножом, нежели чем терпеть замогильную тишь родных окрестностей. Его сестра сидела за угловым столиком в излюбленном черном ансамбле: джинсы, жилет, ботинки и кожаная куртка. Как Альма недавно объяснила Мику, сейчас черный – это новый iPod. Она заказала себе бокал с газированной минералкой и сейчас пыталась поставить на ребро бирдекель «Strongbow», пока за ней с выражением, как показалось Мику, клинической депрессии наблюдал мужчина за стойкой. Единственный посетитель за всю ночь – и то непьющее страшное чучело.
Мик правда, считал, что Альма скорее, как говорится, импозантная, чем страшная, даже в ее возрасте, правда в лицо бы он ей такого не сказал. Сколько ей, пятьдесят один? Пятьдесят? Импозантная, определенно, если на самом деле иметь в виду «пугающая». Ростом она была метр восемьдесят – на пару сантиметров ниже брата, но на каблуках – добрых метр девяносто; длинные нестриженные русые волосы, поседевшие до цвета пыльной меди, скрывали скуластое лицо неровными защитными шторами в стиле, который она однажды описала при Мике как «постапокалиптично-мародерский». И, конечно, глаза – жуткие и огромные, если, конечно, она не щурилась близоруко, со зрачками теплого грифельного цвета, вокруг которых потусторонним лимонно-желтым расцветали радужки, словно короны во время полного затмения, и с толстыми ресницами, скрипящими под тяжестью туши.
За долгую жизнь у нее было немало поклонников, но на деле подавляющее большинство мужчин считало Альму «в целом неприятной», как выразился один знакомый, или «гребаным ходячим кошмаром с климаксом», как проще сформулировал другой, хотя даже это говорилось почти благоговейным тоном. Иногда Мику казалось, что его сестра просто не подпадала под общепринятые стандарты красоты, но куда смешнее было настаивать, что она похожа на Лу Рида с обложки «Трансформера» или на «глэм-Франкенштейна из солярия», как с удовольствием перефразировала Альма, пообещав процитировать это в своей биографии для каталога, когда в следующий раз устроит выставку. С одинаковой страстью наслаждаясь как выслушиванием оскорблений, так и их раздачей, Альма могла постоять за себя, в отместку с непрошибаемой искренностью утверждая, что ее младший братец с ангельским личиком был жеманным и изнеженным с самого рождения – более того, на самом деле родился девочкой, даже в какой-то момент удостоился звания «Мисс Пирс» [7 - Конкурс красоты мыла «Пирс».], но затем лег на операцию, потому что мамке с папкой хотелось иметь по ребенку каждого пола. Впервые она испытала эту пугающе серьезную репризу на само ?м Мике, когда ему было шесть, а ей – девять, чем довела его до слез от стыда и шока. Когда же он однажды сообщил Альме, практически без преувеличений, что большинству она кажется гомосексуалом, застрявшим в жалком подобии женского тела, она парировала: «Да, и ты тоже», – а потом хохотала, пока не поперхнулась, и ее чуть не стошнило – как обычно, не в меру довольная собственной остро ?той.
Остановившись у бара, чтобы обхватить ладонью освежающую сосульку первой пинты, Мик прошел по протертому ковру с цветочным узором, больше похожим на диаграмму уровня самоубийств, к столику, облюбованному сестрой, – что неудивительно, тот находился в самом дальнем углу от дверей, неизбежный выбор мизантропа. Когда он со скрипом отодвинул стул напротив Альмы, она подняла взгляд от влажной поверхности с разрозненным архипелагом бирдекелей. Выкатила обычную приветственную улыбку, которая, наверно, была предназначена передать, что ее лицо озаряется радостью при его виде, но из-за привычки Альмы перегибать палку стала очередным экспонатом в гран-гиньоле ее выражений, из-за чего сестра напоминала скорее серийную убийцу с религиозными мотивами или пироманьячку – особенно из-за желтых пожаров, бушующих в глазах.
– Надо же, сам Уорри Уоррен. Как ты там поживаешь, Уорри, черт тебя дери?
Голос Альмы был прокурен до зловещего баса орга?на, гудящего в готическом соборе, и иногда опускался даже ниже голоса Мика. Несмотря на беспокойство о своем душевном здоровье, он не мог не улыбнуться и искренне порадоваться свиданию с сестрой, восстановлению их таинственной связи, успокаивающей беседе с человеком, который зашел по дорожке безумия куда дальше него. Отвечая, Мик положил сигареты с зажигалкой рядом с усеянной каплями кружкой, готовясь к долгому вечеру.
– На грани, Уорри, если по правде.
С самого момента в 1966-м, о котором никто из них не мог вспомнить ничего определенного, оба звали друг друга Уорри. Возможно, начало этому положила Альма в тринадцать лет, придумав младшему брату такое уничижительное прозвище – Уорри, а тот, возможно, отвечал тем же, потому что, как она всегда в глубине души подозревала, слишком легкомысленно относился к миру, чтобы выдумать собственное оскорбление, даже такое дурацкое как Уорри. Стоило парочке начать так обращаться друг к другу, как скоро разгорелась идиотская война на истощение, об истоках которой никто уже не помнил, но тем не менее оба чувствовали, что уступить и первым назвать другого по имени покажется немыслимым поражением. Этот номинативный теннисный матч жалким образом тянулся всю их жизнь, даже когда кличка уже стала казаться милой и они напрочь позабыли его нелепое происхождение. Если Мика спрашивали, почему они звали друг друга Уорри, он обычно отвечал, что в таком неблагополучном районе, как Боро, мамка с папкой не могли позволить для детей два разных прозвища, так что пришлось как-то делить одно. «Не то что у богатых ребятишек», – иногда добавлял он с непритворной горечью. Если же рядом была Альма, она смотрела на вопрошателя обвиняющим коровьим взглядом и печально просила не смеяться. «Только это прозвище мы однажды и получили на Рождество».
Теперь его сестра уперлась потертой кожей на локтях в пленку жидкости, покрывающую стол, примостила подбородок на длинные пальцы и вопросительно подалась вперед в воздухе цвета разбавленного чая, склонив голову так, что самые длинные пряди подмели влажный мениск стола и их кончики стали острыми, как колонко ?вые кисточки.
– По правде? А на что мне твоя правда? Я просто разговор завожу, Уорри. Зачем мне «Илиада»?
Они оба восхитились ее черствостью, а затем Мик поведал о несчастном случае на работе, о том, как лишился сознания и обжег лицо, как ослеп на час-другой и с тех пор волновался, что сходит с ума. Альма смотрела на него пару секунд с жалостью, затем покачала непропорционально массивной головой и вздохнула:
– Ох, Уорри. Вечно ты важнее всех, да? Я уже много лет страшная, полуслепая и долбанутая, но что-то не припомню, чтобы кому-то жаловалась. А стоит тебе принять душ из едких химикатов для чистки крейсеров – так сразу в сопли.
Мик затушил сигарету в иллюминаторе пепельницы цвета морской волны и закурил новую:
– Это не шутки, Уорри. Я как проснулся во дворе под водой из шланга, так меня преследуют странные мысли. Не из-за гадости, которая в глаза попала, и не из-за того, что я головой ушибся, а уже когда очухался. Я даже сразу не вспомнил, что мне сорок девять или что я работаю в ремонтной мастерской. Не помнил о Кэти, ребятах – ни о чем.
Он замолчал и отпил лагер. Альма сидела напротив за промокшим столом, немо вперив в него взгляд, – неподдельно увлеченная, осознав, что он не шутит. Мик продолжал:
– Когда я только прочухался, я вдруг подумал, что мне три года и я проснулся в больнице – после того случая с драже от кашля во время ангины.
Бунтарски невыщипанные брови Альмы озадаченно нахмурились.
– Когда ты подавился и сосед Даг отвез тебя по Графтонской и через Маунтс в больницу на своем овощном грузовике? Мы все думали, что тогда-то ты и получил травму мозга, – по крайней мере, я так думала.
– Все нормально у меня с мозгом.
– Да брось. А как же. Тут только три минуты без кислорода – и пожалуйста. А все говорили, что ты не дышал с самой дороги Андрея до Чейн-уок, а в ржавом драндулете Дага это не меньше десяти минут. Десять минут без воздуха – это смерть мозга, дружок.
Мик фыркнул от смеха в кружку и смочил нос пеной:
– Ты же вроде у нас за интеллектуала, Уорри? Попробуй десять минут не дышать и наверняка заметишь, что это смерть вообще всего.
На этом оба притихли и задумались – но ни к чему определенному, впрочем, не пришли. Наконец Мик продолжил повествование:
– В общем, к чему это я. Когда я проснулся в больнице тогда, в три года, то понятия не имел, как туда попал. Не помнил, ни как подавился, ни как ехал в грузовике Дага, хотя он и говорил, что всю дорогу я был с открытыми глазами. Но когда я проснулся теперь, все было по-другому. Как я уже говорил, мне на минуту показалось, что я опять в больнице и мне снова три – но только теперь я вспомнил, как туда попал.
– В смысле, наш двор и драже от кашля? Или грузовик Дага?
– Ничего подобного. Нет, я вспомнил, как был в потолке. Я пробыл там полмесяца, питался феями. Наверное, это какой-то сон, хотя на сон и не похоже. Куда реальней, но при этом и куда безумней, и все про Боро.
Альма пыталась перебить и спросить, заметил ли он сам, что только что во всеуслышание заявил, будто полмесяца жил в потолке и питался феями. Но Мик пропустил все мимо ушей и продолжил рассказывать о своем приключении, вернувшаяся память о котором так его встревожила. К завершению рассказа Альма сидела с открытым ртом, пораженно уставившись на брата своими глазищами панды под таблетками. Наконец она выдавила свой первый серьезный ответ за вечер.
– Это же не сон, дружок. Это же виде?ние.
Пара продолжила беседу – на этот раз для разнообразия без дураков – в сумраке обезлюдевшего паба, время от времени повторяя заказ: Альма все пила минеральную воду – из отравы она предпочитала полудюжину брусков гашиша размером с батончик «Баунти», разбросанных по ее чудовищной квартире на Восточном Парковом проезде. «Золотой лев» вокруг них погружался в противоположность сумятицы, антигвалт, в котором царствовал неумолимый стук настенных часов. Время от времени свет в баре малозаметно мерцал, словно в помещении кишели отсутствия посетителей, коричневые и прозрачные, как старая целлулоидная пленка, и изредка несколько засиженных мухами не-тел накладывались друг на друга и заслоняли свет, хотя и неощутимо. Долгие часы Мик обсуждал с сестрой Боро и их сны – Альма рассказала о своем, про освещенную лавку на запустелом рынке, где в ночи стучали молотки плотников. Она даже рассказала, как в том сне вспомнила другой сон, в котором Дорин заявила, что голуби – куда уходят умершие, хотя Альма призналась, что, проснувшись, не могла сказать с уверенностью, действительно ли ей это когда-то снилось – или только приснилось, что снилось.
В конце концов, когда немного погодя они вышли на буйство ветра За?мковой улицы, Альма гудела от возбуждения, а Мик нажрался. После разговоров с сестрой и ее воодушевленных тирад ему полегчало. Пока они спускались по За?мковой улице к Фитцрой по призрачному району, Альма рассказывала, что собирается написать целую серию картин, основанных на опыте клинической смерти Мика (а она уже верила, что именно этим и являлись вернувшиеся воспоминания) и своих собственных снах. Она подняла на смех страхи брата за свое психическое здоровье, заявив, что это очередной пример его девчачьей натуры, цепенящего ужаса при виде чего угодно, хотя бы отдаленно напоминающего творческое мышление. «Твоя проблема, Уорри, в том, что, когда тебе в голову приходит мысль, ты думаешь, что это внутримозговое кровоизлияние». Слушая, как она тараторит, словно захлебывающаяся пишмашинка, о нереализуемых и трансцендентальных концепциях картин, он чувствовал, как гора падает с плеч, как он парит в нежном и приторном облаке пердежа с привкусом лагера и растворяется под звездной обсидиановой миской времени закрытия, которую опрокинули на Боро, как будто не хотели подпустить мух.
Они побрели вниз от входных дверей «Золотого льва» и его кариозной светло-зеленой плитки: справа через улицу, о которой давно позабыли автомобилисты, проплывали поблекшая китайская головоломка струпных кирпичей из 1930-х – тылы многоквартирников на Банной улице под названием Дом Святого Петра, – и проемы в невысокой стенке, выходящие на треугольную каменную лестницу в виде зиккурата, с расширяющимися ступеньками от вершины к основанию с каждой стороны. За ней стояли сами многоквартирники с высеченными щелями баухаусной тени на фасадах, с двойными дверями в нишах портиков; окна с катарактами тюля – большинство без света. От поймы Конца Святого Джеймса к западу от реки завизжали полицейские сирены, как баньши из Radiophonic Workshop [8 - Студия звуковых эффектов и музыки BBC Radiophonic Workshop (1958–1998), среди прочего работавшая над сериалом «Доктор Кто» в 50—60-х.], и Мик задумался о своем недавнем откровении, осознавая, что, несмотря на духовный подъем при виде пылкой, почти фанатичной реакции сестры, где-то глубоко по-прежнему засел жесткий комок беспокойства, хотя и затопленный в озере отупляющего янтарного пойла. Словно уловив смену его настроения, Альма прекратила заливаться соловьем о том, какие невиданные пейзажи ей предстоит запечатлеть, и бросила взгляд мимо него в ту же сторону – на зады немых многоквартирников, объятых ночью.
– Да уж. В этом и проблема, да? Не «Что, если у Уорри ум за разум зашел», а «Что, если нет?» Если то, что ты видел, значит то, о чем я думаю, тогда вот с чем нам придется иметь дело, – Альма кивнула на темные многоквартирники и Банную улицу, а может, и куда-то еще дальше. – Со всем, что ты повидал, когда разгуливал с бандой мертвых детей, – Деструктором и всем таким. Вот против чего нам придется выступить. Вот почему мне придется расстараться с картинами и изменить мир до того, как его окончательно угробят.
Мик с сомнением взглянул на Альму:
– А тебе не кажется, сестричка, что уже поздно? Сама посмотри.
Он пьяно обвел рукой округу, когда они дошли до основания приблизительной трапеции горбатого пригорка под названием Замковый Холм, куда выходила былая улица Фитцрой. Теперь она превратилась в расширенное шоссе, ведущее в стопку обувных коробок застройки шестидесятых, где когда-то пролегали феодальные коридоры улицы Рва, Форта и прочих. Кончалось шоссе клаустрофобным тупичком с парковкой, зажатой с двух сторон зданиями, а с третьей – переливающимися через бордюр черными грязными кустами, последней линией отчаянной обороны природы Боро.
До постройки этого жалкого жилищного комплекса, еще в юные годы Мика и Альмы, в тупике находилась безобразная пародия на детскую площадку с маленьким лабиринтом из синего кирпича в центре, как будто созданным для скудоумных лепреконов, и с вечно маячившим над душой творением кубиста-аутиста – бетонным конем, слишком угловатым и неудобным, чтобы его оседлать, с пустой дырой вместо глаз, просверленной в голове на высоте висков. Но даже такая абстрактная скульптура была не столь омерзительна, как это место для изнасилований на свидании и для слета извращенцев-вуайеристов, с наспех размазанной по розовым тротуарным прямоугольникам жижей асфальта, похожей на дешевую просроченную икру, которая, в свою очередь, покрывала и ухабистые переулки, и каменные плиты дворов. Только в канавах у обочин, где все эти слои шелушились под жаром солнца, можно было разглядеть страты утрамбованного человеческого времени – кольца на давно срубленном цементном пне Боро. Из-под холма, с другой стороны автостоянки и дешевых, сердитых надгробий обрамляющих ее многоквартирников доносились траурные визг и лязг товарняка, с рокотом и ропотом карабкающегося по склону впадины прочь от сетки железнодорожных рельс на дне, похожих на шрамы от самовредительства.
Альма смотрела туда, куда показал Мик, сложив замалеванные ресницы в презрительном прищуре из спагетти-вестерна, так что глаза казались пауками-скакунами, изготовившимися к смертельному броску.
Ум за разум, очевидно, заходил у очень многих людей, но Альма по-прежнему была уверена, что за этим незримым поворотом одиноко, пусто и никогда никого нет, кроме тебя самого. Ты в этом не виноват, но все равно это почему-то стыдно, почему-то бабуля Клара такого не одобряет, это позор для семьи. Вот почему о Верналлах никто не говорил, и вот почему Альма едва ли не с испугом слушала, как мамка и Третий Боро в почтительных тонах обсуждают запланированное «Дознание Верналлов» – это слушание по межеванию, из-за которого столько хлопот. Неужели эта семейная линия Альмы на самом деле особенная, или же наименование дознания – простое совпадение? А если речь не о семье Альмы, то что же такое Верналл?
Ей показалось, что это похоже на название какого-нибудь стародавнего ремесла, которое по прошествии многих лет осталось в памяти в виде одной только фамилии. Например, отец Альмы Томми Уоррен, работавший на пивоварне, однажды рассказал ей, что словом «купер» много лет назад называли людей, ладивших бочки, так что предки ее лучшей подруги Дженет Купер, скорее всего, были бондарями. Конечно, это все равно не объясняло, что такое Верналл или что Верналлы делают. Возможно, имя связано с дознанием об углах, потому что дело Верналлов – присматривать за межами и углами? Альме стало интересно, нет ли среди углов, за которыми они следили, того, за который зашли умы Эрнеста, Снежка, Турсы и несчастной Одри Верналл, но мысль ни к чему не привела и затухла сама по себе.
Еще без всякой видимой причины имя Верналл напоминало ей о траве и о том, как пах после покоса заросший пятачок на дороге Андрея близ Спенсеровского моста, о зеленых травинках, пробивающихся из подземной темноты в солнечный мир, – хотя как это соотносится с межами и углами, она и сама объяснить не могла. В воображении она видела дом бабки в обшарпанном конце Зеленой улицы, между кирпичей которого росли сорняки и даже маки, пустившие корни в железнодорожную сажу – истинные уличные обои Боро: черная квашня, висящая гармошкой на обожженных оранжевых кирпичных стенах, как вуаль на вдовствующем районе. Через улицу к тылам церкви Святого Петра, у задних ворот во двор «Черного льва», поднимался зеленый склон за низкой оградой сухой кладки. Этот травянистый откос она всегда представляла, когда слышала в песне, что Иисус идет по зеленым лугам [6 - Имеется в виду стихотворение Уильяма Блейка «Иерусалим» из предисловия к его поэме «Мильтон» (1804). Когда в 1916 году его положил на музыку композитор Хьюберт Пэрри, оно получило широкую известность как гимн «Иерусалим» и стало неофициальным гимном Англии.]: в длинном одеянии, со светом вокруг головы и с босыми ногами, вниз от ворот паба к началу переулка Узкого Пальца и магазину сладостей Готча, что на другом конце Зеленой улицы от дома бабки. Поймав себя на том, что она начала гадать, какая сласть нравилась Иисусу больше всего, Альма поняла, что снова с головой ушла в фантазии, и кое-как принудила беспокойное облако внимания вернуться к тому, что обсуждали мамка и человек в белом капюшоне.
Третий Боро заканчивал свой рассказ о положении дел, заверяя Дорин, что работа по дереву с незапамятных времен была ремеслом его семьи. Он говорил, что, хотя труд предстоит долгий и немало еще человек надорвет над ним спину, идет он по плану и завершен будет вовремя. Альма сама не могла объяснить, почему эти торжественные слова отозвались в ней такой радостью. Как будто можно больше не беспокоиться ни о чем на свете, ведь в конце концов все будет хорошо – как когда родители заверяют тебя, что герой не умрет и к концу сказки добьется своего.
Вокруг в блеске лавки плотники в поте лица продолжали свой неустанный труд, строгая доски против волокон, но Альма заметила, как они посматривают на нее с вопросом в глазах, поняла она или нет, какие это для всех добрые вести, и с молчаливым удовлетворением улыбаются, заметив, что поняла, – гордые собой и в то же время зардевшиеся от стыда за свою гордыню. Портимот ди Норан будет построен – в каком-то смысле уже построен. Она оглянулась на Майкла, внимательно привставшего в коляске. Словно даже малыш понимал, что происходит нечто особенное, и он с готовностью встретил взгляд сестры большими голубыми глазами с танцующими искорками, сообщая по их личной бессловесной связи свою радость, возбужденно дергая ремни. Альма видела, что, хотя брат еще мал и не умеет называть вещи своими именами, каким-то образом он все-таки осознал, кем на самом деле был бригадир в накидке. При встрече его невозможно было не узнать, даже если ты младенец. По натуре Майкл был спокойным ребенком, но сейчас его распирало от изумления, словно он в точности знал, что означает для всех грандиозная стройка. Откуда ни возьмись к Альме вдруг пришла мысль, что однажды, когда они с Майклом будут взрослыми, они обязательно усядутся на забор и посмеются при воспоминании об этой встрече.
Теперь Дорин благодарила бригадира за то, что он позвал их к себе, и в то же время готовилась уходить – проверяла застежки ремней Майкла и велела Альме подтянуть пояс макинтоша. То ли свет в лавке становился ярче, думала Альма, то ли тьма пустой площади снаружи сгустилась до неизвестного цвета хуже черного. Она думала о дороге домой без воодушевления – и о необъяснимом приглушенном ужасе, который иногда нападал на нее на Банной улице, и о входе в проулок, узкий, словно сбойка, похожий на челюсти ночи, что бежал позади сплошного ряда домиков, построенных стена в стену между Ручейным переулком и улицей Алого Колодца, – но ей казалось, что она покажется неблагодарной, если признается в этом вслух. Ведь для Альмы эта встреча стоила даже прогулки по холодным улицам – хотя она все же была не прочь проскочить следующие двадцать промозглых минут жизни, чтобы сразу оказаться в своей уютной постельке.
Но свет в лавке определенно становился ярче, решила она, пока с трудом теребила вдруг ставший таким неподатливым пояс макинтоша. Пока она стояла у коляски и возилась с пальто, перед ней – или, возможно, над ней – зависли блестящие прямоугольники яркой белизны – как поняла Альма, отражения окон за ее спиной. Только какие-то неправильные. Освещенная комната иногда может отражаться в окне, но только не окна – в пустом пространстве комнаты, повиснув в воздухе, все белее и ослепительнее с каждым мигом. Где-то рядом Дорин говорила ей поторопиться с поясом, чтобы уйти и не мешать дядям работать. Альма выпустила из пальцев пряжку и потеряла ее в сложном узле, которого всего пару секунд назад как будто бы не было. Чем старательней она распутывала ремень, тем больше из неожиданных складок пальто, в которых разбираются только галантерейщики, в руки лезли новые лоскуты габардина и обвивали Альму своими полосатыми хитросплетениями. В глаза все сильнее били листы света, парящие над ней – или, возможно, перед ней. Мамка где-то поблизости велела пошевеливаться, но ситуация с макинтошем становилась только отчаянней. Альма боролась с бесконечной, всепоглощающей тканью, лежа на спине, когда вдруг заметила, что замершие перед ней светящиеся пятна задернуты шторами. Шторами с узором из серых роз, точь-в-точь как те, что висели в спальне Альмы.
* * *
Вот такой, если вкратце, сон увидела одной февральской ночью 1959 года, когда ей было пять лет, Альма Уоррен, впоследствии ставшая достаточно знаменитой художницей. Спустя год после сна ее брат Майкл задохнулся и умер, но всего через день-другой каким-то образом вернулся к жизни и к ним домой на дорогу Андрея невредимым, о чем в дальнейшем ни он, ни Альма особо не распространялись, хотя в то время вся семья натерпелась страха.
Их отец Томми Уоррен умер в 1990 году, а вскоре, в знойное лето 1995-го, за ним последовала Дорин. Чуть меньше десяти лет спустя, с Миком Уорреном произошел несчастный случай на работе, где он утилизировал стальные баки. Довольно комично лишившись сознания и придя в себя только под струями холодной воды, которыми коллеги смывали едкую пыль с его глаз, второй раз Мик восстал из мертвых со множеством тревожных мыслей в голове – странных воспоминаний, всплывших на поверхность, пока он лежал в отключке. Кое-что из того, что он якобы вспомнил, казалось таким странным, что явно не могло произойти наяву, и Мик начал опасаться, что в нем просыпается таящаяся в семейной крови болезнь, которой боялись и потому обходили молчанием, – что у него заходит ум за разум.
Когда он наконец набрался смелости поведать о своих страхах жене Кэт, она с ходу предложила поговорить с Альмой. Семью Кэти, как и семью Мика, выселили с прокоптившихся пустырей Боро – квадратной мили грязи у железнодорожной станции, – когда в начале 1970-х управа вычищала последние остатки района. Надежная, здравомыслящая и все же не стыдящаяся своих причуд, Кэт, на взгляд Мика, могла похвастаться всеми чертами женщин Боро: решительностью и непоколебимой верой в интуицию, в собственную способность решить, как лучше поступить в любых обстоятельствах, какими бы они ни выдались необычными.
Кэти и Альма ладили замечательно, вопреки – а может быть, благодаря – пропасти между их характерами, при этом Кэти открыто считала Альму юродивой, которая жила на помойке, а Альма в ответ язвила о любви невестки к Мику Хакнеллу из Simply Red. Тем не менее обе испытывали друг к другу исключительное уважение как к специалисткам в непересекающихся областях знаний, и, когда Кэт рекомендовала мужу обратиться к Альме, раз уж он решил, что у него начала протекать крыша, Мик знал: это потому что жена верила, будто его старшая сестра – настоящий эксперт не только в том, как объесться белены, но и вообще в пожизненном вегетарианском рационе из этого растения. Более того, он и сам полагал, что Кэти недалека от истины. Мик сговорился с Альмой о встрече за кружечкой пива в следующую субботу, причем без всякой вразумительной причины назначил ее в «Золотом льве» на Замковой улице – одном из редких сохранившихся пабов из дюжин, которыми когда-то могли похвастаться Боро, и, по совпадению, том самом, где он познакомился с Кэт, когда она там работала, перед тем как воплотил в жизнь мечту жениться на барменше.
На встрече с Альмой он обнаружил, что некогда забитое до отказа заведение теперь оставалось практически пустым даже по субботам. Очевидно, те обитатели квартир распотрошенного района, что не были прикованы к спальням домашним арестом по ASBO, обычно предпочитали зоопарк городского центра, терпимый к справлению естественных потребностей и выделению жидкостей из любых отверстий, включая проделанные ножом, нежели чем терпеть замогильную тишь родных окрестностей. Его сестра сидела за угловым столиком в излюбленном черном ансамбле: джинсы, жилет, ботинки и кожаная куртка. Как Альма недавно объяснила Мику, сейчас черный – это новый iPod. Она заказала себе бокал с газированной минералкой и сейчас пыталась поставить на ребро бирдекель «Strongbow», пока за ней с выражением, как показалось Мику, клинической депрессии наблюдал мужчина за стойкой. Единственный посетитель за всю ночь – и то непьющее страшное чучело.
Мик правда, считал, что Альма скорее, как говорится, импозантная, чем страшная, даже в ее возрасте, правда в лицо бы он ей такого не сказал. Сколько ей, пятьдесят один? Пятьдесят? Импозантная, определенно, если на самом деле иметь в виду «пугающая». Ростом она была метр восемьдесят – на пару сантиметров ниже брата, но на каблуках – добрых метр девяносто; длинные нестриженные русые волосы, поседевшие до цвета пыльной меди, скрывали скуластое лицо неровными защитными шторами в стиле, который она однажды описала при Мике как «постапокалиптично-мародерский». И, конечно, глаза – жуткие и огромные, если, конечно, она не щурилась близоруко, со зрачками теплого грифельного цвета, вокруг которых потусторонним лимонно-желтым расцветали радужки, словно короны во время полного затмения, и с толстыми ресницами, скрипящими под тяжестью туши.
За долгую жизнь у нее было немало поклонников, но на деле подавляющее большинство мужчин считало Альму «в целом неприятной», как выразился один знакомый, или «гребаным ходячим кошмаром с климаксом», как проще сформулировал другой, хотя даже это говорилось почти благоговейным тоном. Иногда Мику казалось, что его сестра просто не подпадала под общепринятые стандарты красоты, но куда смешнее было настаивать, что она похожа на Лу Рида с обложки «Трансформера» или на «глэм-Франкенштейна из солярия», как с удовольствием перефразировала Альма, пообещав процитировать это в своей биографии для каталога, когда в следующий раз устроит выставку. С одинаковой страстью наслаждаясь как выслушиванием оскорблений, так и их раздачей, Альма могла постоять за себя, в отместку с непрошибаемой искренностью утверждая, что ее младший братец с ангельским личиком был жеманным и изнеженным с самого рождения – более того, на самом деле родился девочкой, даже в какой-то момент удостоился звания «Мисс Пирс» [7 - Конкурс красоты мыла «Пирс».], но затем лег на операцию, потому что мамке с папкой хотелось иметь по ребенку каждого пола. Впервые она испытала эту пугающе серьезную репризу на само ?м Мике, когда ему было шесть, а ей – девять, чем довела его до слез от стыда и шока. Когда же он однажды сообщил Альме, практически без преувеличений, что большинству она кажется гомосексуалом, застрявшим в жалком подобии женского тела, она парировала: «Да, и ты тоже», – а потом хохотала, пока не поперхнулась, и ее чуть не стошнило – как обычно, не в меру довольная собственной остро ?той.
Остановившись у бара, чтобы обхватить ладонью освежающую сосульку первой пинты, Мик прошел по протертому ковру с цветочным узором, больше похожим на диаграмму уровня самоубийств, к столику, облюбованному сестрой, – что неудивительно, тот находился в самом дальнем углу от дверей, неизбежный выбор мизантропа. Когда он со скрипом отодвинул стул напротив Альмы, она подняла взгляд от влажной поверхности с разрозненным архипелагом бирдекелей. Выкатила обычную приветственную улыбку, которая, наверно, была предназначена передать, что ее лицо озаряется радостью при его виде, но из-за привычки Альмы перегибать палку стала очередным экспонатом в гран-гиньоле ее выражений, из-за чего сестра напоминала скорее серийную убийцу с религиозными мотивами или пироманьячку – особенно из-за желтых пожаров, бушующих в глазах.
– Надо же, сам Уорри Уоррен. Как ты там поживаешь, Уорри, черт тебя дери?
Голос Альмы был прокурен до зловещего баса орга?на, гудящего в готическом соборе, и иногда опускался даже ниже голоса Мика. Несмотря на беспокойство о своем душевном здоровье, он не мог не улыбнуться и искренне порадоваться свиданию с сестрой, восстановлению их таинственной связи, успокаивающей беседе с человеком, который зашел по дорожке безумия куда дальше него. Отвечая, Мик положил сигареты с зажигалкой рядом с усеянной каплями кружкой, готовясь к долгому вечеру.
– На грани, Уорри, если по правде.
С самого момента в 1966-м, о котором никто из них не мог вспомнить ничего определенного, оба звали друг друга Уорри. Возможно, начало этому положила Альма в тринадцать лет, придумав младшему брату такое уничижительное прозвище – Уорри, а тот, возможно, отвечал тем же, потому что, как она всегда в глубине души подозревала, слишком легкомысленно относился к миру, чтобы выдумать собственное оскорбление, даже такое дурацкое как Уорри. Стоило парочке начать так обращаться друг к другу, как скоро разгорелась идиотская война на истощение, об истоках которой никто уже не помнил, но тем не менее оба чувствовали, что уступить и первым назвать другого по имени покажется немыслимым поражением. Этот номинативный теннисный матч жалким образом тянулся всю их жизнь, даже когда кличка уже стала казаться милой и они напрочь позабыли его нелепое происхождение. Если Мика спрашивали, почему они звали друг друга Уорри, он обычно отвечал, что в таком неблагополучном районе, как Боро, мамка с папкой не могли позволить для детей два разных прозвища, так что пришлось как-то делить одно. «Не то что у богатых ребятишек», – иногда добавлял он с непритворной горечью. Если же рядом была Альма, она смотрела на вопрошателя обвиняющим коровьим взглядом и печально просила не смеяться. «Только это прозвище мы однажды и получили на Рождество».
Теперь его сестра уперлась потертой кожей на локтях в пленку жидкости, покрывающую стол, примостила подбородок на длинные пальцы и вопросительно подалась вперед в воздухе цвета разбавленного чая, склонив голову так, что самые длинные пряди подмели влажный мениск стола и их кончики стали острыми, как колонко ?вые кисточки.
– По правде? А на что мне твоя правда? Я просто разговор завожу, Уорри. Зачем мне «Илиада»?
Они оба восхитились ее черствостью, а затем Мик поведал о несчастном случае на работе, о том, как лишился сознания и обжег лицо, как ослеп на час-другой и с тех пор волновался, что сходит с ума. Альма смотрела на него пару секунд с жалостью, затем покачала непропорционально массивной головой и вздохнула:
– Ох, Уорри. Вечно ты важнее всех, да? Я уже много лет страшная, полуслепая и долбанутая, но что-то не припомню, чтобы кому-то жаловалась. А стоит тебе принять душ из едких химикатов для чистки крейсеров – так сразу в сопли.
Мик затушил сигарету в иллюминаторе пепельницы цвета морской волны и закурил новую:
– Это не шутки, Уорри. Я как проснулся во дворе под водой из шланга, так меня преследуют странные мысли. Не из-за гадости, которая в глаза попала, и не из-за того, что я головой ушибся, а уже когда очухался. Я даже сразу не вспомнил, что мне сорок девять или что я работаю в ремонтной мастерской. Не помнил о Кэти, ребятах – ни о чем.
Он замолчал и отпил лагер. Альма сидела напротив за промокшим столом, немо вперив в него взгляд, – неподдельно увлеченная, осознав, что он не шутит. Мик продолжал:
– Когда я только прочухался, я вдруг подумал, что мне три года и я проснулся в больнице – после того случая с драже от кашля во время ангины.
Бунтарски невыщипанные брови Альмы озадаченно нахмурились.
– Когда ты подавился и сосед Даг отвез тебя по Графтонской и через Маунтс в больницу на своем овощном грузовике? Мы все думали, что тогда-то ты и получил травму мозга, – по крайней мере, я так думала.
– Все нормально у меня с мозгом.
– Да брось. А как же. Тут только три минуты без кислорода – и пожалуйста. А все говорили, что ты не дышал с самой дороги Андрея до Чейн-уок, а в ржавом драндулете Дага это не меньше десяти минут. Десять минут без воздуха – это смерть мозга, дружок.
Мик фыркнул от смеха в кружку и смочил нос пеной:
– Ты же вроде у нас за интеллектуала, Уорри? Попробуй десять минут не дышать и наверняка заметишь, что это смерть вообще всего.
На этом оба притихли и задумались – но ни к чему определенному, впрочем, не пришли. Наконец Мик продолжил повествование:
– В общем, к чему это я. Когда я проснулся в больнице тогда, в три года, то понятия не имел, как туда попал. Не помнил, ни как подавился, ни как ехал в грузовике Дага, хотя он и говорил, что всю дорогу я был с открытыми глазами. Но когда я проснулся теперь, все было по-другому. Как я уже говорил, мне на минуту показалось, что я опять в больнице и мне снова три – но только теперь я вспомнил, как туда попал.
– В смысле, наш двор и драже от кашля? Или грузовик Дага?
– Ничего подобного. Нет, я вспомнил, как был в потолке. Я пробыл там полмесяца, питался феями. Наверное, это какой-то сон, хотя на сон и не похоже. Куда реальней, но при этом и куда безумней, и все про Боро.
Альма пыталась перебить и спросить, заметил ли он сам, что только что во всеуслышание заявил, будто полмесяца жил в потолке и питался феями. Но Мик пропустил все мимо ушей и продолжил рассказывать о своем приключении, вернувшаяся память о котором так его встревожила. К завершению рассказа Альма сидела с открытым ртом, пораженно уставившись на брата своими глазищами панды под таблетками. Наконец она выдавила свой первый серьезный ответ за вечер.
– Это же не сон, дружок. Это же виде?ние.
Пара продолжила беседу – на этот раз для разнообразия без дураков – в сумраке обезлюдевшего паба, время от времени повторяя заказ: Альма все пила минеральную воду – из отравы она предпочитала полудюжину брусков гашиша размером с батончик «Баунти», разбросанных по ее чудовищной квартире на Восточном Парковом проезде. «Золотой лев» вокруг них погружался в противоположность сумятицы, антигвалт, в котором царствовал неумолимый стук настенных часов. Время от времени свет в баре малозаметно мерцал, словно в помещении кишели отсутствия посетителей, коричневые и прозрачные, как старая целлулоидная пленка, и изредка несколько засиженных мухами не-тел накладывались друг на друга и заслоняли свет, хотя и неощутимо. Долгие часы Мик обсуждал с сестрой Боро и их сны – Альма рассказала о своем, про освещенную лавку на запустелом рынке, где в ночи стучали молотки плотников. Она даже рассказала, как в том сне вспомнила другой сон, в котором Дорин заявила, что голуби – куда уходят умершие, хотя Альма призналась, что, проснувшись, не могла сказать с уверенностью, действительно ли ей это когда-то снилось – или только приснилось, что снилось.
В конце концов, когда немного погодя они вышли на буйство ветра За?мковой улицы, Альма гудела от возбуждения, а Мик нажрался. После разговоров с сестрой и ее воодушевленных тирад ему полегчало. Пока они спускались по За?мковой улице к Фитцрой по призрачному району, Альма рассказывала, что собирается написать целую серию картин, основанных на опыте клинической смерти Мика (а она уже верила, что именно этим и являлись вернувшиеся воспоминания) и своих собственных снах. Она подняла на смех страхи брата за свое психическое здоровье, заявив, что это очередной пример его девчачьей натуры, цепенящего ужаса при виде чего угодно, хотя бы отдаленно напоминающего творческое мышление. «Твоя проблема, Уорри, в том, что, когда тебе в голову приходит мысль, ты думаешь, что это внутримозговое кровоизлияние». Слушая, как она тараторит, словно захлебывающаяся пишмашинка, о нереализуемых и трансцендентальных концепциях картин, он чувствовал, как гора падает с плеч, как он парит в нежном и приторном облаке пердежа с привкусом лагера и растворяется под звездной обсидиановой миской времени закрытия, которую опрокинули на Боро, как будто не хотели подпустить мух.
Они побрели вниз от входных дверей «Золотого льва» и его кариозной светло-зеленой плитки: справа через улицу, о которой давно позабыли автомобилисты, проплывали поблекшая китайская головоломка струпных кирпичей из 1930-х – тылы многоквартирников на Банной улице под названием Дом Святого Петра, – и проемы в невысокой стенке, выходящие на треугольную каменную лестницу в виде зиккурата, с расширяющимися ступеньками от вершины к основанию с каждой стороны. За ней стояли сами многоквартирники с высеченными щелями баухаусной тени на фасадах, с двойными дверями в нишах портиков; окна с катарактами тюля – большинство без света. От поймы Конца Святого Джеймса к западу от реки завизжали полицейские сирены, как баньши из Radiophonic Workshop [8 - Студия звуковых эффектов и музыки BBC Radiophonic Workshop (1958–1998), среди прочего работавшая над сериалом «Доктор Кто» в 50—60-х.], и Мик задумался о своем недавнем откровении, осознавая, что, несмотря на духовный подъем при виде пылкой, почти фанатичной реакции сестры, где-то глубоко по-прежнему засел жесткий комок беспокойства, хотя и затопленный в озере отупляющего янтарного пойла. Словно уловив смену его настроения, Альма прекратила заливаться соловьем о том, какие невиданные пейзажи ей предстоит запечатлеть, и бросила взгляд мимо него в ту же сторону – на зады немых многоквартирников, объятых ночью.
– Да уж. В этом и проблема, да? Не «Что, если у Уорри ум за разум зашел», а «Что, если нет?» Если то, что ты видел, значит то, о чем я думаю, тогда вот с чем нам придется иметь дело, – Альма кивнула на темные многоквартирники и Банную улицу, а может, и куда-то еще дальше. – Со всем, что ты повидал, когда разгуливал с бандой мертвых детей, – Деструктором и всем таким. Вот против чего нам придется выступить. Вот почему мне придется расстараться с картинами и изменить мир до того, как его окончательно угробят.
Мик с сомнением взглянул на Альму:
– А тебе не кажется, сестричка, что уже поздно? Сама посмотри.
Он пьяно обвел рукой округу, когда они дошли до основания приблизительной трапеции горбатого пригорка под названием Замковый Холм, куда выходила былая улица Фитцрой. Теперь она превратилась в расширенное шоссе, ведущее в стопку обувных коробок застройки шестидесятых, где когда-то пролегали феодальные коридоры улицы Рва, Форта и прочих. Кончалось шоссе клаустрофобным тупичком с парковкой, зажатой с двух сторон зданиями, а с третьей – переливающимися через бордюр черными грязными кустами, последней линией отчаянной обороны природы Боро.
До постройки этого жалкого жилищного комплекса, еще в юные годы Мика и Альмы, в тупике находилась безобразная пародия на детскую площадку с маленьким лабиринтом из синего кирпича в центре, как будто созданным для скудоумных лепреконов, и с вечно маячившим над душой творением кубиста-аутиста – бетонным конем, слишком угловатым и неудобным, чтобы его оседлать, с пустой дырой вместо глаз, просверленной в голове на высоте висков. Но даже такая абстрактная скульптура была не столь омерзительна, как это место для изнасилований на свидании и для слета извращенцев-вуайеристов, с наспех размазанной по розовым тротуарным прямоугольникам жижей асфальта, похожей на дешевую просроченную икру, которая, в свою очередь, покрывала и ухабистые переулки, и каменные плиты дворов. Только в канавах у обочин, где все эти слои шелушились под жаром солнца, можно было разглядеть страты утрамбованного человеческого времени – кольца на давно срубленном цементном пне Боро. Из-под холма, с другой стороны автостоянки и дешевых, сердитых надгробий обрамляющих ее многоквартирников доносились траурные визг и лязг товарняка, с рокотом и ропотом карабкающегося по склону впадины прочь от сетки железнодорожных рельс на дне, похожих на шрамы от самовредительства.
Альма смотрела туда, куда показал Мик, сложив замалеванные ресницы в презрительном прищуре из спагетти-вестерна, так что глаза казались пауками-скакунами, изготовившимися к смертельному броску.