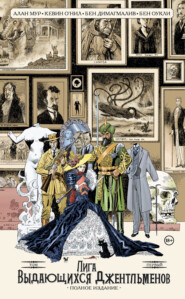По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Иерусалим
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Его в наших краях очень уважают, хотя могу понять, какое это испытание, если с ним жить. Дело в том, что он Верналл. Как и ты. Такое слово, как и «смертоведка», не услыхаешь нигде, кроме Боро. И даже при этом половина не знает, что это значит. Это старые имена, и скоро их не останется на свете, голубка моя, как не останется и нас, кто их носит. Прояви уважение к отцу и к тетушке прояви, мастерице аккордеона. Сомневаюсь, что мы еще встретим подобных людей, особенно раз они так легко разбрасываются деньгами. Да, ты бы могла быть богачкой, но сама подумай. Ты бы стала слишком хороша для венчания со своим Томом, и где бы тогда был твой малыш? Что ни делается – все к лучшему, по крайности в наших местах.
Мэй вняла словам миссис Гиббс, когда услышала о своем муже. Том Уоррен относился к Мэй с таким уважением, какого она никогда не встречала в мужчинах. Ухаживал за ней так, словно она голубых кровей, дочка короля, а не деревенского дурачка. Смертоведка была права. Будь Мэй богата, она бы решила, что Том гонится только за большим фунтом. Живи она на Биллингской дороге, он бы к ней и на десять ярдов не подошел. А этот ребенок, которого Мэй хотела так отчаянно, оказался бы очередной ненаписанной страницей.
Не то чтобы она все простила Снежку. Он же так себя вел не из соображений о благе Мэй, а из собственных прихотей. Откуда ему было знать, что она выйдет за Тома, если только он сам не предсказатель? Как и всегда, он поступал, как ему вздумается, без единой мысли о других. Как в тот раз, когда вдруг сорвался с места, прошел всю дорогу до Ламбета и пропал на несколько недель, и чем там занимался – никто и не догадывался. О, конечно, он не тунеядствовал и приносил домой жалованье, но Мэй знала, что ее мама Луиза подозревала, будто у него есть и другие женщины. Мэй казалось, что мама вполне может быть права. Он был блудливым сукиным котом, который мог бить баклуши со своими приятелями, а сам все строил глазки их женам. Мэй надеялась, Том, который замечательно спелся с тестем, не подхватит эту слабость на передок. Этим утром, когда все началось, они вместе улизнули в паб, чтобы не мешаться. Хотя прогнала их сама Мэй. Не хотела, чтобы Том видел ее такой.
Сладкий, как масло, свет из очага лежал густым слоем на латунных шишках, венчающих решетку. Сгорбленная тень, отброшенная миссис Гиббс на стену в бумажных розочках, словно принадлежала великанше или самой Судьбе. В полудреме от усталости Мэй чувствовала, как надвигается что-то великое, что-то ощутимое все ближе, но затем на ее утробе сомкнулся жестокий кулак и вырвал все хлипкие нити мыслей, как волосы.
В этот раз, хотя мучения были еще страшнее, Мэй хотя бы не забыла дышать, пыхтела и хватала воздух не хуже, чем – вспомнилось ей – во время зачатия этого болезненного узелка. Мысль показалась комичной, и она рассмеялась, но снова свалилась в крик. Миссис Гиббс подбадривала мягким шепотом. Говорила, какая Мэй храбрая и умница, и сжимала ладонь, пока волна не обмелела.
Перепутанные детали мозаики из мыслей Мэй разбросало по ковру воображения – тысяча цветных и чуть разных фигур, которые она не могла не перебирать, находя все уголки, затем все краешки, отличая синие кусочки с небом от земли, крапчатой, как пасхальное яйцо. Она терпеливо восстанавливала картину самой себя – кто и где она и что происходит, – но тут снова протопал носорог деторождения, которого она не ждала так скоро после предыдущего набега, и, грубо махнув рогом, свел на нет все ее усилия собраться. Смертоведка отпустила руку и переместилась к концу лежанки, между коленей Мэй. Голос миссис Гиббс был твердым и командным, распоряжался без лишней тревоги.
– А вот теперь можешь стараться и тужиться. Чуть-чуть – и готово. Терпи, голубка, терпи. Уже недолго осталось.
Мэй сомкнула губы на клокочущем крике и выдавила его в направлении чресл. Ей казалось, будто она пыталась высрать мир. Она толкала и тужилась, хоть и верила, что так из нее вывалятся все внутренности. Боль наливалась, распирала шире, чем, как Мэй знала, она была там, внизу. Она лопнет, треснет, ее разорвет напополам, придется зашивать от носа до зада. Вой, пойманный за сжатыми зубами, звенел в ушах песней, как чайник, и вырвался, чтобы наполнить тесную золотую каморку, когда все внутри вскипело и убежало пеной.
Миссис Гиббс сдавленно охнула. Вышла головка ребенка, и если бы Мэй могла заглянуть за горизонт талии, то разобрала бы рыжие кудри, как огоньки, куда ярче ее собственных. Миссис Гиббс выпучила широко распахнутые глаза, словно обратилась в камень. Придя в себя, смертоведка подхватила сложенное полотенце и наклонилась, готовая принять дитя. Но почему она так бледна? Что пошло не так?
Момент словно плыл перед глазами, скользил из яви в сон и обратно. Ей показалось или в какой-то момент по дому пронесся крепкий ветер, хотя двери и окна были накрепко закрыты? Что потревожило занавески, скатерть и вышитых бабочек, роившихся на хлопающем подоле фартука на смертоведке? Голос миссис Гиббс, словно доносящийся из-за шквала, говорил, что еще чуть-чуть, вот еще крайний рывок, – и тут неудобства последних девяти месяцев вышли из Мэй на диван, растаяли в облегчение, блаженнее и всеохватнее, чем она могла себе представить. Миссис Гиббс взяла острый нож, вонзенный ранее лезвием в свежую бурую почву у корней герани, пожухшей в горшке на подоконнике. Одним решительным движением она отхватила пуповину.
Мэй пыталась сесть, вспомнив выражение лица миссис Гиббс, когда вылезла голова ребенка.
– Он здоров? Что случилось? Что-то случилось?
Голос Мэй охрип – словно надтреснутый скрип. Смертоведка с сумрачным видом подняла обернутое в полотенце тельце, лежавшее на руках.
– Очень боюсь, что так, голубушка моя. Страсть какая красота заключена в твоем дитятке.
Мэй протянула руки к ребенку, но не смела смотреть, щурясь из-за лампады и огня, на один бок младенца, медный от света, и второй – сливочный. О чем говорит эта женщина? Она с внезапным приступом паники осознала, что ребенок не плакал, и тут услышала, как он пищит. Она почувствовала, как тяжелый сверточек в руках шевелится, и, дрогнув, рискнула раскрыть глаза, словно перед пышущей печью или жаром полудня.
Головка была как бутон розы: хотя и туго сморщенный, Мэй знала, что он распустится во всем великолепии. Глазки, призрачно-голубые, как яйца малиновки, были большие, как брошки, и сосредоточились на глазах Мэй. Их цвет идеально дополнял пылающе-рыжие волосы новорожденного – ясное летнее небо в конце террасы в обрамлении нортгемптонских кирпичей, озаренное последними лучами заходящего солнца. Кожа младенца была белоснежной, блестела, как под тальком из толченого жемчуга, припорошенная блеском на бедрах, пальчиках – терпеливое полотно, готовое к мягкой кисти времени, обстоятельств и характера. Взгляд сраженной молодой матери обегал первенца, не зная, где и задержаться, но всегда возвращался, как привороженный, к этим глазам, необыкновенному лицу. Как будто всю Вселенную вместили в калейдоскоп, блестящий колодец, в котором с каждой стороны сомкнулись обожающие глаза матери и чада, отраженные и навечно застывшие в янтаре момента. Мэй наблюдала, как розовый цветок губ птенчика раскрывается вокруг первых булькающих звуков, как сбегает в уголке блестящая капелька ртутной слюны, повиснув на нитке. Вокруг матери и ребенка словно зависла аура, лакируя картину, придавая лоск ренессанса. Она поцеловала коричневую маковку, пахшую теплым молоком в постели на ночь, и поняла, что держит в руках сокровище. Каким-то чувством осознала, что принесла в мир такое изысканное видение неземной прелести, что даже напугала миссис Гиббс.
Запоздало, словно задней мыслью, еще Мэй осознала, что это девочка.
– Как назовешь ее, голубка? – спросила миссис Гиббс. Мэй огляделась пустым взглядом, уже успев позабыть, что в комнате есть кто-то, кроме нее и крошечной дочурки.
Она договорилась с Томом, что мальчика они назовут Томас, в честь него, а девочка получит имя в честь нее.
– Мы думали назвать ее Мэй, как меня, – ответила она. Уши ребенка словно навострились при звуке имени, круглая головка каталась, беспокойно ворочаясь на желтом от лампады нимбе полотенца. Миссис Гиббс кивнула, слабо улыбнулась, словно еще не вполне оправилась от ошеломляющего очарования малышки, ее воздействия, как от красоты Медузы. Неужели она боялась? Мэй оттолкнула такие мысли. Чего можно бояться в этом драгоценном цветке? Бредни, только разыгравшееся воображение Мэй, сверхъестественная околесица вокруг деторождения, которой она нахваталась от мамы. Не так уж много сотен лет минуло с тех пор, как таких, как миссис Гиббс, заставляли приносить клятву, что они не будут ворожить над ребенком, молвить во время рождения какие-либо слова или подменять в колыбели на фейри. Еще до того, как их стали звать смертоведками, еще когда эти женщины носили другие имена. Но то было тогда. А сейчас – 1908 год. Миссис Мэй Уоррен – современная девушка, которая только что произвела на свет чудо. Она будет его кормить, лелеять, холить, и это важнее, чем слушать сказки старух или читать знамения в чаинках или голосе повитухи.
Ребенок, свернувшийся на пышном бюсте Мэй, засыпал. Мать обернулась к миссис Гиббс:
– От нее глаз не оторвать, от моей дочули, правда?
Миссис Гиббс усмехнулась, вытирая свои вещи:
– Что правда, то правда, голубка моя. Так и есть. Я ее всю жизнь не забуду. А теперь накройся-ка, пока сюда не ворвалась охочая до встречи ватага.
Смертоведка наклонилась между ног Мэй и одним движением, ловким и неброским, рывком извлекла послед за обрезанную пуповину, спрятав прежде, чем Мэй даже осознала, что он вообще был. Пока миссис Гиббс избавлялась от него, Мэй привела себя в порядок, как могла. И тогда, как и предсказывала миссис Гиббс, в комнату набилась семья.
Мэй удивилась тому, как смирно они себя вели – вошли на цыпочках и переговаривались шепотом. Ее мама Луиза ворковала и хлопотала, а Джим весь покраснел то ли от стыда, то ли удовольствия, лучась улыбкой и радостно кивая. Кору привела в смятение внешность малышки, и лицо ее стало, как ранее у смертоведки. Даже Джон лишился дара речи.
– Она красавица, сеструха. Просто чертовская, – вот и все, что он вымолвил.
Луиза заварила всем еще по чашечке чая на скорую руку, и Мэй не отказалась. Это был горячий нектар, крепкий, с сахаром, и, пока мама и сестра осторожно передавали ребенка по кругу, Мэй благодарно отпила из чашки. Атмосфера – тихое бормотание с нечастыми сонными вскриками ребенка Мэй – была как в церкви, и ее не покоробило даже возвращение домой Тома и отца.
От папы пахло пивом, но Том все утро потягивал одну половинку пинты, и потому его дыхание было свежим. Мэй отставила чай, чтобы поцеловаться и обняться, прежде чем Том взял их ребенка. Он стоял с пораженным видом, все переводил взгляд между двумя Мэй. Его выражение говорило, что он не мог поверить, как им повезло с такой картинкой, а не ребенком. Он вернул малышку, а потом отправился покупать Мэй цветы.
Ее папа, под мухой, отказался держать малышку, что избавило всех от хлопот его отговаривать. Он пропустил шесть пинт до полудня и две на обед, купленные благодаря карикатурам и грубым шаржам – Снежок рисовал смешные картинки с любого желающего, и за эти оскорбления расплачивались элем. Даже несмотря на творчески плодотворное утро, Мэй казалось странным, что ее отец ушел в такой загул из-за рождения внучки. Не менее редким оказалось то, что выпивка привела его в меланхоличное настроение. Он не мог отвести взгляда от малышки Мэй, хотя и видел ее через дрожащую линзу слез – совсем рассиропился. Она и не знала, что где-то в пучеглазой, таращившейся, тщедушной фигуре отца есть место для сентиментальности. Она обнаружила, что теплеет к нему душой. Вот бы он всегда был таким.
Теперь Снежок смотрел на старшую Мэй. К этому времени его сморщенные веки переполнились, и влага заструилась по щекам.
– Я и не знал, милая. Даже не мечтал. Знал, что быть ей красой, под стать тебе и твоей маме, но не таким золотцем. Ох, как же тяжело, девочка. Настолько она хороша.
Снежок положил ладонь на руку Мэй, сказал с плохо скрытым надломом в голосе:
– Люби ее, Мэй. Люби ее, что есть мочи.
И с этими словами отец бросился вон из комнаты. Они слышали, как он топочет наверх – наверняка проспаться после всего выпитого пива. Все это время миссис Гиббс сидела молчком, попивая чай и открывая рот, только если к ней обращались. Мама Мэй, Луиза, сунула смертоведке два шиллинга – вдвое больше обычной платы. Миссис Гиббс твердо вернула один.
– Ну-ну, миссис Верналл, со всем уважением, – будь она страшненькой, я же не стала бы просить вдвое меньше.
Склонившись у дивана, она простилась с Мэй, которая отблагодарила смертоведку за все, что та сделала.
– Вас как бог послал. Когда будет на подходе следующая, обязательно кликну вас. Я твердо решила, что хочу двух девочек, а потом и хватит. Потому надеюсь, вы вернетесь, когда подойдет срок второй дочурки.
В ответ Мэй удостоилась вялой улыбки.
– Поглядим, голубка моя. Поглядим, – отвечала миссис Гиббс.
Она попрощалась с семьей – дольше всего прощалась с крошкой Мэй, – затем сказала, что провожать ее не надо. Надела шляпу и пальто. Было слышно, как она ступает по коридору и, повозившись с замком, выходит на улицу, со щелчком прикрыв дверь.
* * *
По поверхности реки со светом поплыл плач расстроенного аккордеона и поднял рябь на сентябрьском дне. На кованом железном мостике, перекинутом между речным островком и парком, стояла Мэй с восемнадцатимесячной дочкой на руках. Отсюда можно было различить тетушку Турсу, далеко-далеко – коричневая точка, шагавшая по противоположному берегу парка к скотному рынку.
Хоть ее было не разглядеть, Мэй слишком легко могла представить во всех жутких подробностях тетушку, которую, наряду с папой Снежком, считала худшим позором семьи. Она так и видела птичью головку Турсы с гордым клювом, бледные и пронзительные глаза, серые волосы клоками такого вида, словно у нее дымятся мозги. На ней обязательно будут коричневое пальто и коричневые туфли, чертов аккордеон на шее – вылитый старый мореход с альбатросом. И день и ночь она бродила по улицам и играла экспромты, пальцы бегали по серым клавишам громоздкого инструмента. Мэй бы не так сгорала от стыда, если бы у Турсы был хотя бы намек на музыкальный слух. Но тетушка лишь поднимала безбожный тарарам, выколачивала нарастающие и опускающиеся аккорды, смазанные в хрипящий визг баньши, обрывавшийся у внезапной пропасти частых случайных пауз. С полудня до полуночи семь дней в неделю слышалась ее леденящая душу какофония, струилась среди дворов и дымоходов, распугивала кошек и будила детей в колыбелях, шугала птиц и провозглашала, что Верналлы проснулись. Стоя на мосту, Мэй наблюдала, как пятнышко шумной сепии – ее тетушка-безумица, – как цапля, выбирала путь по берегу в парке Беккетта, где вдоль променада Виктории пенились листья. Когда Турса и ее мрачный аккомпанемент смолкли вдали, Мэй отвернулась к светловолосому чаду на руках.
Рыжие волосы, вьющиеся на голове дочери при рождении, выпали и вернулись белым золотом, сиятельными сережками нимба, что казались даже великолепнее жаркой меди, с которой она родилась. Уж точно еще более неземными. Юная Мэй хорошела с каждым днем, к вящему удивлению Мэй и Тома. На нее становилось больно смотреть. Оба родителя сперва думали, что ребенок кажется чудесным только им, что друзья просто делают комплименты, но постепенно осознали по реакции, которую она вызывала, где бы ни появлялась, что это беспримерная красота, красота, вызывавшая хор вздохов, нервное благоговение, словно зрители видели вазу династии Минь или первого представителя новой расы.
Мэй помурчала и приблизила ребенка к себе, чтобы коснуться лбами – галька к глыбе, – и чтобы их ресницы почти бились друг о друга, как два влюбленных мотылька. Дитя гугукнуло в неудержимой радости – единственный ее ответ почти на все вокруг. Казалась, она просто счастлива жить и, похоже, находила окружающий мир не менее изумительным, чем тот находил ее.
– Вот так. Гадкий шум наконец затих. Это все твоя полоумная тетушка Турса, грохочет на всю улицу своей тарахтелкой. Но она уже ушла, так что мы с тобой можем дальше гулять по парку. На островке бывают лебеди. Лебедушки. Хочешь посмотреть? Так, вот что я тебе скажу, дай-ка мама залезет в карман, угостимся еще радужными конфетами.
Копаясь в боковой прорези на юбке, пальцы отыскали маленький рожок из коричневой бумаги с завернутым верхом, купленный в лавке Готча на Зеленой улице по дороге в парк. Одной рукой, пока вторая была занята ребенком, Мэй развернула и открыла кулек, достала три шоколадные конфеты в кондитерской обсыпке – одну для малышки, две – себе. Она поднесла сласть к губам дочери – те открылись с комичной готовностью, чтобы Мэй поместила лакомство на крошечный язычок, – затем сжала два оставшихся шоколадных диска в один, словно в виде объектива, а цветные пятнышки испещряли поверхность их боков, словно на картинах французских художников. Забросила в рот и рассосала до гладкости – ее любимый способ есть радужные конфеты.
С маленькой Мэй у плеча, как отложенной для отдыха волынкой, она прогулялась по невысокому мосту на редкую и пожелтевшую траву острова. Островок – всего два или три акра – рассекал Нен на северном приверхе, и два ее потока воссоединялись единой рекой на южном ухвостье. Край острова обходила протоптанная тропинка, окружая заливной луг в центре, который иногда становился прудом, но не сегодня. Сойдя с моста, Мэй повернула направо и начала обход речного берега против часовой стрелки, с ветром в темно-рыжих волосах и с дочкой, чавкающей шоколадкой у шеи. В лазури над головой скользнули облака, так что тень Мэй сперва поблекла, затем выскочила снова, но в остальном денек был вёдрый.
Теперь справа от нее была вода и за ней широкий простор парка Беккетта – с позеленевшим ото мха старым павильоном, скамейками, кустами и общественными туалетами, деревьями, обожженными осенью и начавшими заниматься огнем. Зеркальная лента реки бежала под темным навесом ветвей, отражая под медальным переливом своей зыбкой груди трещины умбры, расплывчатую полынь, обрывки неба таусинного цвета.