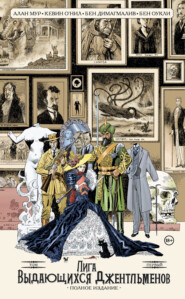По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Иерусалим
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Здравствуйте» в ответ было отлито из свинца. Оно покинула уста Мэй и ухнуло на циновку – слиток речи, тупой и бесцветный, из которого не построишь разговора. Смертоведка аккуратно обошла его и продолжила:
– Если не хочется говорить, голубушка, то и не говори. Но если это тебе нужно, а ты не знаешь, как, то расскажи мне все, что твоей душе угодно. Я тебе не родная и я тебе не судья.
Единственным желанием Мэй было отвернуться, хотя она и признала, по крайней мере внутренне, что миссис Гиббс задела за живое. В последние два дня ей не с кем было поговорить по-настоящему, – разве что с самой собой. Она не могла сказать Тому и двух слов, не разрыдавшись. Они доводили друг друга до слез, хотя оба ненавидели плакать. Это слабость. А кроме того, Тома не было рядом. Он работал. От мамы Мэй, Луизы, тоже не было никакого проку, и не только потому, что мама легко то и дело ударялась в слезы. Скорее, Мэй словно подвела мать. Не стала хорошей матерью в свой черед, не продолжила ткать родительский гобелен. Спустила петли и опозорила семью. Она не могла посмотреть им в глаза – а они не могли помочь. А попытка тетушки вовсе кончилась ужасной сценой, которую Мэй выталкивала из памяти.
В итоге Мэй осталась одна. В этом тоже виновата она, как и во всем остальном, но теперь ей некому было поведать, что творится на душе, о страшных мыслях и идеях, слишком скверных, чтобы произносить вслух. И все же говорить надо, а рядом миссис Гиббс – незнакомка вне клана Мэй и любого другого, насколько понимала Мэй, не считая только самих смертоведок. Миссис Гиббс казалась вне всего, такая же осторожно безучастная, как небо. Ее фартук, глубокий и тайный, как ночь или как колодец, был сосудом, куда Мэй могла опустошить весь ужас, чтобы он не звенел в думах многие годы. Мэй подняла воспаленные красные глаза, только чтобы встретить серые глаза пожилой женщины.
– Простите. Я не знаю, как мне быть. Не знаю, как жить дальше. Завтра днем ее похоронят, а потом у меня ничего не останется.
Голос Мэй был ржавым, скрипел после простоя, – голос карги, не двадцатилетней девушки. Смертоведка подтянула расплетающийся стул, села у ног Мэй и взяла ее за руку.
– Ну-ка, миссис Уоррен, выслушай меня. Не надо мне говорить, будто ничегошеньки у тебя не осталось. И сама даже в мысли не бери. Если ничего не осталось, чего же стоит вся жизнь твоей дитяти? Или все наши жизни, коли на то пошло? Либо они целиком имеют ценность, либо ничего не имеет. Или ты жалеешь, что вовсе ее родила? Ты бы предпочитала не видеть меня и однажды, лишь бы не видеть дважды?
Она прислушалась и поняла, что это правда. Если подать так, спросить напрямую, не лучше ли, если бы маленькая Мэй совсем не родилась, мать могла только глупо покачать головой. Вялые рыжие пряди упали непричесанными на лицо. Нельзя сказать, что у нее ничего не останется, – остались восемнадцать месяцев кормежки, отрыжки, походов в парк, смеха и слез, смены маленькой одежды. Но у нее по-прежнему не осталось Мэй. Остались воспоминания о ее девочке, любимых выражениях лица, жестах, любимых звуках, но они ранили знанием, что к списку не прибавится новых. И это была лишь эгоистичная часть тоски – она жалела себя из-за того, что потеряла. А нужно больше жалеть ребенка, который отправился во тьму совсем один. Мэй подняла безнадежный взгляд на миссис Гиббс:
– Но как же она? Как же моя Мэй? Мне хочется верить, что она в раю, но ведь нет? Так только детям говорят про кошку или собаку, когда найдешь их с переломанным хребтом на улице.
На этом она снова заплакала, вопреки себе, и миссис Гиббс подала ей платок, потом сжала руку Мэй своими сухими пальцами – словно на ладони Мэй закрылась Библия.
– Я и сама не очень-то верую в рай или то, что там у нас внизу. Чушь какая-то. А знаю я только, что дочь твоя наверху, и веришь ты мне или нет – дело не мое и не ее. Просто она там, голубка моя. Вот и все, что я знаю, и я бы так не говорила, если б не была уверена. Она наверху, где все мы будем. Осмелюсь сказать, твой папа это уже тебе толковал.
От упоминания об отце Мэй вздрогнула. Он и впрямь так говорил. Теми же самыми словами. «Она наверху, Мэй. Не страшись. Теперь она наверху». На самом деле, задумавшись, она поняла, что иначе он о смерти никогда не отзывался. Ни он, ни его родня, никто в округе. Никогда не говорили «в раю» или «с Богом», ни даже «на небесах». Говорили «наверху». Загробная жизнь казалась вторым этажом с ковриком.
– Правда ваша, он в самом деле так сказал, но что это значит? Вы говорите, это не как рай в облаках. А где же тогда оно, это «наверху»? Какое оно?
В собственных ушах Мэй голос прозвучал обиженным, злым из-за того, как миссис Гиббс самоуверенна в таком страшном вопросе. Она сама испугалась своего тона и думала, что смертоведка оскорбится. К ее удивлению, та лишь рассмеялась:
– Если честно, там примерно так же, голубка моя, – она обвела рукой кресло, комнату. – А чего еще ты ожидала? Там почти так же, только выше на ступеньку.
Теперь Мэй не злилась. Только чувствовала себя странно. Разве ей уже не говорили те же самые слова? «Почти так же, только выше на ступеньку». Так знакомо и так верно, хотя и непонятно, что это значит. Напоминало те случаи, когда ее в детстве посвящали в какие-нибудь тайны – точно как когда Энн Берк рассказывала Мэй про то, как делают детей. «У мужика малафья на конце хрена, он его сует в твою щелку». Хотя Мэй и думала, что малафья – словно кучка мыльных хлопьев, которые подают на плоском конце хрена, как на ложечке, она откуда-то знала, что все это правда; понимала то, о чем раньше не догадывалась. Или когда мама отвела ее в сторонку и загробным голосом рассказала, зачем нужны тряпки-затычки. Теперь, с миссис Гиббс, все было так же. Один из тех моментов в человеческой жизни, когда узнаешь то, что уже знают все, но не говорят вслух.
Мэй глянула на гроб в другом конце комнаты и тут же поняла, что все это белиберда. «Наверху» – только рай с другим названием, та же сказочка, чтобы утешить и заткнуть скорбящих. Просто из-за самой атмосферы миссис Гиббс, из-за ее манер слова сходили за полуистину. Откуда ей-то знать про то, что бывает после? Она такая же жительница Боро, как Мэй. Только, конечно, смертоведка, что придавало ее чуши больше веса. Миссис Гиббс снова заговорила, сжимая ладонь Мэй:
– Я же говорю, голубка, – ты хочешь верь, хочешь не верь. Мир круглый, даже если мстится, что плоский. Разница есть только для нас. Если мы знаем, что это шар, то и ни к чему ежечасно переживать, что мы свалимся с края. Но давай не будем о твоей дочери, голубка. Что случилось, то случилось, и ее горю помочь уже нельзя – а твоему можно. Как ты себя чувствуешь? Что сталось после всего с тобой?
И снова Мэй обнаружила, что ей нужно задержаться и подумать. Об этом ее никто не спрашивал, в эти последние два дня. Не спрашивала это у себя и она – не смела в гулком колодце слез, в который превратились ее мысли. Как она себя чувствует? Что с ней сталось? Она высморкалась в поданный чистый платок, заметив, что на нем нет бабочек, только одна вышитая пчела. Закончив, туго свернула тряпицу и сунула в рукав свитера – миссис Гиббс пришлось отпустить руку Мэй, хотя как только маневр был исполнен, та сама охотно скользнула пальцами в ладони смертоведки. Ей нравилось прикосновение женщины: теплое, бумажное и надежное в круговерти обоев комнаты. Все еще шмыгая носом, Мэй попыталась объясниться.
– Чувствую себя так, словно все провалилось сквозь землю и ахнуло в колодец, как камень. Я даже как будто сама не своя. Сижу, плачу и никакой мочи нет. Не вижу, зачем что-то делать – причесываться или кушать, что угодно, – и конца-края не вижу. Хочется умереть, вот вам правда. Чтобы нас положили в один гроб.
Миссис Гиббс покачала головой.
– Ты так не говори, голубка. Это мысли пустые и малодушные, сама знаешь. А на деле, если не ошибаюсь, ты вовсе не желаешь умирать. Ты только не хочешь жить, потому что жизнь тяжела и в ней не видно толку. А это разные вещи, голубка. И хорошенько думай, что говоришь. Одно исправить можно, а другое – нет.
Часы тикали и в лучах, косо падающих на пол, кувыркались парящие пылинки, а Мэй думала. Миссис Гиббс была права. Ей не хотелось смерти по-настоящему, но она потеряла резон жить. Хуже того, начинала подозревать, что у жизни – всей жизни на всем белом свете – никогда и не было резонов. Это мир случайностей и беспорядка без всякого божественного промысла за событиями. Пути Господа не неисповедимы – их просто вовсе не видишь. Какой же смысл продолжать, причем всему человечеству? Зачем все рожают детей, когда знают, что они умрут? Дают им жизнь, потом отнимают, только чтобы не было скучно. Как жестоко. Как же раньше она иначе смотрела на мир?
Мэй попыталась передать все это миссис Гиббс, бессмысленность всего.
– В жизни нет смысла. Я не вижу смысла с самого времени, как доктор Форбс сказал, что у Мэй диф. Чумная лошадь пришла прямо по плитам, где нет дороги, хотя обыкновенно телеги ждут в конце улицы. И раз – нет ее. Забрали в темном фургоне, увезли по Банному ряду – и все на этом. Я стояла на дороге, ревела и платок жевала. Никогда не забыть, как я там стояла…
Наклонив увенчанную узелком голову к плечу, миссис Гиббс молча сжала горячую руку Мэй с новой силой, побуждая продолжать. Мэй даже не понимала, как ей нужно было выговорить все это хоть кому-то, облечь в слова и снять камень с души.
– Рядом был Том. Том держал меня в руках, чтобы я не сорвалась за телегой. Моя мама, в доме номер десять, – она не вышла, следила, чтобы Кора и Джонни сидели тихо, не выскочили и не мешались.
Миссис Гиббс испытующе поджала губы, затем спросила то, что было у нее на уме:
– А где же был твой отец, голубка, если можно спросить?
Мэй задумалась, потом продолжила:
– Он стоял на своем пороге и… нет. Нет, он сидел. Сидел. Я его почти не видела, не до того было, но теперь вспоминаю – он сидел на ступеньке, как в июльское воскресенье. Как ни в чем не бывало. Вид у него был хмурый, но не расстроенный или удивленный, как у других. По правде сказать, его больше потрясло, когда она родилась.
Она помолчала. Прищурилась на миссис Гиббс.
– И если подумать, то и вас тоже. Когда она показалась, вы побелели как простыня. Я даже спросила, не случилось ли чего, а вы сказали, что боитесь, будто случилось. Сказали, что это все красота – что у нее страсть какая красота, я помню. А потом, когда вы уходили, никак не могли с ней расстаться.
Все сложилось. Мэй уставилась в неверии. Смертоведка бесстрастно смотрела в ответ.
– Вы знали.
Миссис Гиббс даже не моргнула.
– Ты права, голубка моя. Знала. И ты знала.
Мэй охнула и попыталась отнять руку, но смертоведка не пустила. Что? Это еще что? Что говорит эта женщина? Мэй не знала, что ее ребеночек умрет. Даже в голову не приходило. Хотя…
Хотя ведь приходило, тысячу раз, и как ее только не пугало. Самым худшим чувством было, что это ошибка, что красавицу дочку отдали ей, а предназначалась она явно для королевской семьи. Что-то перепутали, где-то проглядели. Рано или поздно об этом узнают, словно большую бандероль доставили не по адресу. Кто-нибудь зайдет ее забрать. Она знала, что ей это не сойдет с рук – это дитя, которое так сияло. Где-то в глубине души Мэй знала всегда. Вот истинная причина, почему она приняла так близко к сердцу слова той женщины в парке Беккетта. Потому что они говорили о том, что Мэй и так знала, только ей духу не хватало признать: у нее отнимут дочь. Однажды раздастся стук в дверь, войдет кто-нибудь с печальным видом из управы или полиции, или женщина из «Барнардо» [49 - Фонд детской благотворительности.]. Просто Мэй не думала, что это будет доктор Форбс.
Часы тикали, и она мимолетно задумалась, сколько прошло времени с последнего удара стрелок. Миссис Гиббс наблюдала за ней, пока не убедилась, что Мэй все поняла, затем продолжила:
– Нам ведомо куда больше, чем мы сами себе говорим, голубка моя. По крайней мере, некоторым. А если бы я еще тогда, на родах Мэй, открыла все, что предвидела, сказала бы ты спасибо? Рассказывать такое попросту незачем. Ежели бы ты сама прислушалась к предчувствиям, то все равно не смогла бы предотвратить ничего, кроме разве что восемнадцати месяцев счастья.
Смертоведка наклонилась на стуле, ее накрахмаленный черный фартук чуть ли не захрустел.
– Ну-ка, ты уж прости, что это говорю, голубка моя, но кажется мне, ты много взяла на себя. Думаешь, что ты плохая мать, но ведь нет. Дифтерия не выбирает, не смотрит, кто как живет, – хотя бедные, конечно, на очереди первые. Но это болезнь, голубка, не наказание. Не кара тебе или твоей деточке, не последствия того, как ты ее растила. Ты будешь только лучшей матерью, не хуже. Ты научилась тому, что ведомо не всем матерям, и научилась на горьком опыте, рано. Ты потеряла одного ребенка, но не потеряешь другого и всех остальных. Посмотри на себя! Ты мама от бога, голубка моя. В тебе еще столько детишек.
Мэй отвернулась к плинтусу, и тогда смертоведка сузила глаза:
– Прости уж, если сказала не к месту или то, чего говорить не следовало.
Мэй покраснела и снова вскинула взгляд на миссис Гиббс:
– Ничего такого. Просто вы угадали одну мысль, что так и ходит кругом в голове. Детишки во мне, говорите. Глупость, но мне кажется, один уже на подходе. И не знаю, с чего я взяла, и частенько думаю, будто сама себе, дуреха такая, выдумываю, чтобы не тужить по Мэй. Никаких знаков – но и откуда. Если чувство верное, тогда понесла я всего две недели назад. Чепуха это, сама знаю, просто выдумала, чтобы было о чем думать хорошем, а не плакать часами навзрыд.
Смертоведка гладила руку Мэй – то ли ласка, то ли целебный массаж.
– А почему ты думаешь, если это не слишком личный вопрос, что ты в положении?
Мэй снова покраснела.