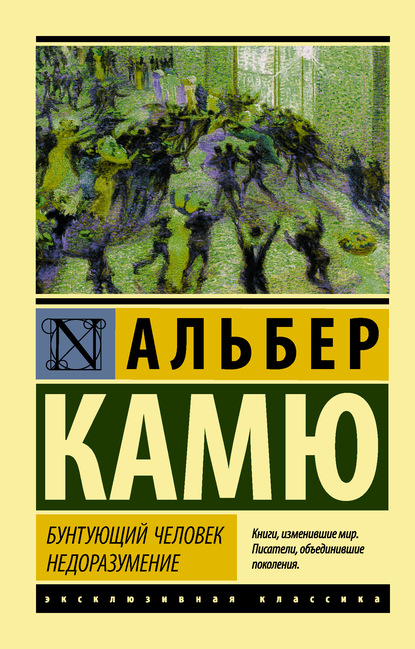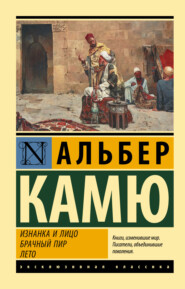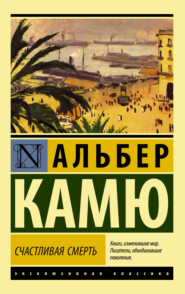По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бунтующий человек. Недоразумение (сборник)
Автор
Жанр
Год написания книги
2013
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сад пытался, вполне в духе своего времени, сконструировать идеальное общество. Но он, в противовес духу времени, заложил в основу этого общества природную злобность человека. Старательно выстраивая город силы и ненависти, он, как предтеча иных времен, доходил до того, что высчитывал в цифрах степень обретенной им свободы. Вся его философия умещается в холодной бухгалтерии преступления: «Убито до 1 марта: 10. После 1 марта: 20. Схвачено: 16. Итого: 46». Предтеча, да, но пока в довольно скромных рамках.
Если бы этим все и ограничилось, Сад заслуживал бы не больше интереса, чем прочие оставшиеся неизвестными первооткрыватели. Но тот, кто приказал поднять подъемный мост, отныне вынужден жить в замке. Каким бы скрупулезным ни был регламент, всего в нем не предусмотришь. Регламент обладает сокрушительной, а не созидательной силой. Те, кто заправляет в этих пыточных сообществах, не находят вожделенного удовольствия… Сад часто говорит о «сладкой привычке убивать». Между тем ничего похожего на сладость мы здесь не наблюдаем – скорее уж ярость закованного в цепи пленника. А ведь речь действительно идет о наслаждении, достигающем своего пика в наивысший момент разрушения. Обладать тем, что лишаешь жизни; сочетаться союзом со страданием – вот идеал полной свободы, к которой стремится весь уклад жизни в замке. Но в тот миг, когда сексуальный преступник уничтожает объект своего вожделения, он уничтожает и вожделение, существующее лишь в краткий миг уничтожения. Тогда ему требуется подыскать себе другой объект и тоже его уничтожить, а затем еще один, и так далее до бесконечности. В результате мы получаем в романах Сада нагромождение унылых эротических сцен, которые парадоксальным образом оставляют у читателя впечатление целомудренной мерзости.
Как с этим миром совмещается наслаждение, эта захватывающая радость любящих тел, соединяющихся во взаимном влечении? Здесь мы имеем дело с отчаянными метаниями, продиктованными стремлением вырваться из состояния безнадежности, но снова приводящими все к той же безнадежности, с бегством от одного рабства к другому, из одной тюрьмы в другую тюрьму. Если истинна только природа и если законы природы сводятся к желанию и разрушению, а человек, даже поднявшийся на вершину власти ценой огромных разрушений, не в состоянии утолить свою жажду крови, то он будет вынужден стремиться к всеобщему уничтожению. По логике Сада, человеку приходится стать палачом природы. Однако добиться этого не так-то легко. Допустим, все жертвы умерщвлены и бухгалтерия подбита – тогда в опустевшем замке остаются лицом к лицу одни палачи. Но им все еще чего-то не хватает. Тела замученных распадаются на элементы и возвращаются в природу, откуда зарождается новая жизнь. Окончательного убийства не происходит: «Убивая индивидуума, мы отнимаем у него только первую жизнь, а надо научиться отнимать и вторую…» Сад замышляет покушение на само мироздание: «Природа мне омерзительна… Я хотел бы спутать ее планы, поломать ее ход, остановить звездное вращение, столкнуть парящие в пространстве светила, разрушить все, что ей служит, и защитить все, что ей вредит, единым словом надругаться над всем ее творением, но у меня ничего не выходит». В воображении он может сколь угодно долго представлять себе механика, способного распылить Вселенную, на самом деле он знает, что и в звездной пыли продолжится жизнь. Нельзя покуситься на мироздание. Всего не разрушишь – что-то да останется. «У меня ничего не выходит» – безупречная ледяная Вселенная внезапно подтаивает, и сквозь нее проступает нестерпимая тоска; в этот миг Сад, сам того не желая, наконец становится трогательным. «Может, нам и удалось бы погасить солнце, лишить Вселенную его света или спалить с его помощью весь мир, вот были бы преступления…» Именно так: это были бы преступления, а не одно окончательное преступление. Значит, надо идти дальше, и палачи переглядываются.
Они одиноки, и ими правит единственный закон – закон силы. Они сами приняли его, когда хозяйничали в замке, и уже не могут его отринуть, даже если он оборачивается против них же. Всякая власть стремится к тому, чтобы стать единоличной. Опять надо убивать, теперь хозяева должны схлестнуться между собой. Сад понимает неизбежность этого и не намерен отступать. В основании бунта начинает просвечивать своего рода порочный стоицизм. Бунтарь не делает попыток смягчиться и вернуться в мир компромисса. Он не опустит подъемный мост и примет личное уничтожение. Разнузданная сила отрицания в своем крайнем выражении сливается с безусловным согласием, по-своему не лишенным величия. Хозяин готов в свою очередь стать рабом, а может быть, даже стремится к этому. «И эшафот станет для меня троном сладострастия».
Таким образом, величайшее разрушение совпадает с величайшим утверждением. Хозяева бросаются друг на друга, и здание, воздвигнутое во славу разврата, оказывается «усеяно трупами распутников, погибших в расцвете талантов»[9 - Maurice Blanchot. Lautrеamont et Sade. Editions de Minuit.]. Выживет сильнейший, который станет Единственным, и именно его – в конечном счете себя – восхваляет Сад. Наконец-то он царит над миром полновластным хозяином и богом. Но в наивысший миг торжества его победы мечта рассеивается. Единственный смотрит на узника, чья безудержная фантазия его и породила, и узнает в нем себя. Он и правда один, он заперт в окровавленной Бастилии, воздвигнутой вокруг неутоленного сладострастия, отныне лишенного объекта. Триумф ему лишь пригрезился. Десятки томов, наполненных жестокостями и философией, в сущности, служат выражением горестной аскезы, воображаемым шествием от всеобъемлющего «нет» к абсолютному «да» и согласием принять наконец смерть, преображающим всеобщее убийство в коллективное самоубийство.
Сад был казнен заочно, точно так же он сам совершал только воображаемые убийства. Прометей выродился в Онана. Жизнь он так и закончит пленником, только не в тюрьме, а в приюте для душевнобольных, где будет с помощью подручных средств ставить для помешанных театральные спектакли. Мечта и творчество принесли ему лишь жалкое подобие удовлетворения, которое он искал и не находил в миропорядке. Разумеется, писатель может ни в чем себе не отказывать. Уж для него-то не существует никаких границ, и его желания могут быть сколь угодно беспредельны. В этом смысле Сад – идеальное воплощение литератора. Он выстроил фиктивный мир, чтобы поддерживать в себе иллюзию бытия. Выше всего он поставил «нравственное преступление, совершаемое на бумаге». Его несомненная заслуга состоит в том, что он первым в безрадостной прозорливости скопившегося гнева показал крайние последствия логики бунта, забывшего как минимум о своих истинных корнях. Эти последствия суть тотальная закрытость, всеобщее преступление, аристократия цинизма и стремление к апокалипсису. Годы спустя все они проявятся. Но, смакуя их, он, судя по всему, уперся в собственные удушливые тупики, вырваться из которых смог только благодаря литературе. Как ни странно, именно Сад направил бунт по пути искусства – его знамя подхватит и понесет дальше романтизм. Сада причислят к писателям, о которых сам он говорил: «Их опасная испорченность так деятельна, что они публикуют изложение своих ужасных систем с единственной целью – простереть свои преступления за пределы собственной жизни; сами они больше не способны их совершать, но это сделают их проклятые сочинения; эта сладостная мысль, с которой они сходят в могилу, служит им утешением в необходимости после смерти отказаться от того, что есть». Бунтарское творчество Сада свидетельствует также о его жажде жизни. Пусть бессмертие, которого он жаждет, роднит его с Каином, он все равно не перестает его жаждать и помимо собственной воли горячо и искренне выступает в пользу метафизического бунта.
Впрочем, мы должны отдать ему дань уважения хотя бы потому, что он породил целый ряд последователей. Не все его наследники были писателями. Одно можно сказать наверняка: он страдал и умер, чтобы разогреть воображение обитателей богатых кварталов и посетителей литературных кафе. Но и это еще не все. Успех Сада в наши дни объясняется тем, что его мечта прекрасно вписывается в современную сверхчувствительность, которая находит выражение в требовании абсолютной свободы и холодно-рассудочной дегуманизации. Низведение человека до объекта эксперимента, регламентация отношений между волей к власти и человеком-объектом, пространственная замкнутость этого чудовищного эксперимента – вот те уроки, к которым обратятся теоретики власти, когда задумаются об устройстве рабской эпохи.
Сад за два века до них и в уменьшенном масштабе восславил тоталитарные общества во имя яростной свободы, к которой реальный бунт вовсе не стремится. Вместе с ним берут начало подлинная история и трагедия современности. Правда, он верил, что в обществе, основанном на свободе преступления, должна царить свобода нравов, как будто у порабощения могут быть пределы. Наше время ограничилось тем, что породило свою странную мечту о всеобщей республике и разработало собственную технологию порабощения. В конечном итоге то, что Сад ненавидел больше всего – узаконенное убийство, – приписало себе открытия, которые он хотел поставить на службу инстинктивному убийству. Преступление, в котором он мечтал видеть исключительный и сладостный плод разнузданного порока, сегодня превращено в унылую привычку к полицейской добродетели. Вот такие сюрпризы преподносит нам литература.
Взбунтовавшиеся денди
Но время литераторов еще не истекло. Романтизм с его сатанинским бунтом на самом деле сводился к воображаемой авантюре. Как и Сад, он отгородился от античного бунта предпочтительным вниманием к проблеме зла и личности. Делая акцент на силе брошенного вызова и отрицании, бунт на этом этапе забывает о своем позитивном содержании. Если Бог настаивает на добром начале в человеке, значит, надо высмеять это доброе и сделать выбор в пользу зла. Таким образом, ненависть к смерти и несправедливости приводит если не к воплощению в реальной жизни, то по меньшей мере к апологии зла и убийства.
Символом драмы служит борьба Сатаны со смертью в «Потерянном рае» – любимой поэме романтиков, и глубина этой драмы осознается особенно остро потому, что смерть (наряду с пороком) есть дитя Сатаны. Чтобы вступить в схватку со злом, бунтарь, считающий себя безгрешным, отказывается от добра и снова порождает зло. Поначалу романтический герой смешивает до полного, почти сакрального неразличения добро и зло[10 - Эта тема доминирует, например, в творчестве Уильяма Блейка.]. Это «роковой» герой – ведь рок подразумевает неразделимость добра и зла, против которой человек бессилен. Рок исключает ценностные суждения. Он заменяет их простой констатацией – «Это так», – извиняющей все, кроме Создателя, целиком несущего ответственность за это безобразие. Романтический герой является «роковым» еще и потому, что по мере того, как растут его сила и талант, увеличивается и власть зла над ним. Но всякая власть и любое злоупотребление объясняются все тем же «Это так». Древняя идея о том, что художник, в особенности поэт, всегда одержим демонами, у романтиков формулируется в подчеркнуто вызывающем виде. В эту эпоху устанавливается некий империализм демона, приписывающий демону все, включая гениев ортодоксии. «Вот почему Мильтон, – замечает Блейк, – об ангелах и Боге пишет со смущением, а о демонах и аде – с дерзостью: он был истинным поэтом и, сам того не зная, выступал на стороне демонов». Поэт, гений, сам человек в высшем понимании слова, восклицает в один голос с Сатаной: «Итак, прости, надежда, – а с надеждой / Прости и страх! Раскаянье, прости! / Увы! Добро исчезло без возврата, / Отныне, Зло, будь благом для меня»[11 - Пер. О. Чюминой.]. Это вопль оскорбленной невинности.
Итак, романтический герой, тоскуя по недостижимому добру, считает себя вынужденным творить зло. Сатана восстает против своего Создателя потому, что тот использовал силу для его уничижения. «Он выше нас, – говорит Сатана у Мильтона, – не разумом, но силой; в остальном мы равные». Таким образом, божественное насилие удостаивается безоговорочного осуждения. Бунтарь должен отдалиться от недостойного агрессивного Бога – «чем дальше от него, тем лучше» – и подчинить себе все силы, враждебные божественному порядку. Князь тьмы выбирает этот путь лишь потому, что понятие добра определено Богом и используется им в неправедных целях. Бунтаря раздражает даже невинность, если она предполагает слепоту обманутого. «Темный дух зла, не переносящий невинность», паралелльно с божественной несправедливостью породит и несправедливость человеческую. Поскольку в основе творения лежит насилие, ответом ему будет умышленное насилие. Чем избыточнее отчаяние, тем оно оправданнее, и в результате бунт переходит в состояние вялой ненависти, постоянно искушаемой несправедливостью; грань между добром и злом окончательно размывается. У Виньи:
Не может Сатана свет различить и тьму,
Им сотворенное, не в радость зло ему.
Это дает определение нигилизму и разрешает убийство.
Действительно, убийство становится привлекательным. Достаточно сравнить Люцифера среневековых художников с Сатаной романтиков. Рогатого зверя вытесняет «печальный очаровательный юноша» (Виньи). «Красой блистая неземной» (Лермонтов), этот могущественный одиночка, страдающий и презрительный, подчиняет себе с небрежностью, словно бы нехотя. Оправданием ему служит страдание. «Кто позавидует, – восклицает мильтоновский Сатана, – тому, кто, вознесшись выше всех, обречен на величайшую муку, которой нет конца?» Жертва вечной несправедливости, сгусток непреходящей боли, он получает право творить что угодно. Бунтарь поэтому признает за собой некоторые преимущества. Само по себе убийство не рекомендовано, но оно вписано составной частью в наивысшую для романтизма ценность – неистовство. Неистовство есть оборотная сторона скуки: Лоренцаччо мечтает стать Ганом Исландцем. Самые утонченные чувства оборачиваются примитивной животной злобой. Герой Байрона, не способный любить – или способный любить лишь недостижимой любовью, – страдает от сплина. Он одинок, и это его гнетет. Чтобы почувствовать себя живым, он должен испытать сверхвозбуждение краткого и саморазрушительного поступка. Любить то, чего уже никогда не увидишь во второй раз, значит любить в пламени и истошном вопле, чтобы сразу затем сгинуть. Жизнь – миг, и только ради этого мига и стоит жить:
Той дружбы краткой, но живой
Меж бурным сердцем и грозой.
(Лермонтов)
Угроза неотвратимой смерти, определяющая положение человека, делает бесплодными любые наши поползновения. Нас оживляет только крик, место истины занимает возбуждение. При подобном градусе нагрева апокалипсис становится ценностью, в которой все перемешано – любовь и смерть, совесть и вина. Во Вселенной, сорвавшейся с орбиты, нет иной жизни, кроме ада, в который, по выражению Альфреда Ле Пуатвена, скатываются, проклиная Создателя, люди, «дрожащие от ярости и лелеющие свои преступления». Опьянение неистовством и, в крайней форме, красотой преступления низводит весь смысл жизни к этой единственной секунде. Романтизм не проповедует преступление как таковое, он лишь пытается нарисовать картину глубинного побуждения к протесту, используя привычные образы нарушителя закона, доброго каторжника и благородного разбойника. Наступает триумф кровавой мелодрамы и черного романа. Такие авторы, как Пиксерекур, предоставляют душе возможность задешево утолить свой чудовищный аппетит – впоследствии другие люди используют с той же целью лагеря смерти. Несомненно, подобные произведения были также вызовом тогдашнему обществу. Но в своей живой исходной форме романтизм в первую очередь бросал вызов нравственному и божественному закону. Вот почему его типичной фигурой стал не революционер, а денди, что вполне логично.
Это логично потому, что оправдать упорную приверженность сатанизму можно только бесконечным повторением того, что на свете существует несправедливость, и в некотором смысле – укреплением этой несправедливости. Боль на этой стадии приемлема лишь при условии, что против нее нет лекарства. Бунтарь выбирает метафизику худшего, находящую себе выражение в литературе проклятия, от которой мы до сих пор не освободились. «Я ощущал свою мощь и чувствовал, что на мне кандалы» (Петрюс Борель). Романтик дорожит своими кандалами. Не будь их, ему пришлось бы доказывать, возможно, на практике, что он действительно обладает мощью, на самом деле сомнительной. В конце концов романтик становится чиновником в Алжире, а Прометей у того же Бореля призывает закрыть все кабаре и возвращать колонистов на путь истинный. Но это ничего не меняет: поэт, чтобы быть признанным, должен быть проклят[12 - Это все еще ощущается в нашей литературе. «Больше нет проклятых поэтов», – говорит Мальро. Действительно, их стало меньше. Зато у остальных совесть нечиста.]. Шарль Лассальи, тот самый, что вынашивал замысел философского романа «Робеспьер и Иисус Христос», никогда не ложился спать без того, чтобы не выкрикнуть для поднятия настроения пару яростных богохульств. Бунт рядится в тогу скорби и жаждет аплодисментов восхищенной публики. Романтизм возвещает не столько культ личности, сколько культ персонажа. В этом он весьма последователен. Утратив надежду на закон или единение с Богом, упорствуя в нападках на враждебную судьбу, судорожно поддерживая все, что еще может быть поддержано в обреченном на погибель мире, романтический бунт ищет решения в позе. Поза придает эстетическое единство человеку – игрушке в руках судьбы и жертве божественного насилия. Человеку суждено умереть, но перед смертью он воссияет, и тем оправдано его существование. Вот его точка опоры – единственное, что он может противопоставить окаменелому лику ненавидящего Бога. Замерший в неподвижности бунтарь бестрепетно встречает Божий взгляд. «Ничто не пошатнет, – говорит Мильтон, – этот застывший дух, это гордое высокомерие, рожденное из оскорбленного сознания». Все находится в беспрестанном движении, все стремится к небытию, но на этом фоне униженный человек упорно отстаивает свое право на гордость. Романтическое барокко, открытое Раймоном Кено, полагает: цель всякой интеллектуальной жизни состоит в том, чтобы стать Богом. Поистине, этот романтик слегка опередил свое время. Целью жизни в то время было лишь стать с Богом наравне и уже не опускаться ниже. Романтический бунтарь не отрицает Бога, он лишь ценой постоянных усилий отказывается ему подчиняться. Дендизм – это извращенная форма аскезы.
Денди творит собственную целостность эстетическими средствами. Но его эстетика отмечена исключительностью и отрицанием. «Жить и умереть перед зеркалом» – вот, по мнению Бодлера, девиз денди. И в нем действительно есть своя логика. Денди – оппозиционер по определению. Протест – единственная форма его существования. До сих пор всякая тварь получала свою целостность от Создателя. Но с того момента, когда она решает с ним порвать, она оказывается во власти мгновений, во власти мимолетных дней, во власти рассеянного восприятия. Поэтому ей необходимо взять себя в руки. Денди самой силой отказа собирает себя воедино. В качестве личности, не имеющей над собой закона, он распылен; в качестве персонажа – внутренне целен. Но любому персонажу надобна публика, и денди способен заявить свою позицию, только противопоставляя себя другим. Он не может увериться в собственном существовании, если не ловит его отблеска на чужих лицах. Другие – это зеркало. Правда, зеркало быстро мутнеет, потому что способность человека к концентрации внимания ограничена. Ее приходится без конца стимулировать, подстегивать путем провокаций. Поэтому денди обречен постоянно всех удивлять. Его призвание – быть не таким, как все; он совершенствуется, постоянно повышая ставки. В вечном разладе с миром, вечно на обочине, он, отрицая чужие ценности, принуждает других творить его. Не умея жить, он играет в жизнь. Эту игру он ведет до самой смерти, прекращая играть лишь в те минуты, когда остается один и рядом нет зеркала. Одиночество для денди равносильно небытию. Романтики лишь потому так проникновенно говорили об одиночестве, что действительно воспринимали его как непереносимую боль. Их бунт имеет глубокие корни, но от «Кливленда» аббата Прево до дадаистов, включая в промежутке неистовых романтиков 1830-х, Бодлера и декадентов 1880-х, более чем вековая история бунтарства вырождается в грошовую дерзость «эксцентричности». Если все они говорили о боли, то лишь потому, что, отчаявшись преодолеть ее пустыми пародиями, инстинктивно чувствовали, что только боль служит им оправданием и сообщает истинное благородство.
Вот почему наследие романтизма воспринял не пэр Франции Гюго, а поэты преступления Бодлер и Ласенер. «Все в этом мире сочится преступлением, – говорит Бодлер, – газета, стена, человеческое лицо». Но пусть преступление, правящее миром, хотя бы обретет изысканные черты. Ласенер первым из разбойников-джентльменов применит этот принцип на практике; Бодлер следует ему не так буквально, зато он гениален. Он создаст цветник зла, в котором преступление будет диковинным растением. Самый ужас превратится у него в изысканное ощущение и редкую экзотику. «Я не только был бы счастлив стать жертвой, я не прочь побывать и палачом, чтобы прочувствовать революцию и так, и этак». У Бодлера даже конформизм отдает преступлением. Не случайно своим наставником он называет де Местра – консерватора, который идет до конца и строит свое учение вокруг темы смерти и палача. «Настоящий святой, – якобы размышляет Бодлер, – это тот, кто истязает и убивает народ ради народного же блага». Его призыв будет услышан. По земле начнет распространяться раса настоящих святых, стремящихся увековечить эти занятные выводы бунтаря. Впрочем, Бодлер, несмотря на весь свой сатанинский арсенал, любовь к Саду и богохульство, оставался слишком теологом, чтобы стать истинным бунтарем. Его подлинная драма, сделавшая из него величайшего поэта своего времени, заключалась в другом. И здесь мы упоминаем Бодлера только потому, что он был самым глубоким теоретиком дендизма и окончательно сформулировал определение одного из последствий романтического бунта.
Действительно, романтизм показывает, что бунт частично связан с дендизмом, а одно из его направлений состоит в том, чтобы создавать видимость. В своих обычных формах дендизм сознается в том, что тоскует по морали. Он не то чтобы полностью лишен совести – просто совесть у него ущербная. Но в то же время он заложил основы эстетики, до сих пор доминирующей в нашем мире, – эстетики одинокого творца и упрямого соперника осуждаемого им Бога. Начиная с эпохи романтизма художник видит свою задачу не только в создании своего мира и не в восхвалении красоты ради красоты, но также в определении собственной позиции. Художник становится моделью и предлагает себя в качестве примера: его моралью служит искусство. С романтизмом начинается век морального учительства. Если денди не кончает самоубийством или не сходит с ума, то он делает карьеру и позирует для потомков. Даже если он, как Виньи, криком возвещает о своем молчании, то это молчание грохочет.
Но внутри самого романтизма находятся бунтари, понимающие бесплодность этой позы; они представляют собой переходный тип от эксцентрика (он же Невероятный) до наших революционных авантюристов. Между племянником Рамо и «завоевателями» ХХ века есть Байрон и Шелли, которые открыто бьются за свободу. Они тоже позируют, но по-иному. Бунт понемногу покидает мир кажимости ради мира деятельности, в который он бросается с головой. С этой точки зрения французские студенты 1830 года и русские декабристы предстают чистейшим воплощением бунтарей, поначалу одиноких, но затем пытающихся ценой жертв найти дорогу к единению с другими. И наоборот, в наших революционерах проявится склонность к апокалипсису и неистовству. Театральность судебных процессов, чудовищная игра между судьей и обвиняемым, искусная постановка допросов порой заставляют заподозрить трагическую симпатию к той же старой уловке, с какой романтический бунтарь, отказываясь быть тем, кто он есть, обрекал себя на временную видимость – в горькой надежде обрести более глубокое бытие.
Отказ от спасения
Если романтический бунтарь превозносит личность и зло, то он выступает не на стороне всех людей, а только на своей собственной стороне. Чем бы ни был дендизм, он всегда дендизм по отношению к Богу. Индивидуум как творение может противопоставить себя только творцу. Ему нужен Бог, с которым он мрачно заигрывает. Арман Хуг совершенно справедливо замечает, что, несмотря на ницшеанскую атмосферу сочинений романтиков, Бог у них еще не умер. Даже громогласные проклятия не более чем хитроумная уловка, призванная провести Бога. Но вот Достоевский делает в описании бунта следующий шаг. Иван Карамазов становится на сторону людей и акцентирует внимание на их невиновности. Он утверждает, что вынесенный им смертный приговор несправедлив. Во всяком случае, в своем первом побуждении он не оправдывает зло, а призывает к справедливости, которую ставит выше божественной воли. Таким образом, в нем нет абсолютного отрицания Бога. Он отворачивается от Бога во имя нравственной ценности. Романтический бунтарь претендовал на то, чтобы разговаривать с Богом на равных. В этом случае зло является ответом на зло, а гордыня – ответом на жестокость. Виньи, например, мечтал ответить молчанием на молчание. По всей видимости, под этим подразумевалось стремление подняться на уровень Бога, что само по себе святотатство. Но о том, чтобы оспорить божественную власть и занимаемое ею место, не шло и речи. Святотатство – но подобострастное, поскольку всякое святотатство в конечном итоге является приобщением к священному.
С появлением Ивана тональность меняется. Теперь уже Бог, в свою очередь, судим, и при этом свысока. Если зло есть непременный атрибут божественного творения, то такое творение неприемлемо. Иван больше не полагается на таинственного Бога, но верит в более высокий принцип – в принцип справедливости. Он первым заявляет о том, что главная цель бунта – заменить царство благодати царством справедливости. Тем самым он предпринимает атаку на христианство. Романтические бунтари шли на разрыв с самим Богом как воплощением принципа ненависти. Иван открыто отказывается от тайны и, как следствие, от Бога как воплощения принципа любви. Только любовь способна заставить нас согласиться с несправедливостью по отношению к Марфе, к десятичасовому рабочему дню, не говоря уже о ничем не оправданной смерти детей. «И если страдания детей, – говорит Иван, – пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены». Иван отвергает введенную христианством глубокую зависимость между страданием и истиной. Крик, который он исторгает и от которого под ногами бунтаря разверзаются бездны, выражается в простом «хотя бы и…». «Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и не прав». Это означает, что даже если бы Бог существовал, даже если бы за тайной скрывалась истина, даже если бы прав был старец Зосима, Иван не принял бы эту истину, оплаченную злом, страданием и смертью невинного существа. Иван – это воплощение отказа от спасения. Вера ведет к вечной жизни. Но вера предполагает приятие тайны и зла и смиренное признание несправедливости. Следовательно, тот, кому страдание ребенка не дает обрести веру, лишается вечной жизни. В этих условиях, даже если бы вечная жизнь существовала, Иван от нее отказался бы. Он не желает идти на эту сделку. Его устроила бы только безусловная благодать, и потому он ставит собственные условия. Бунтарю надо или все, или ничего. «От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка». Иван не говорит, что истины не существует. Он говорит, что даже если истина существует, она неприемлема и другой быть не может. Почему? Потому что она несправедлива. Здесь впервые объявлена война справедливости против истины, и этой войне не будет конца. Иван – одиночка, следовательно, моралист, удовлетворится своего рода метафизическим донкихотством. Но не пройдет и нескольких пятилетий, как возникнет широкое движение политических заговорщиков, которые попытаются превратить справедливость в истину.
Кроме того, Иван воплощает отказ от спасения в одиночку. Он чувствует солидарность со всеми проклятыми и отказывается ради них от небесной благодати. Действительно, уверуй он – и спасется, но другие-то не спасутся. Страдание продолжится. Для того, кто наделен чувством истинного сострадания, нет и не может быть спасения. Иван, дважды отказываясь от веры как от несправедливости и привилегии, будет и дальше обвинять Бога. Еще один шаг, и от лозунга «Всё или ничего» мы переходим к лозунгу «Все или никто».
Романтики удовольствовались бы и этой крайней решимостью, и подходящей к ней позой. Но Иван[13 - Следует ли напоминать, что, в определенном смысле, в образе Ивана Достоевский ощущает себя комфортнее, чем в образе Алеши?], при всех его уступках дендизму, переживает реальные трудности, раздираемый между «да» и «нет». Начиная с этого момента он вынужден подчиниться логике собственного решения. Если он отказывается от бессмертия, то что ему остается? Простая жизнь в своем элементарном виде. Если смысл жизни потерян, жизнь все-таки продолжается. «…Я живу, – говорит Иван, – хотя бы и вопреки логике». И добавляет: «… не веруй я в жизнь, разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все, напротив, беспорядочный, проклятый и, может быть, бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования – а я все-таки захочу жить…» Поэтому Иван будет жить и будет любить «сам не зная почему». Но жить означает действовать. Во имя чего? Если нет бессмертия, нет награды и наказания, нет добра и зла? «Я думаю, нет добродетели без бессмертия души». И еще: «Я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравновешивается». Но если нет добродетели, то нет и закона – «все позволено».
Вот с этого «все позволено» и начинается подлинная история современного нигилизма. Романтический бунт так далеко не заходил. В сущности, он ограничивался утверждением, что позволено не все, но он из дерзости позволяет себе то, что запрещено. С Карамазовыми, напротив, логика возмущения оборачивается против самого бунта и погружает его в неразрешимое противоречие. Главное различие заключается в том, что романтики позволяют себе делать то, что им нравится, а Иван принуждает себя творить зло, руководствуясь логикой. Он не позволит себе быть добрым. Нигилизм – это не только отчаяние и отрицание, это прежде всего воля к отчаянию и отрицанию. Человек, который столь яростно выступал в защиту невинных, сокрушался страданием ребенка и хотел «своими глазами» увидеть, как лань возляжет рядом со львом, а жертва обнимет убийцу, тот же самый человек, стоит ему отказать Богу в последовательности и попытаться установить собственный закон, тут же признает законность убийства. Иван восстает против Бога убийцы, но, находя своему бунту рациональную основу, выводит из нее право убивать. Если все дозволено, он может убить своего отца или, по меньшей мере, способствовать его убийству. Долгое размышление о нашей смертной доле приводит лишь к оправданию убийства. Иван одновременно ненавидит смертную казнь (рассказывая о ней, он желчно замечает: «И оттяпали-таки ему по-братски голову за то, что и на него сошла благодать») и принципиально допускает убийство. Убийца заслуживает снисхождения, палач – нет. Это противоречие, нисколько не смущавшее Сада, Ивану Карамазову, напротив, не дает дышать.
Он якобы строит свои рассуждения на допущении – бессмертия не существует, тогда как на самом деле заявляет лишь, что, существуй оно, он от него отказался бы. Следовательно, желая выразить протест против зла и смерти, он делает осознанный выбор, утверждая, что не существует ни бессмертия, ни добродетели, и позволяя убить своего отца. Он сознательно принимает эту дилемму: либо добродетель и отсутствие логики, либо логика и преступление. Его двойник черт совершенно прав, нашептывая ему: «Ты собираешься сделать доброе дело, и однако в добродетель ты не веришь, вот что тебя раздражает и мучает». Вопрос, которым задается Иван и который позволил Достоевскому сделать в описании бунтарского духа решительный шаг вперед, – единственный, который нас здесь занимает: можно ли жить вечным бунтарем?
Нетрудно догадаться, какой ответ даст Иван: жить бунтарем можно, только если довести бунт до логического завершения. Что такое крайнее выражение метафизического бунта? Это метафизическая революция. Сначала оспорить легитимность владыки этого мира, а затем свергнуть его. Его место должен занять человек. «Поскольку нет ни Бога, ни бессмертия, человеку дозволено снова стать Богом». Но что это значит – стать Богом? Это значит признать, что все позволено, и отказаться признавать иные законы, кроме своего собственного. Нам даже не обязательно излагать промежуточную аргументацию, чтобы убедиться: стать Богом означает признать право на убийство (излюбленная идея философствующих героев Достоевского). Личная проблема Ивана, следовательно, заключается в том, чтобы выяснить, готов ли он хранить верность собственной логике и согласится ли перейти от возмущенного протеста против страдания невинных к равнодушию человекобога перед убийством отца. Решение нам известно: Иван позволяет убить отца. Натура слишком глубокая, чтобы довольствоваться видимостью, и слишком тонко чувствующая, чтобы действовать, он ограничивается попустительством. Но кончит он безумием. Человек, не понимавший, как можно возлюбить своего ближнего, точно так же не понимает, как можно его убить. Зажатый между необъяснимостью добродетели и недопустимостью преступления, снедаемый жалостью и неспособный любить, одинокий и лишенный спасительного цинизма, он со всем своим независимым разумом падет жертвой этого противоречия. «У меня ум земной, – говорил он. – Зачем же хотеть понять то, что не от мира сего?» Но он и жил только ради того, что не от мира сего, и его непомерная гордыня как раз и отрывала его от земли, на которой он не любил ничего.
Впрочем, личная катастрофа Ивана не отменяет того факта, что сама постановка проблемы подразумевает необходимость вытекающего из нее следствия: отныне бунт переходит к действию. Достоевский с провидческой мощью описывает этот переход в легенде о Великом Инквизиторе. Иван в конечном итоге не отделяет создание от Создателя. «Не Бога я не приемлю, – говорит он, – а мира, им созданного». Иными словами, нельзя отделить Бога-отца от того, что им сотворено[14 - А именно: Иван позволяет убить своего отца. Он сознательно покушается на природу и принцип «плодитесь и размножайтесь». Впрочем, отец его – мерзавец. В отношениях Ивана и Бога Алеши постоянно присутствует отталкивающая фигура отца Карамазова.]. Следовательно, план узурпации остается чисто моральным. Иван не намерен реформировать творение. Но, поскольку творение таково, каково оно есть, он делает из этого вывод о своем праве и о праве всех остальных людей морально от него освободиться. Напротив, с того момента, когда бунтарский дух, принимая принципы «все позволено» и «все или никто», попытается переделать творение для утверждения божественного царства людей, с того момента, когда метафизическая революция от морали перейдет к политике, возникнет новое движение неподдающегося точной оценке размаха, рожденное, отметим, из недр все того же нигилизма. Достоевский – пророк новой религии – предвидел и возвестил его приход: «Если бы он [Алеша] порешил, что бессмертия и Бога нет, то сейчас бы пошел в атеисты и социалисты (ибо социализм есть не только рабочий вопрос, или вопрос так называемого четвертого сословия, но, по преимуществу, есть атеистический вопрос, вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без Бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю»[15 - «Эти вопросы (Бога и бессмертия) – те же социалистические вопросы, только рассмотренные под другим углом».].
После этого Алеша действительно может с нежностью называть Ивана «настоящей белой вороной». Тот стремился лишь, и то безуспешно, владеть собой. Но за ним придут другие, настроенные куда серьезнее: оттолкнувшись от безнадежного отрицания, они потребуют власти над миром. Именно Великие Инквизиторы заключат в темницу Христа и объяснят ему, что он действует неправильно, что всеобщее счастье достигается не свободным выбором между добром и злом, а господством над унифицированным миром. Сначала надо завоевать власть и установить свое царство. Царствие Божие на земле действительно настанет, но править в нем будут люди – сначала кесари, которые первыми поняли, в чем дело, а за ними со временем и все остальные. Ради единства творения хороши все средства, ибо все позволено. Великий Инквизитор – это усталый старик, и знание его горько. Он знает, что люди не столько подлы, сколько ленивы, и свободе различать добро и зло предпочитают мир и смерть. Он жалеет холодной жалостью молчаливого узника, чьи идеи постоянно опровергает сама история. Он вызывает его на разговор, побуждает признать свои заблуждения и в каком-то смысле оправдать творимое Инквизиторами и кесарями. Но узник молчит. Следовательно, задуманное продолжится без него, а его убьют. Легитимность настанет в конце времен, когда установится человеческое царство. «О, дело это до сих пор лишь в начале, но оно началось. Долго еще ждать завершения его, и еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями и тогда уже помыслим о всемирном счастии людей».
Казнь узника свершилась, и с тех пор на земле царствуют только Великие Инквизиторы, чутко прислушиваясь к «глубокому духу, духу разрушения и смерти». Великие Инквизиторы гордо отвергают хлеб небесный и свободу, предлагая взамен хлеб земной – без свободы. «Сойди с креста, и мы в тебя поверим», – еще на Голгофе кричали ему стражники. Но он не сошел; мало того, в самый мучительный миг агонии жалобно взмолился, сокрушаясь, что Бог его покинул. Следовательно, нет никаких доказательств, а есть только вера и тайна, от которых отмахиваются бунтари и над которыми глумятся Великие Инквизиторы. Все позволено, эта минута потрясения подготовлена веками преступлений. От Павла до Сталина папы, избирающие кесаря, открыли путь кесарям, избирающим только себя. Мир, не сумевший объединиться через Бога, отныне будет пытаться объединиться против Бога.
Но до этого еще далеко. Пока что Иван демонстрирует нам искаженный лик бунтаря, стоящего на краю пропасти, не способного к действию, раздираемого между сознанием о своей невиновности и волей к убийству. Он ненавидит смертную казнь, поскольку она воплощает образ человеческого состояния, но в то же самое время движется к преступлению. Становясь на сторону людей, он взамен получает одиночество. В его случае бунт разума кончается безумием.
Абсолютное утверждение
Как только человек подвергает Бога нравственной оценке, он убивает его в себе. Но тогда на чем зиждется мораль? Если мы отрицаем Бога во имя справедливости, то способны ли мы понять идею справедливости без идеи Бога? Не впадаем ли мы тем самым в абсурд? Именно с проблемой абсурда и схлестнулся Ницше. Чтобы преодолеть абсурд, он довел его до логического конца: мораль есть последний из ликов Бога, который перед воссозданием надо уничтожить. Поэтому Бога больше нет, он больше не гарантирует наше бытие; человек, чтобы быть, должен сам решать, что ему делать.
Единственный
Уже Штирнер пытался уничтожить в человеке не только Бога, но и самую идею Бога. Однако, в отличие от Ницше, его нигилизм вполне доволен собой. Штирнер, оказавшись в тупике, лишь посмеивается, тогда как Ницше колотится о стену. С 1845 года, даты опубликования работы «Единственный и его собственность», Штирнер уступает место другим. Человек, входивший в «Кружок свободомыслящих», организованный левыми младогегельянцами (в том числе Марксом), сводил счеты не только с Богом, но также с Человеком Фейербаха, Духом Гегеля и его историческим воплощением – Государством. По мнению Штирнера, все эти идолы уходят корнями в один и тот же «монголизм», то есть веру в вечные идеи. Поэтому он и смог написать: «Ничто – вот на чем я строю свое дело». Да, грех – это «монгольский бич», но такой же бич и право, которое держит нас в рабстве. Бог – наш враг; Штирнер заходит в богохульстве дальше кого бы то ни было («перевари облатку – и с тебя сняты все грехи»). Но Бог – всего лишь один из способов отчуждения моего «я», точнее говоря, того, что я есть. Сократ, Иисус, Декарт, Гегель, все пророки и философы всегда занимались только тем, что изобретали все новые способы отчуждения моей сущности, моего «я», которое Штирнер отличает от абсолютного «я» Фихте, сводя его к частности и непостоянству. «Имена его не именуют», он – Единственный.
Вся мировая история до Христа для Штирнера лишь долгое усилие по идеализации реальности. Это усилие воплощено в мыслях и очистительных обрядах, свойственных древним культурам. С приходом Иисуса цель достигнута, и начинается новое усилие, теперь, напротив, направленное на осуществление идеала. За очищением следует ярость воплощения, по мере того как ширится империя социализма, наследующая Христу и все больше опустошающая мир. Но вся мировая история – это бесконечное попрание принципа моей уникальности, живого, конкретного и победительного принципа, которому постоянно грозит быть погребенным под бременем сменяющих друг друга абстракций – Бога, государства, общества, человечества. Филантропия для Штирнера – мистификация. Атеистические философии, кульминацией которых является культ государства и человека, сами не более чем «теологические мятежи». «Наши атеисты, – говорит Штирнер, – на самом деле набожные люди». На всем протяжении истории существовал всего один культ – культ вечности. Но это ложный культ. Истина заключена только в Единственном, враге вечности и всего того, что в действительности не служит интересам собственного господства.
У Штирнера любые утверждения неизбежно тонут в побуждении к отрицанию, вдохновляющему бунт. Он также отметает все суррогаты божественного, которые довлеют нравственному сознанию. «Внешний потусторонний мир уничтожен, – говорит он, – зато внутренний потусторонний мир становится небесами». Даже революция – особенно революция – вызывает у такого бунтаря отвращение. Чтобы быть революционером, надо хоть во что-то верить, тогда как верить не во что. «Революция (Французская) закончилась реакцией, и это показывает, чем на самом деле была Революция». Попасть в рабство к человечеству ничуть не лучше, чем быть рабом Божьим. Да и братство, если разобраться, не более чем «способ наблюдать коммунистов по праздникам». В будни братья становятся рабами. Поэтому для Штирнера существует только одна свобода – «собственное могущество» – и только одна истина – «величественный эгоизм звезд».
Эта пустыня расцветает. «Невозможно понять прекрасное значение бессмысленного крика радости, пока длится долгая ночь размышления и веры». Ночь подходит к концу, вскоре зажжется заря, но не заря революций, а заря восстания. Само по себе восстание – это аскеза, отвергающая любые блага. Инсургент согласует свои действия с другими лишь постольку, поскольку временно совпадают их эгоистические интересы. Его истинная жизнь – в одиночестве, позволяющем ему беспрепятственно утолять свой голод по бытию, который и есть его единственное бытие.
Это вершина индивидуализма. Это отрицание всего, что отрицает индивидуума, и прославление всего, что его вдохновляет и служит ему. Что такое добро по Штирнеру? «То, чем я могу воспользоваться». Чем я могу воспользоваться на законных основаниях? «Всем, на что я способен». Бунт снова приводит к оправданию преступления. Штирнер не только поддался искушению такого оправдания (в этом отношении ему прямо наследуют террористические формы анархии), его явно пьянили открывающиеся перспективы. «Порвать со священным или, еще лучше, разрушить священное должно стать общим правилом. Приближается не новая революция, но могучее, горделивое, бесцеремонное, бесстыдное, бессовестное преступление. Разве ты не слышишь вдали его громовые раскаты, разве не видишь, как потемнело застывшее в его предчувствии небо?» Это мрачная радость обитателя убогой лачуги, готовящего апокалипсис. Больше ничто не в силах сдержать эту исполненную горечи властную логику; не остается ничего – есть только «я», поднявшееся против всех абстракций и само, плененное и оторванное от корней, ставшее неназываемой абстракцией. Нет больше ни преступлений, ни ошибок, а значит, нет и грешников. Все мы совершенны. Поскольку каждое «я» по самой своей сути преступно по отношению к государству и народу, признаем, что жить – значит нарушать закон. Убийство – самое малое, что можно совершить, чтобы стать единственным. «Вы, кто ничего не оскверняет, вы не так велики, как преступник». Впрочем, Штирнер, в ком еще говорят остатки совести, уточняет: «Убивать, но не мучить».
Между тем, провозглашая правомочность убийства, приходится объявить всеобщую мобилизацию и войну Единственных. Убийство, таким образом, будет означать нечто вроде коллективного самоубийства. Тем не менее Штирнер, не желающий или не способный это признать, не останавливается ни перед каким разрушением. Бунтарский дух наконец находит горчайшее удовлетворение в хаосе. «Тебя (немецкую нацию) предадут земле. Вскоре твои сестры, другие нации, последуют за тобой; когда все они по очереди уйдут, человечество будет похоронено, и Я, наконец, сам себе хозяин, Я, его наследник, посмеюсь на его могиле». Так скорбный смех индивидуума-короля над руинами мира возвестит окончательную победу бунтарского духа. Но стоит перейти к этому краю, как остаются всего две возможности – смерть или восстание. Штирнер, а вместе с ним и все бунтовщики-нигилисты стремятся в своем опьянении разрушением к крайнему пределу. После чего приходится учиться жить в образовавшейся пустыне. И здесь начинаются мучительные искания Ницше.
Ницше и нигилизм
«Мы отрицаем Бога, мы отрицаем ответственность Бога, и только так мы освободим мир». С появлением Ницше нигилизм, судя по всему, обретает характер пророчества. Но если не рассматривать Ницше в первую очередь как клинициста и лишь затем как пророка, то мы не извлечем из его творчества ничего, кроме пошлой низменной жестокости, которую он всеми силами ненавидел. Его методически расчетливый, или, одним словом, стратегический ум не подлежит сомнению. С ним нигилизм впервые становится сознательным. Качество, общее для хирургов и пророков, состоит в том, что они мыслят и действуют, заглядывая в будущее. Ницше всегда размышлял в предвидении грядущего апокалипсиса, но не потому, что апокалипсис его вдохновлял – он догадывался, какой гнусный корыстный облик это в конце концов обретет, – а потому, что хотел избежать его и трансформировать в возрождение. Он распознал нигилизм и изучал его как медицинский факт. Себя он называл первым законченным нигилистом Европы. Не потому, что нигилизм ему нравился, а потому, что таково было положение вещей и потому, что он, как великая личность, не мог отмахнуться от наследия своей эпохи. Он диагностировал у себя и у других неспособность к вере и исчезновение первоначального основания этой веры, то есть веры в жизнь. Вопрос, можно ли жить бунтарем, у него превратился в другой: можно ли жить, ни во что не веря? Он дал на него утвердительный ответ. Да, можно, если сделать отсутствие веры методом, если довести нигилизм до крайности и, попадая в пустыню и с доверием встречая грядущее, продолжать испытывать то же первобытное чувство боли и радости.
Методичное сомнение он заменил методичным отрицанием и разрушением всего, что скрывает нигилизм от него самого, разрушением идолов, маскирующих смерть Бога. «Чтобы воздвигнуть новый алтарь, необходимо разрушить алтарь – таков закон». По Ницше, всякий, кто хочет быть творцом в добре и во зле, должен быть прежде всего разрушителем и сокрушителем ценностей. «Высшее зло есть часть высшего блага, но высшее благо есть творец». По сути, он создал «Рассуждение о методе» своего времени – без свободы и точности французского XVII века, которым так восхищался, зато с безумной проницательностью, характерной для века ХХ – века гениев, как он выражался. Эту методику бунта нам и надлежит исследовать[16 - Очевидно, что нас будет интересовать последний период в философии Ницше – с 1880 года до его краха. Эту главу можно расценивать как комментарий к книге «Воля к власти».].
Итак, первое, что делает Ницше, – это соглашается с тем, что ему известно. Атеизм – «конструктивный и радикальный» – для него подразумевается сам собой. Свое высшее призвание Ницше видит в том, чтобы спровоцировать нечто вроде кризиса и поставить окончательную точку в вопросе атеизма. Мир движется наугад, у него нет целеполагания. Следовательно, Бог бесполезен, ведь он ничего не хочет. Если бы он чего-то хотел, и здесь мы узнаем традиционную формулировку проблемы зла, ему пришлось бы взять на себя ответственность «за всю сумму страдания и нелогичности, которая снижает общую ценность будущего». Известно, что Ницше не скрывал своей зависти к Стендалю, сказавшему: «Единственное, что извиняет Бога, – это то, что он не существует». Лишенный божественной воли, мир одновременно лишается единства и конечной цели. Вот почему его нельзя судить. Всякое ценностное суждение о мире в конечном итоге приводит к клевете на жизнь. Мы судим то, что есть, с позиции того, что должно быть, – царства небесного, вечных идей или нравственного императива. Но того, что должно быть, нет, и нельзя судить мир во имя ничто. «Вот преимущества нашего времени: ничто не истинно, и все позволено». Этих формул, находящих отражение в тысяче других, пафосных или ироничных, в любом случае достаточно, чтобы доказать, что Ницше согласен нести весь груз, налагаемый нигилизмом и бунтом. В своих рассуждениях о «дрессировке и отборе», звучащих, впрочем, ребячески, он даже сформулировал крайнюю логику нигилистической аргументации: «Проблема: какими средствами достижима строгая форма великого заразительного нигилизма, который вполне научно проповедовал бы и практиковал добровольную смерть?»
Но Ницше колонизировал в пользу нигилизма ценности, которые традиционно рассматривались как помеха нигилизму. Главным образом это мораль. Моральное поведение, пример которого дает Сократ или рекомендует христианство, само по себе является признаком декаданса. Оно хочет заместить человека из плоти из крови отраженным человеком. Оно осуждает мир страстей и криков во имя гармоничного и целиком выдуманного мира. Если нигилизм – это бессилие веры, тогда самый яркий его симптом мы находим не в атеизме, а в невозможности уверовать в то, что есть, увидеть то, что происходит, и пережить то, что нам дано. Этот недуг лежит в основе всякого идеализма. Мораль не верит в мир. Истинная мораль, по Ницше, неотделима от проницательности. Он строго судит «клеветников на мир» потому, что ощущает в этой клевете постыдный привкус бегства. Для него традиционная мораль – лишь частный случай бессмертия. «Именно добро, – говорит он, – нуждается в оправдании». И добавляет: «Именно по моральным соображениям однажды перестанут делать добро».
Бесспорно, философия Ницше вращается вокруг проблемы бунта. Она, собственно, и начинается как бунт. Но мы чувствуем, что Ницше смещает акценты. У него бунт отталкивается от утверждения «Бог умер», что воспринимается как свершившийся факт, он оборачивается против всего, что стремится осуществить ложную замену исчезнувшего Божества, и бесчестит мир, пусть никем не управляемый, но остающийся единственным тигелем богов. Вопреки тому, что думали некоторые христианские критики Ницше, он вовсе не планировал убить Бога. Он уже обнаружил его мертвым в душе своей эпохи. Он первым осознал огромный масштаб случившегося и решил, что бунт человека приведет к возрождению только в том случае, если у него появится руководство. Всякое иное отношение к нему, будь то сожаление или сочувствие, приведет к апокалипсису. Таким образом, Ницше не разрабатывал философию бунта – он выстроил свою философию на идее бунта.
Если бы этим все и ограничилось, Сад заслуживал бы не больше интереса, чем прочие оставшиеся неизвестными первооткрыватели. Но тот, кто приказал поднять подъемный мост, отныне вынужден жить в замке. Каким бы скрупулезным ни был регламент, всего в нем не предусмотришь. Регламент обладает сокрушительной, а не созидательной силой. Те, кто заправляет в этих пыточных сообществах, не находят вожделенного удовольствия… Сад часто говорит о «сладкой привычке убивать». Между тем ничего похожего на сладость мы здесь не наблюдаем – скорее уж ярость закованного в цепи пленника. А ведь речь действительно идет о наслаждении, достигающем своего пика в наивысший момент разрушения. Обладать тем, что лишаешь жизни; сочетаться союзом со страданием – вот идеал полной свободы, к которой стремится весь уклад жизни в замке. Но в тот миг, когда сексуальный преступник уничтожает объект своего вожделения, он уничтожает и вожделение, существующее лишь в краткий миг уничтожения. Тогда ему требуется подыскать себе другой объект и тоже его уничтожить, а затем еще один, и так далее до бесконечности. В результате мы получаем в романах Сада нагромождение унылых эротических сцен, которые парадоксальным образом оставляют у читателя впечатление целомудренной мерзости.
Как с этим миром совмещается наслаждение, эта захватывающая радость любящих тел, соединяющихся во взаимном влечении? Здесь мы имеем дело с отчаянными метаниями, продиктованными стремлением вырваться из состояния безнадежности, но снова приводящими все к той же безнадежности, с бегством от одного рабства к другому, из одной тюрьмы в другую тюрьму. Если истинна только природа и если законы природы сводятся к желанию и разрушению, а человек, даже поднявшийся на вершину власти ценой огромных разрушений, не в состоянии утолить свою жажду крови, то он будет вынужден стремиться к всеобщему уничтожению. По логике Сада, человеку приходится стать палачом природы. Однако добиться этого не так-то легко. Допустим, все жертвы умерщвлены и бухгалтерия подбита – тогда в опустевшем замке остаются лицом к лицу одни палачи. Но им все еще чего-то не хватает. Тела замученных распадаются на элементы и возвращаются в природу, откуда зарождается новая жизнь. Окончательного убийства не происходит: «Убивая индивидуума, мы отнимаем у него только первую жизнь, а надо научиться отнимать и вторую…» Сад замышляет покушение на само мироздание: «Природа мне омерзительна… Я хотел бы спутать ее планы, поломать ее ход, остановить звездное вращение, столкнуть парящие в пространстве светила, разрушить все, что ей служит, и защитить все, что ей вредит, единым словом надругаться над всем ее творением, но у меня ничего не выходит». В воображении он может сколь угодно долго представлять себе механика, способного распылить Вселенную, на самом деле он знает, что и в звездной пыли продолжится жизнь. Нельзя покуситься на мироздание. Всего не разрушишь – что-то да останется. «У меня ничего не выходит» – безупречная ледяная Вселенная внезапно подтаивает, и сквозь нее проступает нестерпимая тоска; в этот миг Сад, сам того не желая, наконец становится трогательным. «Может, нам и удалось бы погасить солнце, лишить Вселенную его света или спалить с его помощью весь мир, вот были бы преступления…» Именно так: это были бы преступления, а не одно окончательное преступление. Значит, надо идти дальше, и палачи переглядываются.
Они одиноки, и ими правит единственный закон – закон силы. Они сами приняли его, когда хозяйничали в замке, и уже не могут его отринуть, даже если он оборачивается против них же. Всякая власть стремится к тому, чтобы стать единоличной. Опять надо убивать, теперь хозяева должны схлестнуться между собой. Сад понимает неизбежность этого и не намерен отступать. В основании бунта начинает просвечивать своего рода порочный стоицизм. Бунтарь не делает попыток смягчиться и вернуться в мир компромисса. Он не опустит подъемный мост и примет личное уничтожение. Разнузданная сила отрицания в своем крайнем выражении сливается с безусловным согласием, по-своему не лишенным величия. Хозяин готов в свою очередь стать рабом, а может быть, даже стремится к этому. «И эшафот станет для меня троном сладострастия».
Таким образом, величайшее разрушение совпадает с величайшим утверждением. Хозяева бросаются друг на друга, и здание, воздвигнутое во славу разврата, оказывается «усеяно трупами распутников, погибших в расцвете талантов»[9 - Maurice Blanchot. Lautrеamont et Sade. Editions de Minuit.]. Выживет сильнейший, который станет Единственным, и именно его – в конечном счете себя – восхваляет Сад. Наконец-то он царит над миром полновластным хозяином и богом. Но в наивысший миг торжества его победы мечта рассеивается. Единственный смотрит на узника, чья безудержная фантазия его и породила, и узнает в нем себя. Он и правда один, он заперт в окровавленной Бастилии, воздвигнутой вокруг неутоленного сладострастия, отныне лишенного объекта. Триумф ему лишь пригрезился. Десятки томов, наполненных жестокостями и философией, в сущности, служат выражением горестной аскезы, воображаемым шествием от всеобъемлющего «нет» к абсолютному «да» и согласием принять наконец смерть, преображающим всеобщее убийство в коллективное самоубийство.
Сад был казнен заочно, точно так же он сам совершал только воображаемые убийства. Прометей выродился в Онана. Жизнь он так и закончит пленником, только не в тюрьме, а в приюте для душевнобольных, где будет с помощью подручных средств ставить для помешанных театральные спектакли. Мечта и творчество принесли ему лишь жалкое подобие удовлетворения, которое он искал и не находил в миропорядке. Разумеется, писатель может ни в чем себе не отказывать. Уж для него-то не существует никаких границ, и его желания могут быть сколь угодно беспредельны. В этом смысле Сад – идеальное воплощение литератора. Он выстроил фиктивный мир, чтобы поддерживать в себе иллюзию бытия. Выше всего он поставил «нравственное преступление, совершаемое на бумаге». Его несомненная заслуга состоит в том, что он первым в безрадостной прозорливости скопившегося гнева показал крайние последствия логики бунта, забывшего как минимум о своих истинных корнях. Эти последствия суть тотальная закрытость, всеобщее преступление, аристократия цинизма и стремление к апокалипсису. Годы спустя все они проявятся. Но, смакуя их, он, судя по всему, уперся в собственные удушливые тупики, вырваться из которых смог только благодаря литературе. Как ни странно, именно Сад направил бунт по пути искусства – его знамя подхватит и понесет дальше романтизм. Сада причислят к писателям, о которых сам он говорил: «Их опасная испорченность так деятельна, что они публикуют изложение своих ужасных систем с единственной целью – простереть свои преступления за пределы собственной жизни; сами они больше не способны их совершать, но это сделают их проклятые сочинения; эта сладостная мысль, с которой они сходят в могилу, служит им утешением в необходимости после смерти отказаться от того, что есть». Бунтарское творчество Сада свидетельствует также о его жажде жизни. Пусть бессмертие, которого он жаждет, роднит его с Каином, он все равно не перестает его жаждать и помимо собственной воли горячо и искренне выступает в пользу метафизического бунта.
Впрочем, мы должны отдать ему дань уважения хотя бы потому, что он породил целый ряд последователей. Не все его наследники были писателями. Одно можно сказать наверняка: он страдал и умер, чтобы разогреть воображение обитателей богатых кварталов и посетителей литературных кафе. Но и это еще не все. Успех Сада в наши дни объясняется тем, что его мечта прекрасно вписывается в современную сверхчувствительность, которая находит выражение в требовании абсолютной свободы и холодно-рассудочной дегуманизации. Низведение человека до объекта эксперимента, регламентация отношений между волей к власти и человеком-объектом, пространственная замкнутость этого чудовищного эксперимента – вот те уроки, к которым обратятся теоретики власти, когда задумаются об устройстве рабской эпохи.
Сад за два века до них и в уменьшенном масштабе восславил тоталитарные общества во имя яростной свободы, к которой реальный бунт вовсе не стремится. Вместе с ним берут начало подлинная история и трагедия современности. Правда, он верил, что в обществе, основанном на свободе преступления, должна царить свобода нравов, как будто у порабощения могут быть пределы. Наше время ограничилось тем, что породило свою странную мечту о всеобщей республике и разработало собственную технологию порабощения. В конечном итоге то, что Сад ненавидел больше всего – узаконенное убийство, – приписало себе открытия, которые он хотел поставить на службу инстинктивному убийству. Преступление, в котором он мечтал видеть исключительный и сладостный плод разнузданного порока, сегодня превращено в унылую привычку к полицейской добродетели. Вот такие сюрпризы преподносит нам литература.
Взбунтовавшиеся денди
Но время литераторов еще не истекло. Романтизм с его сатанинским бунтом на самом деле сводился к воображаемой авантюре. Как и Сад, он отгородился от античного бунта предпочтительным вниманием к проблеме зла и личности. Делая акцент на силе брошенного вызова и отрицании, бунт на этом этапе забывает о своем позитивном содержании. Если Бог настаивает на добром начале в человеке, значит, надо высмеять это доброе и сделать выбор в пользу зла. Таким образом, ненависть к смерти и несправедливости приводит если не к воплощению в реальной жизни, то по меньшей мере к апологии зла и убийства.
Символом драмы служит борьба Сатаны со смертью в «Потерянном рае» – любимой поэме романтиков, и глубина этой драмы осознается особенно остро потому, что смерть (наряду с пороком) есть дитя Сатаны. Чтобы вступить в схватку со злом, бунтарь, считающий себя безгрешным, отказывается от добра и снова порождает зло. Поначалу романтический герой смешивает до полного, почти сакрального неразличения добро и зло[10 - Эта тема доминирует, например, в творчестве Уильяма Блейка.]. Это «роковой» герой – ведь рок подразумевает неразделимость добра и зла, против которой человек бессилен. Рок исключает ценностные суждения. Он заменяет их простой констатацией – «Это так», – извиняющей все, кроме Создателя, целиком несущего ответственность за это безобразие. Романтический герой является «роковым» еще и потому, что по мере того, как растут его сила и талант, увеличивается и власть зла над ним. Но всякая власть и любое злоупотребление объясняются все тем же «Это так». Древняя идея о том, что художник, в особенности поэт, всегда одержим демонами, у романтиков формулируется в подчеркнуто вызывающем виде. В эту эпоху устанавливается некий империализм демона, приписывающий демону все, включая гениев ортодоксии. «Вот почему Мильтон, – замечает Блейк, – об ангелах и Боге пишет со смущением, а о демонах и аде – с дерзостью: он был истинным поэтом и, сам того не зная, выступал на стороне демонов». Поэт, гений, сам человек в высшем понимании слова, восклицает в один голос с Сатаной: «Итак, прости, надежда, – а с надеждой / Прости и страх! Раскаянье, прости! / Увы! Добро исчезло без возврата, / Отныне, Зло, будь благом для меня»[11 - Пер. О. Чюминой.]. Это вопль оскорбленной невинности.
Итак, романтический герой, тоскуя по недостижимому добру, считает себя вынужденным творить зло. Сатана восстает против своего Создателя потому, что тот использовал силу для его уничижения. «Он выше нас, – говорит Сатана у Мильтона, – не разумом, но силой; в остальном мы равные». Таким образом, божественное насилие удостаивается безоговорочного осуждения. Бунтарь должен отдалиться от недостойного агрессивного Бога – «чем дальше от него, тем лучше» – и подчинить себе все силы, враждебные божественному порядку. Князь тьмы выбирает этот путь лишь потому, что понятие добра определено Богом и используется им в неправедных целях. Бунтаря раздражает даже невинность, если она предполагает слепоту обманутого. «Темный дух зла, не переносящий невинность», паралелльно с божественной несправедливостью породит и несправедливость человеческую. Поскольку в основе творения лежит насилие, ответом ему будет умышленное насилие. Чем избыточнее отчаяние, тем оно оправданнее, и в результате бунт переходит в состояние вялой ненависти, постоянно искушаемой несправедливостью; грань между добром и злом окончательно размывается. У Виньи:
Не может Сатана свет различить и тьму,
Им сотворенное, не в радость зло ему.
Это дает определение нигилизму и разрешает убийство.
Действительно, убийство становится привлекательным. Достаточно сравнить Люцифера среневековых художников с Сатаной романтиков. Рогатого зверя вытесняет «печальный очаровательный юноша» (Виньи). «Красой блистая неземной» (Лермонтов), этот могущественный одиночка, страдающий и презрительный, подчиняет себе с небрежностью, словно бы нехотя. Оправданием ему служит страдание. «Кто позавидует, – восклицает мильтоновский Сатана, – тому, кто, вознесшись выше всех, обречен на величайшую муку, которой нет конца?» Жертва вечной несправедливости, сгусток непреходящей боли, он получает право творить что угодно. Бунтарь поэтому признает за собой некоторые преимущества. Само по себе убийство не рекомендовано, но оно вписано составной частью в наивысшую для романтизма ценность – неистовство. Неистовство есть оборотная сторона скуки: Лоренцаччо мечтает стать Ганом Исландцем. Самые утонченные чувства оборачиваются примитивной животной злобой. Герой Байрона, не способный любить – или способный любить лишь недостижимой любовью, – страдает от сплина. Он одинок, и это его гнетет. Чтобы почувствовать себя живым, он должен испытать сверхвозбуждение краткого и саморазрушительного поступка. Любить то, чего уже никогда не увидишь во второй раз, значит любить в пламени и истошном вопле, чтобы сразу затем сгинуть. Жизнь – миг, и только ради этого мига и стоит жить:
Той дружбы краткой, но живой
Меж бурным сердцем и грозой.
(Лермонтов)
Угроза неотвратимой смерти, определяющая положение человека, делает бесплодными любые наши поползновения. Нас оживляет только крик, место истины занимает возбуждение. При подобном градусе нагрева апокалипсис становится ценностью, в которой все перемешано – любовь и смерть, совесть и вина. Во Вселенной, сорвавшейся с орбиты, нет иной жизни, кроме ада, в который, по выражению Альфреда Ле Пуатвена, скатываются, проклиная Создателя, люди, «дрожащие от ярости и лелеющие свои преступления». Опьянение неистовством и, в крайней форме, красотой преступления низводит весь смысл жизни к этой единственной секунде. Романтизм не проповедует преступление как таковое, он лишь пытается нарисовать картину глубинного побуждения к протесту, используя привычные образы нарушителя закона, доброго каторжника и благородного разбойника. Наступает триумф кровавой мелодрамы и черного романа. Такие авторы, как Пиксерекур, предоставляют душе возможность задешево утолить свой чудовищный аппетит – впоследствии другие люди используют с той же целью лагеря смерти. Несомненно, подобные произведения были также вызовом тогдашнему обществу. Но в своей живой исходной форме романтизм в первую очередь бросал вызов нравственному и божественному закону. Вот почему его типичной фигурой стал не революционер, а денди, что вполне логично.
Это логично потому, что оправдать упорную приверженность сатанизму можно только бесконечным повторением того, что на свете существует несправедливость, и в некотором смысле – укреплением этой несправедливости. Боль на этой стадии приемлема лишь при условии, что против нее нет лекарства. Бунтарь выбирает метафизику худшего, находящую себе выражение в литературе проклятия, от которой мы до сих пор не освободились. «Я ощущал свою мощь и чувствовал, что на мне кандалы» (Петрюс Борель). Романтик дорожит своими кандалами. Не будь их, ему пришлось бы доказывать, возможно, на практике, что он действительно обладает мощью, на самом деле сомнительной. В конце концов романтик становится чиновником в Алжире, а Прометей у того же Бореля призывает закрыть все кабаре и возвращать колонистов на путь истинный. Но это ничего не меняет: поэт, чтобы быть признанным, должен быть проклят[12 - Это все еще ощущается в нашей литературе. «Больше нет проклятых поэтов», – говорит Мальро. Действительно, их стало меньше. Зато у остальных совесть нечиста.]. Шарль Лассальи, тот самый, что вынашивал замысел философского романа «Робеспьер и Иисус Христос», никогда не ложился спать без того, чтобы не выкрикнуть для поднятия настроения пару яростных богохульств. Бунт рядится в тогу скорби и жаждет аплодисментов восхищенной публики. Романтизм возвещает не столько культ личности, сколько культ персонажа. В этом он весьма последователен. Утратив надежду на закон или единение с Богом, упорствуя в нападках на враждебную судьбу, судорожно поддерживая все, что еще может быть поддержано в обреченном на погибель мире, романтический бунт ищет решения в позе. Поза придает эстетическое единство человеку – игрушке в руках судьбы и жертве божественного насилия. Человеку суждено умереть, но перед смертью он воссияет, и тем оправдано его существование. Вот его точка опоры – единственное, что он может противопоставить окаменелому лику ненавидящего Бога. Замерший в неподвижности бунтарь бестрепетно встречает Божий взгляд. «Ничто не пошатнет, – говорит Мильтон, – этот застывший дух, это гордое высокомерие, рожденное из оскорбленного сознания». Все находится в беспрестанном движении, все стремится к небытию, но на этом фоне униженный человек упорно отстаивает свое право на гордость. Романтическое барокко, открытое Раймоном Кено, полагает: цель всякой интеллектуальной жизни состоит в том, чтобы стать Богом. Поистине, этот романтик слегка опередил свое время. Целью жизни в то время было лишь стать с Богом наравне и уже не опускаться ниже. Романтический бунтарь не отрицает Бога, он лишь ценой постоянных усилий отказывается ему подчиняться. Дендизм – это извращенная форма аскезы.
Денди творит собственную целостность эстетическими средствами. Но его эстетика отмечена исключительностью и отрицанием. «Жить и умереть перед зеркалом» – вот, по мнению Бодлера, девиз денди. И в нем действительно есть своя логика. Денди – оппозиционер по определению. Протест – единственная форма его существования. До сих пор всякая тварь получала свою целостность от Создателя. Но с того момента, когда она решает с ним порвать, она оказывается во власти мгновений, во власти мимолетных дней, во власти рассеянного восприятия. Поэтому ей необходимо взять себя в руки. Денди самой силой отказа собирает себя воедино. В качестве личности, не имеющей над собой закона, он распылен; в качестве персонажа – внутренне целен. Но любому персонажу надобна публика, и денди способен заявить свою позицию, только противопоставляя себя другим. Он не может увериться в собственном существовании, если не ловит его отблеска на чужих лицах. Другие – это зеркало. Правда, зеркало быстро мутнеет, потому что способность человека к концентрации внимания ограничена. Ее приходится без конца стимулировать, подстегивать путем провокаций. Поэтому денди обречен постоянно всех удивлять. Его призвание – быть не таким, как все; он совершенствуется, постоянно повышая ставки. В вечном разладе с миром, вечно на обочине, он, отрицая чужие ценности, принуждает других творить его. Не умея жить, он играет в жизнь. Эту игру он ведет до самой смерти, прекращая играть лишь в те минуты, когда остается один и рядом нет зеркала. Одиночество для денди равносильно небытию. Романтики лишь потому так проникновенно говорили об одиночестве, что действительно воспринимали его как непереносимую боль. Их бунт имеет глубокие корни, но от «Кливленда» аббата Прево до дадаистов, включая в промежутке неистовых романтиков 1830-х, Бодлера и декадентов 1880-х, более чем вековая история бунтарства вырождается в грошовую дерзость «эксцентричности». Если все они говорили о боли, то лишь потому, что, отчаявшись преодолеть ее пустыми пародиями, инстинктивно чувствовали, что только боль служит им оправданием и сообщает истинное благородство.
Вот почему наследие романтизма воспринял не пэр Франции Гюго, а поэты преступления Бодлер и Ласенер. «Все в этом мире сочится преступлением, – говорит Бодлер, – газета, стена, человеческое лицо». Но пусть преступление, правящее миром, хотя бы обретет изысканные черты. Ласенер первым из разбойников-джентльменов применит этот принцип на практике; Бодлер следует ему не так буквально, зато он гениален. Он создаст цветник зла, в котором преступление будет диковинным растением. Самый ужас превратится у него в изысканное ощущение и редкую экзотику. «Я не только был бы счастлив стать жертвой, я не прочь побывать и палачом, чтобы прочувствовать революцию и так, и этак». У Бодлера даже конформизм отдает преступлением. Не случайно своим наставником он называет де Местра – консерватора, который идет до конца и строит свое учение вокруг темы смерти и палача. «Настоящий святой, – якобы размышляет Бодлер, – это тот, кто истязает и убивает народ ради народного же блага». Его призыв будет услышан. По земле начнет распространяться раса настоящих святых, стремящихся увековечить эти занятные выводы бунтаря. Впрочем, Бодлер, несмотря на весь свой сатанинский арсенал, любовь к Саду и богохульство, оставался слишком теологом, чтобы стать истинным бунтарем. Его подлинная драма, сделавшая из него величайшего поэта своего времени, заключалась в другом. И здесь мы упоминаем Бодлера только потому, что он был самым глубоким теоретиком дендизма и окончательно сформулировал определение одного из последствий романтического бунта.
Действительно, романтизм показывает, что бунт частично связан с дендизмом, а одно из его направлений состоит в том, чтобы создавать видимость. В своих обычных формах дендизм сознается в том, что тоскует по морали. Он не то чтобы полностью лишен совести – просто совесть у него ущербная. Но в то же время он заложил основы эстетики, до сих пор доминирующей в нашем мире, – эстетики одинокого творца и упрямого соперника осуждаемого им Бога. Начиная с эпохи романтизма художник видит свою задачу не только в создании своего мира и не в восхвалении красоты ради красоты, но также в определении собственной позиции. Художник становится моделью и предлагает себя в качестве примера: его моралью служит искусство. С романтизмом начинается век морального учительства. Если денди не кончает самоубийством или не сходит с ума, то он делает карьеру и позирует для потомков. Даже если он, как Виньи, криком возвещает о своем молчании, то это молчание грохочет.
Но внутри самого романтизма находятся бунтари, понимающие бесплодность этой позы; они представляют собой переходный тип от эксцентрика (он же Невероятный) до наших революционных авантюристов. Между племянником Рамо и «завоевателями» ХХ века есть Байрон и Шелли, которые открыто бьются за свободу. Они тоже позируют, но по-иному. Бунт понемногу покидает мир кажимости ради мира деятельности, в который он бросается с головой. С этой точки зрения французские студенты 1830 года и русские декабристы предстают чистейшим воплощением бунтарей, поначалу одиноких, но затем пытающихся ценой жертв найти дорогу к единению с другими. И наоборот, в наших революционерах проявится склонность к апокалипсису и неистовству. Театральность судебных процессов, чудовищная игра между судьей и обвиняемым, искусная постановка допросов порой заставляют заподозрить трагическую симпатию к той же старой уловке, с какой романтический бунтарь, отказываясь быть тем, кто он есть, обрекал себя на временную видимость – в горькой надежде обрести более глубокое бытие.
Отказ от спасения
Если романтический бунтарь превозносит личность и зло, то он выступает не на стороне всех людей, а только на своей собственной стороне. Чем бы ни был дендизм, он всегда дендизм по отношению к Богу. Индивидуум как творение может противопоставить себя только творцу. Ему нужен Бог, с которым он мрачно заигрывает. Арман Хуг совершенно справедливо замечает, что, несмотря на ницшеанскую атмосферу сочинений романтиков, Бог у них еще не умер. Даже громогласные проклятия не более чем хитроумная уловка, призванная провести Бога. Но вот Достоевский делает в описании бунта следующий шаг. Иван Карамазов становится на сторону людей и акцентирует внимание на их невиновности. Он утверждает, что вынесенный им смертный приговор несправедлив. Во всяком случае, в своем первом побуждении он не оправдывает зло, а призывает к справедливости, которую ставит выше божественной воли. Таким образом, в нем нет абсолютного отрицания Бога. Он отворачивается от Бога во имя нравственной ценности. Романтический бунтарь претендовал на то, чтобы разговаривать с Богом на равных. В этом случае зло является ответом на зло, а гордыня – ответом на жестокость. Виньи, например, мечтал ответить молчанием на молчание. По всей видимости, под этим подразумевалось стремление подняться на уровень Бога, что само по себе святотатство. Но о том, чтобы оспорить божественную власть и занимаемое ею место, не шло и речи. Святотатство – но подобострастное, поскольку всякое святотатство в конечном итоге является приобщением к священному.
С появлением Ивана тональность меняется. Теперь уже Бог, в свою очередь, судим, и при этом свысока. Если зло есть непременный атрибут божественного творения, то такое творение неприемлемо. Иван больше не полагается на таинственного Бога, но верит в более высокий принцип – в принцип справедливости. Он первым заявляет о том, что главная цель бунта – заменить царство благодати царством справедливости. Тем самым он предпринимает атаку на христианство. Романтические бунтари шли на разрыв с самим Богом как воплощением принципа ненависти. Иван открыто отказывается от тайны и, как следствие, от Бога как воплощения принципа любви. Только любовь способна заставить нас согласиться с несправедливостью по отношению к Марфе, к десятичасовому рабочему дню, не говоря уже о ничем не оправданной смерти детей. «И если страдания детей, – говорит Иван, – пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены». Иван отвергает введенную христианством глубокую зависимость между страданием и истиной. Крик, который он исторгает и от которого под ногами бунтаря разверзаются бездны, выражается в простом «хотя бы и…». «Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и не прав». Это означает, что даже если бы Бог существовал, даже если бы за тайной скрывалась истина, даже если бы прав был старец Зосима, Иван не принял бы эту истину, оплаченную злом, страданием и смертью невинного существа. Иван – это воплощение отказа от спасения. Вера ведет к вечной жизни. Но вера предполагает приятие тайны и зла и смиренное признание несправедливости. Следовательно, тот, кому страдание ребенка не дает обрести веру, лишается вечной жизни. В этих условиях, даже если бы вечная жизнь существовала, Иван от нее отказался бы. Он не желает идти на эту сделку. Его устроила бы только безусловная благодать, и потому он ставит собственные условия. Бунтарю надо или все, или ничего. «От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка». Иван не говорит, что истины не существует. Он говорит, что даже если истина существует, она неприемлема и другой быть не может. Почему? Потому что она несправедлива. Здесь впервые объявлена война справедливости против истины, и этой войне не будет конца. Иван – одиночка, следовательно, моралист, удовлетворится своего рода метафизическим донкихотством. Но не пройдет и нескольких пятилетий, как возникнет широкое движение политических заговорщиков, которые попытаются превратить справедливость в истину.
Кроме того, Иван воплощает отказ от спасения в одиночку. Он чувствует солидарность со всеми проклятыми и отказывается ради них от небесной благодати. Действительно, уверуй он – и спасется, но другие-то не спасутся. Страдание продолжится. Для того, кто наделен чувством истинного сострадания, нет и не может быть спасения. Иван, дважды отказываясь от веры как от несправедливости и привилегии, будет и дальше обвинять Бога. Еще один шаг, и от лозунга «Всё или ничего» мы переходим к лозунгу «Все или никто».
Романтики удовольствовались бы и этой крайней решимостью, и подходящей к ней позой. Но Иван[13 - Следует ли напоминать, что, в определенном смысле, в образе Ивана Достоевский ощущает себя комфортнее, чем в образе Алеши?], при всех его уступках дендизму, переживает реальные трудности, раздираемый между «да» и «нет». Начиная с этого момента он вынужден подчиниться логике собственного решения. Если он отказывается от бессмертия, то что ему остается? Простая жизнь в своем элементарном виде. Если смысл жизни потерян, жизнь все-таки продолжается. «…Я живу, – говорит Иван, – хотя бы и вопреки логике». И добавляет: «… не веруй я в жизнь, разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все, напротив, беспорядочный, проклятый и, может быть, бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования – а я все-таки захочу жить…» Поэтому Иван будет жить и будет любить «сам не зная почему». Но жить означает действовать. Во имя чего? Если нет бессмертия, нет награды и наказания, нет добра и зла? «Я думаю, нет добродетели без бессмертия души». И еще: «Я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравновешивается». Но если нет добродетели, то нет и закона – «все позволено».
Вот с этого «все позволено» и начинается подлинная история современного нигилизма. Романтический бунт так далеко не заходил. В сущности, он ограничивался утверждением, что позволено не все, но он из дерзости позволяет себе то, что запрещено. С Карамазовыми, напротив, логика возмущения оборачивается против самого бунта и погружает его в неразрешимое противоречие. Главное различие заключается в том, что романтики позволяют себе делать то, что им нравится, а Иван принуждает себя творить зло, руководствуясь логикой. Он не позволит себе быть добрым. Нигилизм – это не только отчаяние и отрицание, это прежде всего воля к отчаянию и отрицанию. Человек, который столь яростно выступал в защиту невинных, сокрушался страданием ребенка и хотел «своими глазами» увидеть, как лань возляжет рядом со львом, а жертва обнимет убийцу, тот же самый человек, стоит ему отказать Богу в последовательности и попытаться установить собственный закон, тут же признает законность убийства. Иван восстает против Бога убийцы, но, находя своему бунту рациональную основу, выводит из нее право убивать. Если все дозволено, он может убить своего отца или, по меньшей мере, способствовать его убийству. Долгое размышление о нашей смертной доле приводит лишь к оправданию убийства. Иван одновременно ненавидит смертную казнь (рассказывая о ней, он желчно замечает: «И оттяпали-таки ему по-братски голову за то, что и на него сошла благодать») и принципиально допускает убийство. Убийца заслуживает снисхождения, палач – нет. Это противоречие, нисколько не смущавшее Сада, Ивану Карамазову, напротив, не дает дышать.
Он якобы строит свои рассуждения на допущении – бессмертия не существует, тогда как на самом деле заявляет лишь, что, существуй оно, он от него отказался бы. Следовательно, желая выразить протест против зла и смерти, он делает осознанный выбор, утверждая, что не существует ни бессмертия, ни добродетели, и позволяя убить своего отца. Он сознательно принимает эту дилемму: либо добродетель и отсутствие логики, либо логика и преступление. Его двойник черт совершенно прав, нашептывая ему: «Ты собираешься сделать доброе дело, и однако в добродетель ты не веришь, вот что тебя раздражает и мучает». Вопрос, которым задается Иван и который позволил Достоевскому сделать в описании бунтарского духа решительный шаг вперед, – единственный, который нас здесь занимает: можно ли жить вечным бунтарем?
Нетрудно догадаться, какой ответ даст Иван: жить бунтарем можно, только если довести бунт до логического завершения. Что такое крайнее выражение метафизического бунта? Это метафизическая революция. Сначала оспорить легитимность владыки этого мира, а затем свергнуть его. Его место должен занять человек. «Поскольку нет ни Бога, ни бессмертия, человеку дозволено снова стать Богом». Но что это значит – стать Богом? Это значит признать, что все позволено, и отказаться признавать иные законы, кроме своего собственного. Нам даже не обязательно излагать промежуточную аргументацию, чтобы убедиться: стать Богом означает признать право на убийство (излюбленная идея философствующих героев Достоевского). Личная проблема Ивана, следовательно, заключается в том, чтобы выяснить, готов ли он хранить верность собственной логике и согласится ли перейти от возмущенного протеста против страдания невинных к равнодушию человекобога перед убийством отца. Решение нам известно: Иван позволяет убить отца. Натура слишком глубокая, чтобы довольствоваться видимостью, и слишком тонко чувствующая, чтобы действовать, он ограничивается попустительством. Но кончит он безумием. Человек, не понимавший, как можно возлюбить своего ближнего, точно так же не понимает, как можно его убить. Зажатый между необъяснимостью добродетели и недопустимостью преступления, снедаемый жалостью и неспособный любить, одинокий и лишенный спасительного цинизма, он со всем своим независимым разумом падет жертвой этого противоречия. «У меня ум земной, – говорил он. – Зачем же хотеть понять то, что не от мира сего?» Но он и жил только ради того, что не от мира сего, и его непомерная гордыня как раз и отрывала его от земли, на которой он не любил ничего.
Впрочем, личная катастрофа Ивана не отменяет того факта, что сама постановка проблемы подразумевает необходимость вытекающего из нее следствия: отныне бунт переходит к действию. Достоевский с провидческой мощью описывает этот переход в легенде о Великом Инквизиторе. Иван в конечном итоге не отделяет создание от Создателя. «Не Бога я не приемлю, – говорит он, – а мира, им созданного». Иными словами, нельзя отделить Бога-отца от того, что им сотворено[14 - А именно: Иван позволяет убить своего отца. Он сознательно покушается на природу и принцип «плодитесь и размножайтесь». Впрочем, отец его – мерзавец. В отношениях Ивана и Бога Алеши постоянно присутствует отталкивающая фигура отца Карамазова.]. Следовательно, план узурпации остается чисто моральным. Иван не намерен реформировать творение. Но, поскольку творение таково, каково оно есть, он делает из этого вывод о своем праве и о праве всех остальных людей морально от него освободиться. Напротив, с того момента, когда бунтарский дух, принимая принципы «все позволено» и «все или никто», попытается переделать творение для утверждения божественного царства людей, с того момента, когда метафизическая революция от морали перейдет к политике, возникнет новое движение неподдающегося точной оценке размаха, рожденное, отметим, из недр все того же нигилизма. Достоевский – пророк новой религии – предвидел и возвестил его приход: «Если бы он [Алеша] порешил, что бессмертия и Бога нет, то сейчас бы пошел в атеисты и социалисты (ибо социализм есть не только рабочий вопрос, или вопрос так называемого четвертого сословия, но, по преимуществу, есть атеистический вопрос, вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без Бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю»[15 - «Эти вопросы (Бога и бессмертия) – те же социалистические вопросы, только рассмотренные под другим углом».].
После этого Алеша действительно может с нежностью называть Ивана «настоящей белой вороной». Тот стремился лишь, и то безуспешно, владеть собой. Но за ним придут другие, настроенные куда серьезнее: оттолкнувшись от безнадежного отрицания, они потребуют власти над миром. Именно Великие Инквизиторы заключат в темницу Христа и объяснят ему, что он действует неправильно, что всеобщее счастье достигается не свободным выбором между добром и злом, а господством над унифицированным миром. Сначала надо завоевать власть и установить свое царство. Царствие Божие на земле действительно настанет, но править в нем будут люди – сначала кесари, которые первыми поняли, в чем дело, а за ними со временем и все остальные. Ради единства творения хороши все средства, ибо все позволено. Великий Инквизитор – это усталый старик, и знание его горько. Он знает, что люди не столько подлы, сколько ленивы, и свободе различать добро и зло предпочитают мир и смерть. Он жалеет холодной жалостью молчаливого узника, чьи идеи постоянно опровергает сама история. Он вызывает его на разговор, побуждает признать свои заблуждения и в каком-то смысле оправдать творимое Инквизиторами и кесарями. Но узник молчит. Следовательно, задуманное продолжится без него, а его убьют. Легитимность настанет в конце времен, когда установится человеческое царство. «О, дело это до сих пор лишь в начале, но оно началось. Долго еще ждать завершения его, и еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями и тогда уже помыслим о всемирном счастии людей».
Казнь узника свершилась, и с тех пор на земле царствуют только Великие Инквизиторы, чутко прислушиваясь к «глубокому духу, духу разрушения и смерти». Великие Инквизиторы гордо отвергают хлеб небесный и свободу, предлагая взамен хлеб земной – без свободы. «Сойди с креста, и мы в тебя поверим», – еще на Голгофе кричали ему стражники. Но он не сошел; мало того, в самый мучительный миг агонии жалобно взмолился, сокрушаясь, что Бог его покинул. Следовательно, нет никаких доказательств, а есть только вера и тайна, от которых отмахиваются бунтари и над которыми глумятся Великие Инквизиторы. Все позволено, эта минута потрясения подготовлена веками преступлений. От Павла до Сталина папы, избирающие кесаря, открыли путь кесарям, избирающим только себя. Мир, не сумевший объединиться через Бога, отныне будет пытаться объединиться против Бога.
Но до этого еще далеко. Пока что Иван демонстрирует нам искаженный лик бунтаря, стоящего на краю пропасти, не способного к действию, раздираемого между сознанием о своей невиновности и волей к убийству. Он ненавидит смертную казнь, поскольку она воплощает образ человеческого состояния, но в то же самое время движется к преступлению. Становясь на сторону людей, он взамен получает одиночество. В его случае бунт разума кончается безумием.
Абсолютное утверждение
Как только человек подвергает Бога нравственной оценке, он убивает его в себе. Но тогда на чем зиждется мораль? Если мы отрицаем Бога во имя справедливости, то способны ли мы понять идею справедливости без идеи Бога? Не впадаем ли мы тем самым в абсурд? Именно с проблемой абсурда и схлестнулся Ницше. Чтобы преодолеть абсурд, он довел его до логического конца: мораль есть последний из ликов Бога, который перед воссозданием надо уничтожить. Поэтому Бога больше нет, он больше не гарантирует наше бытие; человек, чтобы быть, должен сам решать, что ему делать.
Единственный
Уже Штирнер пытался уничтожить в человеке не только Бога, но и самую идею Бога. Однако, в отличие от Ницше, его нигилизм вполне доволен собой. Штирнер, оказавшись в тупике, лишь посмеивается, тогда как Ницше колотится о стену. С 1845 года, даты опубликования работы «Единственный и его собственность», Штирнер уступает место другим. Человек, входивший в «Кружок свободомыслящих», организованный левыми младогегельянцами (в том числе Марксом), сводил счеты не только с Богом, но также с Человеком Фейербаха, Духом Гегеля и его историческим воплощением – Государством. По мнению Штирнера, все эти идолы уходят корнями в один и тот же «монголизм», то есть веру в вечные идеи. Поэтому он и смог написать: «Ничто – вот на чем я строю свое дело». Да, грех – это «монгольский бич», но такой же бич и право, которое держит нас в рабстве. Бог – наш враг; Штирнер заходит в богохульстве дальше кого бы то ни было («перевари облатку – и с тебя сняты все грехи»). Но Бог – всего лишь один из способов отчуждения моего «я», точнее говоря, того, что я есть. Сократ, Иисус, Декарт, Гегель, все пророки и философы всегда занимались только тем, что изобретали все новые способы отчуждения моей сущности, моего «я», которое Штирнер отличает от абсолютного «я» Фихте, сводя его к частности и непостоянству. «Имена его не именуют», он – Единственный.
Вся мировая история до Христа для Штирнера лишь долгое усилие по идеализации реальности. Это усилие воплощено в мыслях и очистительных обрядах, свойственных древним культурам. С приходом Иисуса цель достигнута, и начинается новое усилие, теперь, напротив, направленное на осуществление идеала. За очищением следует ярость воплощения, по мере того как ширится империя социализма, наследующая Христу и все больше опустошающая мир. Но вся мировая история – это бесконечное попрание принципа моей уникальности, живого, конкретного и победительного принципа, которому постоянно грозит быть погребенным под бременем сменяющих друг друга абстракций – Бога, государства, общества, человечества. Филантропия для Штирнера – мистификация. Атеистические философии, кульминацией которых является культ государства и человека, сами не более чем «теологические мятежи». «Наши атеисты, – говорит Штирнер, – на самом деле набожные люди». На всем протяжении истории существовал всего один культ – культ вечности. Но это ложный культ. Истина заключена только в Единственном, враге вечности и всего того, что в действительности не служит интересам собственного господства.
У Штирнера любые утверждения неизбежно тонут в побуждении к отрицанию, вдохновляющему бунт. Он также отметает все суррогаты божественного, которые довлеют нравственному сознанию. «Внешний потусторонний мир уничтожен, – говорит он, – зато внутренний потусторонний мир становится небесами». Даже революция – особенно революция – вызывает у такого бунтаря отвращение. Чтобы быть революционером, надо хоть во что-то верить, тогда как верить не во что. «Революция (Французская) закончилась реакцией, и это показывает, чем на самом деле была Революция». Попасть в рабство к человечеству ничуть не лучше, чем быть рабом Божьим. Да и братство, если разобраться, не более чем «способ наблюдать коммунистов по праздникам». В будни братья становятся рабами. Поэтому для Штирнера существует только одна свобода – «собственное могущество» – и только одна истина – «величественный эгоизм звезд».
Эта пустыня расцветает. «Невозможно понять прекрасное значение бессмысленного крика радости, пока длится долгая ночь размышления и веры». Ночь подходит к концу, вскоре зажжется заря, но не заря революций, а заря восстания. Само по себе восстание – это аскеза, отвергающая любые блага. Инсургент согласует свои действия с другими лишь постольку, поскольку временно совпадают их эгоистические интересы. Его истинная жизнь – в одиночестве, позволяющем ему беспрепятственно утолять свой голод по бытию, который и есть его единственное бытие.
Это вершина индивидуализма. Это отрицание всего, что отрицает индивидуума, и прославление всего, что его вдохновляет и служит ему. Что такое добро по Штирнеру? «То, чем я могу воспользоваться». Чем я могу воспользоваться на законных основаниях? «Всем, на что я способен». Бунт снова приводит к оправданию преступления. Штирнер не только поддался искушению такого оправдания (в этом отношении ему прямо наследуют террористические формы анархии), его явно пьянили открывающиеся перспективы. «Порвать со священным или, еще лучше, разрушить священное должно стать общим правилом. Приближается не новая революция, но могучее, горделивое, бесцеремонное, бесстыдное, бессовестное преступление. Разве ты не слышишь вдали его громовые раскаты, разве не видишь, как потемнело застывшее в его предчувствии небо?» Это мрачная радость обитателя убогой лачуги, готовящего апокалипсис. Больше ничто не в силах сдержать эту исполненную горечи властную логику; не остается ничего – есть только «я», поднявшееся против всех абстракций и само, плененное и оторванное от корней, ставшее неназываемой абстракцией. Нет больше ни преступлений, ни ошибок, а значит, нет и грешников. Все мы совершенны. Поскольку каждое «я» по самой своей сути преступно по отношению к государству и народу, признаем, что жить – значит нарушать закон. Убийство – самое малое, что можно совершить, чтобы стать единственным. «Вы, кто ничего не оскверняет, вы не так велики, как преступник». Впрочем, Штирнер, в ком еще говорят остатки совести, уточняет: «Убивать, но не мучить».
Между тем, провозглашая правомочность убийства, приходится объявить всеобщую мобилизацию и войну Единственных. Убийство, таким образом, будет означать нечто вроде коллективного самоубийства. Тем не менее Штирнер, не желающий или не способный это признать, не останавливается ни перед каким разрушением. Бунтарский дух наконец находит горчайшее удовлетворение в хаосе. «Тебя (немецкую нацию) предадут земле. Вскоре твои сестры, другие нации, последуют за тобой; когда все они по очереди уйдут, человечество будет похоронено, и Я, наконец, сам себе хозяин, Я, его наследник, посмеюсь на его могиле». Так скорбный смех индивидуума-короля над руинами мира возвестит окончательную победу бунтарского духа. Но стоит перейти к этому краю, как остаются всего две возможности – смерть или восстание. Штирнер, а вместе с ним и все бунтовщики-нигилисты стремятся в своем опьянении разрушением к крайнему пределу. После чего приходится учиться жить в образовавшейся пустыне. И здесь начинаются мучительные искания Ницше.
Ницше и нигилизм
«Мы отрицаем Бога, мы отрицаем ответственность Бога, и только так мы освободим мир». С появлением Ницше нигилизм, судя по всему, обретает характер пророчества. Но если не рассматривать Ницше в первую очередь как клинициста и лишь затем как пророка, то мы не извлечем из его творчества ничего, кроме пошлой низменной жестокости, которую он всеми силами ненавидел. Его методически расчетливый, или, одним словом, стратегический ум не подлежит сомнению. С ним нигилизм впервые становится сознательным. Качество, общее для хирургов и пророков, состоит в том, что они мыслят и действуют, заглядывая в будущее. Ницше всегда размышлял в предвидении грядущего апокалипсиса, но не потому, что апокалипсис его вдохновлял – он догадывался, какой гнусный корыстный облик это в конце концов обретет, – а потому, что хотел избежать его и трансформировать в возрождение. Он распознал нигилизм и изучал его как медицинский факт. Себя он называл первым законченным нигилистом Европы. Не потому, что нигилизм ему нравился, а потому, что таково было положение вещей и потому, что он, как великая личность, не мог отмахнуться от наследия своей эпохи. Он диагностировал у себя и у других неспособность к вере и исчезновение первоначального основания этой веры, то есть веры в жизнь. Вопрос, можно ли жить бунтарем, у него превратился в другой: можно ли жить, ни во что не веря? Он дал на него утвердительный ответ. Да, можно, если сделать отсутствие веры методом, если довести нигилизм до крайности и, попадая в пустыню и с доверием встречая грядущее, продолжать испытывать то же первобытное чувство боли и радости.
Методичное сомнение он заменил методичным отрицанием и разрушением всего, что скрывает нигилизм от него самого, разрушением идолов, маскирующих смерть Бога. «Чтобы воздвигнуть новый алтарь, необходимо разрушить алтарь – таков закон». По Ницше, всякий, кто хочет быть творцом в добре и во зле, должен быть прежде всего разрушителем и сокрушителем ценностей. «Высшее зло есть часть высшего блага, но высшее благо есть творец». По сути, он создал «Рассуждение о методе» своего времени – без свободы и точности французского XVII века, которым так восхищался, зато с безумной проницательностью, характерной для века ХХ – века гениев, как он выражался. Эту методику бунта нам и надлежит исследовать[16 - Очевидно, что нас будет интересовать последний период в философии Ницше – с 1880 года до его краха. Эту главу можно расценивать как комментарий к книге «Воля к власти».].
Итак, первое, что делает Ницше, – это соглашается с тем, что ему известно. Атеизм – «конструктивный и радикальный» – для него подразумевается сам собой. Свое высшее призвание Ницше видит в том, чтобы спровоцировать нечто вроде кризиса и поставить окончательную точку в вопросе атеизма. Мир движется наугад, у него нет целеполагания. Следовательно, Бог бесполезен, ведь он ничего не хочет. Если бы он чего-то хотел, и здесь мы узнаем традиционную формулировку проблемы зла, ему пришлось бы взять на себя ответственность «за всю сумму страдания и нелогичности, которая снижает общую ценность будущего». Известно, что Ницше не скрывал своей зависти к Стендалю, сказавшему: «Единственное, что извиняет Бога, – это то, что он не существует». Лишенный божественной воли, мир одновременно лишается единства и конечной цели. Вот почему его нельзя судить. Всякое ценностное суждение о мире в конечном итоге приводит к клевете на жизнь. Мы судим то, что есть, с позиции того, что должно быть, – царства небесного, вечных идей или нравственного императива. Но того, что должно быть, нет, и нельзя судить мир во имя ничто. «Вот преимущества нашего времени: ничто не истинно, и все позволено». Этих формул, находящих отражение в тысяче других, пафосных или ироничных, в любом случае достаточно, чтобы доказать, что Ницше согласен нести весь груз, налагаемый нигилизмом и бунтом. В своих рассуждениях о «дрессировке и отборе», звучащих, впрочем, ребячески, он даже сформулировал крайнюю логику нигилистической аргументации: «Проблема: какими средствами достижима строгая форма великого заразительного нигилизма, который вполне научно проповедовал бы и практиковал добровольную смерть?»
Но Ницше колонизировал в пользу нигилизма ценности, которые традиционно рассматривались как помеха нигилизму. Главным образом это мораль. Моральное поведение, пример которого дает Сократ или рекомендует христианство, само по себе является признаком декаданса. Оно хочет заместить человека из плоти из крови отраженным человеком. Оно осуждает мир страстей и криков во имя гармоничного и целиком выдуманного мира. Если нигилизм – это бессилие веры, тогда самый яркий его симптом мы находим не в атеизме, а в невозможности уверовать в то, что есть, увидеть то, что происходит, и пережить то, что нам дано. Этот недуг лежит в основе всякого идеализма. Мораль не верит в мир. Истинная мораль, по Ницше, неотделима от проницательности. Он строго судит «клеветников на мир» потому, что ощущает в этой клевете постыдный привкус бегства. Для него традиционная мораль – лишь частный случай бессмертия. «Именно добро, – говорит он, – нуждается в оправдании». И добавляет: «Именно по моральным соображениям однажды перестанут делать добро».
Бесспорно, философия Ницше вращается вокруг проблемы бунта. Она, собственно, и начинается как бунт. Но мы чувствуем, что Ницше смещает акценты. У него бунт отталкивается от утверждения «Бог умер», что воспринимается как свершившийся факт, он оборачивается против всего, что стремится осуществить ложную замену исчезнувшего Божества, и бесчестит мир, пусть никем не управляемый, но остающийся единственным тигелем богов. Вопреки тому, что думали некоторые христианские критики Ницше, он вовсе не планировал убить Бога. Он уже обнаружил его мертвым в душе своей эпохи. Он первым осознал огромный масштаб случившегося и решил, что бунт человека приведет к возрождению только в том случае, если у него появится руководство. Всякое иное отношение к нему, будь то сожаление или сочувствие, приведет к апокалипсису. Таким образом, Ницше не разрабатывал философию бунта – он выстроил свою философию на идее бунта.
Другие электронные книги автора Альбер Камю
Другие аудиокниги автора Альбер Камю
Чума




 0
0