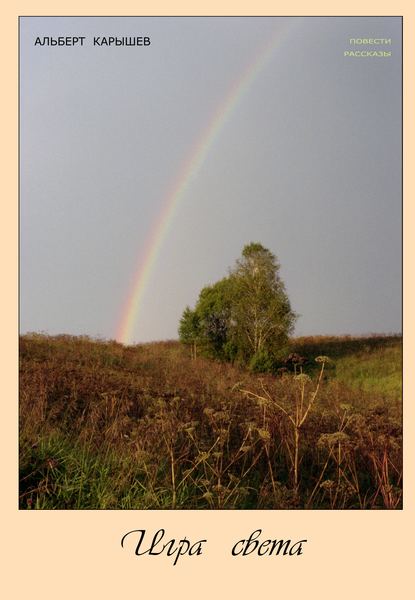По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Игра света (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Деда, салат я не люблю, – отвечала наша очаровательная пятилетняя малышка. По деревне она ходила в цветастом сарафанчике и белом платочке, и я звал её барышней-крестъянкой.
– Ладно, ешь картошку.
– Картошку я тоже не люблю.
– Ну, пей тогда молоко, – говорила моя жена Вера, проявляя свое незаурядное педагогическое терпение. Оно у неё обретённое, профессиональное. – Есть, вообще, что-нибудь такое, что ты любишь?
– Знаешь, бабуля, молоко мне, ну, вот совсем не хочется. Можно я чаёк с конфеткой и печеньем?
– Нет, Анечка, так дело не пойдёт, – мягко брала на себя кормление ребёнка Алевтина Степановна. – Ишь, какая хитренькая: чайку ей с конфеткой и печеньем! Надо, милая, кушать всё, что подают. Салат – вкусный и полезный, со сметанкой он, с луком и чесноком, одни витамины. Картошечку тоже попробуй, я старалась, жарила на русском масле. Не обижай меня, не отказывайся. Ну-ка, поешь салату и картошки, тогда получишь не одну конфетку и не одно печенье, а много!
– Мне не хочется…
– Нет, ешь. Кушай на здоровье, – говорила Алевтина настойчивее и гладила осторожно Анюте маленькое хрупкое плечо.
– Хорошо, тётя Аля. – С кислым видом девочка ковыряла ложкой в тарелке, но всё же слушалась старушку и потихоньку ела.
Глядя на Алевтину Степановну по утрам, я всегда удивлялся тому, что после четырёх-пяти часов сна она остаётся свежей, спокойной и доброжелательной. Если жизнью человеческой считать неустанный труд, «активную деятельность», думалось мне, то эта немолодая женщина прожила на свете больше лет, чем прожили её одногодки, особенно в городах, так как спала меньше их, а работала больше.
– Неужели вам совсем не хочется спать? – пытал я хозяйку. – Чувствуете-то себя нормально? В сон не клонит? Голова не кружится?
– Нет, ничего, – отвечала она, попивая чаёк из блюдца в прикуску с сахаром. – Сперва, лишь встану ни свет, ни заря с постели, голова делается вроде как каменная, худо соображает. А стоит поработать мне на воздухе – и сна ни в одном глазу. Я однажды решила, знаете ли, днём поотдыхать. Годы, думаю, всё же немолодые, давление, сказали врачи, высокое, буду-ка беречь себя, спать после обеда. Так, верите, не смогла. На какой бок ни повернусь, всё кажется жёстко, неудобно. Через полчаса бока отлежала. Повертелась на постели, разозлилась и поднялась. С тех пор днём больше не ложусь. И как это люди могут подолгу спать, не понимаю.
– Вы просто чудо какое-то! – говорил я. – Феномен! Вас надо учёным показывать, исследующим возможности человеческого организма! Некоторые люди, я слышал, могут по сорок дней не есть, без всяких неприятностей для себя. А йоги способны умирать не до смерти, временно останавливая работу своего сердца. Вас надо ко всем этим необыкновенным личностям причислить и изучать. Если бы сам не знал, как вы мало спите и много делаете, никогда бы этому не поверил!
– А никакого чуда и нет. – Она улавливала, наверно, лёгкую шутливость в моих словах, а я слышал в её ответе вежливую отповедь. – Говорю, привычка. Я сельская женщина и с детских лет приучена к такой жизни. В деревнях все женщины выносливые, терпеливые и на все руки умелые, не одна я. Мужики, конечно, покрепче нас и поспособнее будут, но они скоро выдыхаются. Им бы сразу: выполнить пусть хоть самую тяжёлую работу и – шабаш, ноги задрал и лежи покуривай. Вот на войне они были молодцы, тут ничего не скажешь. Воевать наши мужчины умеют.
– Мы много чего умеем и ни в чём вам не уступаем, – возражал я в шутливом тоне. – Что уж вы так принижаете мужчин, Алевтина Степановна?
– Да ладно. Это я для смеха. – Она улыбалась чему-то и вдруг рассказывала с девичьим задором, горделиво поведя плечом: – А видели бы вы меня в молодости! С работы, бывало, придёшь, наломаешься в лесу на подсочке – на добыче живицы, стало быть, – и кажется, нет больше сил, от усталости с ног валишься. Но посидишь малость, съешь кусок хлеба, сырого, замешанного неизвестно с чем – такой в войну пекли, – попьёшь молока, и вроде сил полно. Ни у кого из девчонок и мысли такой не мелькало, чтобы завалиться после работы отдыхать, если уж только приболел кто. Мы каждый день вечеринки устраивали, одевались понаряднее и ходили друг к другу в гости: сегодня к тебе, завтра ко мне, послезавтра к третьей девчонке. Так было принято. Избу для вечеринок всем миром убирали. Вина – ни капельки, только еда, кто что принесёт, да чаёк, порой заваренный на хлебной корке, зато настоянный на разных душистых травах. Сидели разговаривали, кто-нибудь потешал всех смешными рассказами. Пели под гармонь частушки, страдания, плясали до упаду. Я уже рассказывала вам, что весёлая была, плясать любила. Скажу, не хвалясь, что всех я переплясывала. Меня и прозвали Алька-плясунья… А утром опять на работу. Позднее, когда мужа я схоронила да сын мой Витя погиб… Сынок Витенька… Когда погиб… – Она мужественно преодолела спазм в горле, и голос её, упавший чуть не до шёпота, тут же опять восстановился. – Тогда уж я стала в церковь ходить. И не больно молода была к тому времени, а десять километров до церкви отмахивала запросто. Мы вдвоём с подругой вечером после работы на церковные праздники ходили. Отстоим службу – и ночью назад, короткой дорогой через лес. Туда и обратно двадцать километров. Рано утром возвращались. На работу не опаздывали.
– Двадцать километров – после дня тяжёлой работы! – воскликнул я. – Да ещё – выстоять церковную службу, а оно само по себе нелегко! Просто фантастика! Честное слово, трудно поверить!
– Неужели не страшно было? – спросила моя жена, зябко поёживаясь.
– Нет, не страшно, – ответила Алевтина теперь рассеянно, всё же думая, наверно, о тяжком, сокровенном, что вмешалось в разговор с промелькнувшим в нём упоминанием о покойном Вите. – Что в лесу страшного? Страшно горе, а не тёмная ночь и не дремучий лес. Дорогу мы знали хорошо и никогда бы не заплутались, звери сами человека боятся, обходят стороной, злые же люди у нас тогда редко водились.
Конечно, я и жена чуть не ежедневно с утра спешили по грибы. Иногда, отправляясь поближе, мы брали Анюту с собой, но чаще всего нацеливались на такие далёкие марш-броски, что приходилось оставлять ребёнка дома. Не знаю, почему мы ни разу не сходили в лес вместе с хозяйкой. Трудно сказать. Я и жена думали, что напрашиваться неудобно. Алевтина же никогда не звала нас за собой, и никого другого, между прочим, на моей памяти она не звала, и ни с одной компанией не соединялась, явно предпочитая в лесу одиночество и независимость…
Мы топали пешком, а она нередко добиралась до леса на колёсах. Зять Павел Алевтину увозил, муж её дочери Насти, родившейся следом за Витей. Зять, рассказывала Алевтина Степановна, с молодых лет славился мастерством на все руки, твёрдым характером и цепкой хозяйской хваткой. Он был такой же незаурядной личностью, как его покойные отец и дед, из которых дед погиб на войне, а отец умер скоропостижно. Двенадцати лет от роду Павел остался один: вслед за отцом так же скоропостижно умерла его мать. Вырос он в муромском детдоме, окончил техникум и вернулся к себе в деревню, в отчий дом, который самостоятельно отремонтировал и привёл в порядок. С начала девяностых годов он решил стать сельским предпринимателем и для начала взялся копить деньги на грузовой автомобиль. Многое из того, что они с Настасьей производили в своём хозяйстве, отдельном от хозяйства Алевтины Степановны, они продавали, Павел ещё что-то скупал и перепродавал; но главным образом, он, надрывая живот, с утра до ночи перевозил на мотоцикле дрова, сено, овощи, навоз, сняв с пассажирской коляски кузов, а вместо него настелив доски, да ещё прицепив сзади самодельную платформу. Заказов было много – от жителей собственной деревни и окрестных деревень. Отъезжая в нужном тёще направлении, зять прихватывал с собой Алевтину. А из леса она добиралась сама.
Не раз доводилось нам видеть, как Павел увозит её из деревни по выщербленной ветке асфальтового шоссе. На загляденье молодецки, словно гарцующий кавалерист, держался он в седле за рулём своей машины. Налёта легкомыслия, между тем, в его усатом загорелом лице не было – лицо серьёзное, умное, сосредоточенное, как посмотришь на такое, сразу начинаешь уважать человека. Заметив на прогулке нас с женой и внучкой, Павел кивал, а я в ответ приветливо вскидывал руку. Близко мы с ним ещё не познакомились, но при встрече здоровались. На заднем сиденье обычно ехал его грузовой помощник старший сын Вова, а сбоку на досках сидела Алевтина Степановна, одной рукой цепляясь за переднее седло или какую-нибудь железяку, а второй прижимая к себе драночную корзину с брезентовым наплечным ремнём. Пассажирка подпрыгивала, сильно раскачивалась на неровностях дороги и смеялась, съезжая по доскам и, вероятно, намозоливая себе на жёстком сиденье мягкое место. На голове её белел платок, лихо завязанный сзади. Широкое лицо крестьянки было молодо, радостно, безмятежно, и с трудом верилось, что возраст её вплотную приблизился к семидесяти годам и что жизнь она прожила непростую: ломила с детских лет и настоящее горе мыкала. На миг зажав корзину между коленями, хозяйка махала нам рукой, быстро удаляясь, уменьшаясь в перспективе дороги.
И вот что Алевтина Степановна рассказывала потом о своих грибниковских вылазках. Как, наверно, заметил читатель, она любила рассказывать, а мы любили слушать.
Знакомой тропой уходила крестьянка от дороги к лесу. На некошеной траве луга блестели остатки росы. В лесу Алевтина сперва поднималась в долгую крутую гору. Лес тут был густой, тёмный, поэтому, возможно, пугаясь его дремучести, мало кто хаживал её излюбленным путём. Но минут через десять упорного восхождения открывалось светлое плоскогорье. На плоскогорье рос сосновый бор, старый её друг и соратник по труду. Живицу в нём давно никто не собирал. Сосны-ветераны обросли толстой слоистой корой и серым сухим лишайником, поднявшимся от подошвы на полдерева. Алевтина Степановна искала рабочие насечки на знакомых ей многолетних деревьях и некоторые не без труда находила. Когда-то они были страшны, как боевые раны, но давно зарубцевались, заплыли янтарной смолой. Она гладила кривую, горбатую сосну-долгожительницу и говорила:
– Совсем мы с тобой старушки. Ничего, ещё поскрипим.
«Поскрипим», – слышался ей деревянный голос из корявого стволища, с глухим стуком и чирканьем прикладывавшегося к плечу молодой здоровой сосны.
Летом в бору грибов не было, они нарастали в нём по осени. Огибая бор, Алевтина Степановна шла дальше по просёлочной дороге, туда, где между широко расставленных природой мачтовых стволов уже проглядывало зелёное невозделанное поле. Раньше его вспахивали и засеивали пшеницей, потом запустили, и оно поросло травой, цветами, побегами сосны и берёзы – потомством окружающих лесов. С трёх сторон его окружал березняк, а замыкалась кольцевая опушка великолепными соснами бора. Простившись с бором, Алевтина пересекала поле и у берёзовой рощи останавливалась, переводила дух. Всю жизнь крестьянка ходила по лесам и то с горы, то из распадка вглядывалась в их разнообразные картины, в сложные цветные узоры, сочетавшие оттенки хвои и листвы, но никогда не пресыщалась она лесом – всякий раз с любовью видела его заново. Берёзовую рощу она особенно любила. Прелести рощи связывались у Алевтины с воспоминаниями молодости, берёзы казались ей девушками-подружками, выбежавшими к полю поиграть. Пожилая женщина не сознавала и не ощущала себя пожилой. Она говорила нам, что стесняется своей внутренней несолидности и, смотрясь иногда в зеркало, думает о том, что её морщины, жизненный опыт, натруженностъ рук и ног – всё это не соотносится с состоянием её духа. В берёзовой роще Алевтине хотелось по-девчоночьи «беситься», петь, кричать от восторга и прыгать на одной ноге. Никогда бы она не покинула родные края, говорила себе Алевтина Степановна, ни на какие блага жизни не променяла бы свою деревню и окружающие её поля и леса, а если бы смогла, то ещё раз появилась бы тут на свет, прожила жизнь и состарилась! Но не забывала она и смотреть вниз, вглядываться в траву и палую листву ещё довольно острыми глазами, видевшими без очков. И вдруг находила белый гриб и, взяв его в руки, умилялась над ним: «Господи! Красота какая! Просто невозможная! Вечно жить и видеть её хочется! Что за силы такое чудо сотворили?»
* * *
Два года мы в деревню по разным причинам не наведывались. Когда же вернулись к Алевтине на постой, то увидели, что внешне крестьянка изменилась мало и что по-прежнему она встаёт спозаранку и не покладая рук занимается делом.
– Сердце у меня ещё ничего, – сказала Алевтина Степановна, – и с давлением справляюсь, нога вот только что-то взялась болеть. Болит и болит у чиколки (так она попросту называла щиколотку). Ударилась, что ли, где, или отложение солей?.. Но в лес ходить и по дому работать это не мешает, болит терпимо… А посмотрите-ка, сколько я всего наготовила! Пойдёмте, покажу! – И засмеявшись смущенно – оттого, наверно, что вздумала прихвастнуть, – хозяйка повела нас к погребу, его люк выходил в кухню вблизи основания газовой плиты.
До этого случая нам не доводилось заглядывать в погреб к Алевтине. Она сама доставала из него картошку, лук, чеснок, свёклу и морковь, кабачки и тыквы, солёные помидоры, огурцы, грибы, мочёные яблоки, компоты, соки и варенье. Но, конечно, я и жена любопытствовали: что у неё в погребе, бездонный склад фруктово-овощных продуктов, что ли? И вот Алевтина Степановна откинула перед нами крышку люка, зажгла переносную электрическую лампу, подвешенную в погребе к опорному столбу, и указала на приставную лестницу:
– Полезайте.
Мы с женой спустились по лестнице, внучка полезла за нами. Чего только не было в большом прохладном погребе, и всё тут содержалось в полном порядке. Груда картошки лежала у стены за дощатым ограждением. На картофелинах белели корни ростков, оборванных Алевтиной. Клубни моркови и свёклы хранились у неё в деревянных ящиках, пересыпанные речным песком. С чем-то бочки в углу стояли и многолитровые бутыли тускло поблескивали. Но главное, что мне бросилось в глаза – это множество разновеликих стеклянных банок с консервированными солениями и варениями. Они занимали трёхъярусные полки, и на каждой белела рукописная наклейка. Я даже ради интереса стал наскоро считать банки и на пятидесятой остановился. Когда мы вылезли из погреба, внучка наша первой заговорила с Алевтиной Степановной:
– Как у вас там интересно! Много всего!
Она сызмала была вежливой и ласковой девочкой, но, сделавшись старше и разумнее, приобрела замечательное свойство, какое есть не у всякого взрослого: потребность в нужный момент сказать человеку что-нибудь приятное. Не раз Анюта и меня радовала словами: «Деда, мы с бабушкой прочли твой рассказ, и он нам понравился».
– Прямо выставка сельхозпродуктов! – польстила хозяйке моя жена с лёгким непритворным ошеломлением. – Неужели вы это сами всё заготовили?
– А кто же ещё? – ответила Алевтина.
Сели, как бывало, в кухне попить чайку, и я продолжил разговор о хранящихся в погребе съестных припасах. Хотел побалагурить, но шутка вышла какая-то несуразная, не очень вежливая. Я поздно спохватился, но шутка была уже на языке:
– Куда вам столько, Алевтина Степановна? Вам всего этого до конца дней своих не съесть! А вы всё заготавливаете и заготавливаете!
– Да я же не для одной себя, – сказала она. – Много ли мне надо? У меня ещё дочь, зять да пара внуков, и у всех аппетит хороший.
– А сами они, что, не участвуют?
– Почему? Участвуют. Заготавливают и сами, но теперь мало. А по грибы и ягоды совсем редко ходят. Когда им? Паша и Настя с утра до ночи предпринимательством занимаются, покоя не знают. Полуторку себе купили, неновую, конечно. Гараж Паша сложил. Теперь магазин строит, Настя будет в нём командовать. А в магазин придут одни старики да старухи. Как вымрем все, и продавать будет некому, разве только дачникам… Паша для старичков и старается. Порадую, говорит, их напоследок. У нас в округе на десять километров ни в одной деревне магазинов нет. А раньше были… Зять у меня редкий мужчина, скажу вам, я им горжусь. За все мои страдания такой мне зятёк достался, осчастливил нас с дочкой. Умный человек, самостоятельный, работящий. Знает, где что сказать, как к кому подойти, и ничего не боится. Всё у него выходит, за что ни возьмётся. Другие мужики вино пьют, рубли ходят стреляют, а Паша делом занят, зарабатывает. Он уж с важными людьми в Муроме и Владимире запросто. Я ему со своей стороны помогаю. Иной раз придет: «Мать, надо мне солёных рыжиков трехлитровую банку. Сделаешь? С начальником одним еду потолковать, от него кое-какие дела у меня зависят». Тут вот мой погребок и приходится кстати. Лезу, достаю рыжики. «Спасибо, мать, ты умница, – и чмокает в щёку, колется своими усами. – Я твой должник. За мной подарок». «Да не нужно мне никаких подарков, – говорю. – Уважаешь меня – это самое главное. За уважение я всё, что хочешь, для тебя сделаю».
Алевтина посмотрела на всех нас по очереди и всем улыбнулась. Мы прониклись её похвалой любимому зятю и тоже разулыбались.
– А молодые что же? – спросил я. – Они чем занимаются?
– Внуки у меня тоже неплохие, – сказала она. – В родителей пошли. Грех жаловаться. Уважительные, отцу с матерью помогают. Вова, старший, хочет поступить в сельскохозяйственный техникум, на механика, в этом году он закончил девять классов, а младший, Толик, перешёл в седьмой. В соседней деревне у нас школа, за пять километров попутным автобусом добираются ребятишки, а то и пешочком туда и обратно… Оба они, Вова с Толиком, умеют и косить, и строгать, и пилить, и за огородом ухаживать, – к жизни приспособленные, одним словом; но, конечно, ещё мальчишки. Порой выкинут что-нибудь такое, не без этого. Возьмут и укатят на велосипедах неизвестно куда и дома не скажутся, а мы их потом ищем, волнуемся. Или вот теперь модно у молодёжи с магнитофоном гулять. Раньше парни с гармонью по деревне ходили, а теперь с магнитофоном. Но ведь от гармошки на сердце благодать, а от магнитофона одно бешенство. И Вова с Толей, бывает, ходят наигрывают. Среди дачников у них есть друзья-приятели, и из соседних деревень на велосипедах приезжают. Соберутся, включат американскую музыку посильнее, так что кишки выворачивает наизнанку, да прохаживаются по улице под окнами. Паша этого страшно не любит, ругается. Магнитофон грозится отобрать или разбить об угол. А в лес внуков не дозовёшься. Нет! То, чем мы, и родители наши, и деды, и прадеды жили в деревне, уж и не надо молодым. У них другие интересы…
Поддерживая одной рукой другую, Алевтина погладила себе щёку и качнула головой.
– Ну, и продаю я избыток, – сказала она. – Дёшево, конечно, однако всё польза мне, прибавка к пенсии, не больно у меня пенсия велика, да и ту спустя полгода теперь выплачивают. Дочка с зятем дарят на конфеты, и не только на конфеты – вон холодильник поставили и плиту газовую, – да я стараюсь их не обременять, сама зарабатываю себе на жизнь, пусть тратят на детей и на предпринимательство. Но много всего я задаром раздаю. Старушки в деревне есть почти столетние, одинокие. И солёного им хочется, и варёного. А где взять? Сами уж ни в лес не могут сходить, ни огород вырастить. Попросят иногда, или я сама угощу… Местные пьяницы выпрашивают на закуску. Этих угощать не хочется, пьяниц я не люблю, просто ненавижу, натерпелась из-за зелия проклятого. Но канючат, пристают с ножом к горлу: «Тётя Аля, дай огурчиков или грибочков!» Жалко их тоже, окаянных. Не дать ничего, так чем попало закусят, а то и вовсе без закуски выпьют – спаси Бог, отравятся. В последнее время прямо напасть какая-то, будто с ума мужики посходили. Те, кто сроду не пил, хлещут вёдрами, ходят смурные, с чёрными лицами. Красивые, здоровые, и башковитые есть очень, и дельные, а совесть и ум пропивают и себя, дураки, зазря губят. К примеру, Лёша Фадеев. Трезвенник был, светлый безотказный человек, любой прибор мог починить, проводку провести, на столб, бывало, залезет. Потом вдруг запил. Сперва немного, потом сильнее. Пьёт, глядим, и пьёт, алкоголиком становится. «Что делаешь-то? – говорю. – Думаешь ты своей головой, куда катишься? К могиле ведь приближаешься». Усмехается мрачно, встряхивает кудрями. «Ничего, тётя Аля, ты не понимаешь». Или Дмитриев Юра. Он тут всем крыши крыл… Оба умерли преждевременно, с перепоя. А теперь и некоторые бабы от мужиков не отстают. Беда…
Я тут упомянул о доброте Алевтины. Хочу подчеркнуть, что её удивительная доброта была не показной или напускной, а истинной, прирождённой. Вот и месячную плату за прошлый наш постой хозяйка попросила столь ничтожную, и то застенчиво, что могла бы купить на неё разве только десяток буханок хлеба. Я и жена даже постеснялись давать ей такую мелкую сумму, уговорили взять побольше. Живя у неё два года назад, мы часто наблюдали проявление её большой доброты. По субботам Алевтина пекла в русской печи гору пирогов. Запах их распространялся по всему дому и выходил на улицу. Намывшись в общественной бане, которая, слава Богу, пока тут ещё работала, мы пили чай и ели её пироги в безупречно чистой избе, застланной светлыми половиками, но часто отвлекались на приход незваных гостей. Как бы невзначай заглядывали старушки, старики и народ помоложе, в том числе дети. Приветствовали нас, извинялись и топтались в дверях. Каждому хозяйка вручала по паре больших румяных пирогов и благодарила всех, кто зашёл и принял угощение. «Они уже знают, что по субботам я пеку пироги и люблю ими угощать, – объясняла нам Алевтина. – У меня для этого мешок муки всегда в чулане припасён, зять со склада привозит. Когда люди едят какую-нибудь мою еду, сынок мой Витя на том свете радуется. Поверье такое есть, а я прямо слышу его голос: «Мама, пожалуйста, угощай всех чем можешь. Очень хорошо, что ты так поступаешь. Мне от этого легче».
– А рукоделие своё я тоже дарить люблю, тем, кто заслужил и кто мне нравится, – сказала Алевтина. – Вот и вам всем свяжу тёплые носки, раз в гости приехали, не забыли старуху. А тебе, Анютка, свяжу и носочки, и варежечки. Не замёрзнут твои ножки и ручки ни при каких морозах. Овечья шерсть не пропускает холод, в ней сохраняется кровное тепло овечек. Как наденешь, так вспомнишь тётю Алю. А я тут почувствую, что ты вспоминаешь, и мне будет приятно.
Пошли любимые наши грибные дожди. Здешнюю песчанистую землю промочить нелегко: вода уходит в неё, как в прорву, – но небесная лейка включилась на несколько дней и работала круглые сутки с небольшими остановками. Нам было стыдно радоваться ливням, они размывали огороды, мешали заготавливать сено; но эгоистический грибниковский восторг подавить в себе было невозможно, и мы с женой прятали его от соседей. Алевтина же Степановна успокаивала нас и поощряла: