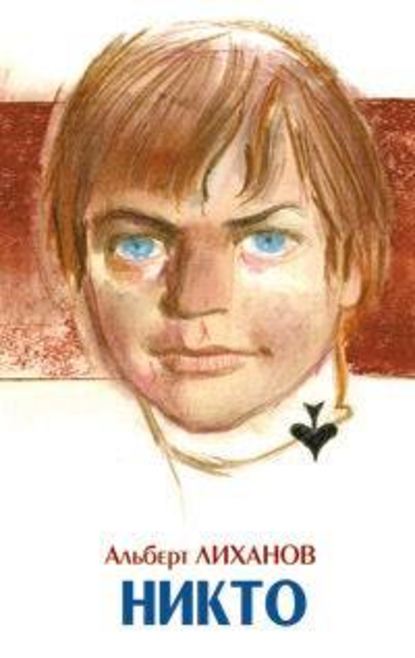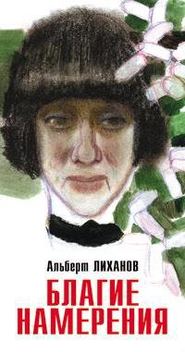По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Никто
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Так что, испытывая не напор толпы, а собственные возможности, Топор не раз и не два отвязывался от сопровождавшей его кавалькады и сам находил на мужиков, в одиночку, без свидетеля, и испытывал вновь и вновь неотразимость своего равнодушного взгляда.
Действовало безотказно!
В интернате же взрослые как бы обходили Топорика. Георгий Иванович к душеспасительным беседам с ним не стремился, видать, полагая, что у Кольчи и так все в порядке, или, напротив, считал, что не стоит близко приближаться к краю пропасти, в которую и самому недолго рухнуть. Остальные же взрослые – учителя, которых немало прошло мимо Топорика к восьмому-то классу, да и воспитательницы, все сплошь женщины, – после первых, весьма кратких, скользящих контактов постепенно ограничивали себя служебного уровня отношениями: учителя – только спрашивая уроки, воспитательницы – лишь задавая самые необходимые бытовые вопросы.
К восьмому классу Кольча обходился без взрослых вмешательств, будто заводной, вставая, потребляя пищу, читая учебники, отвечая на уроках, переговариваясь с товарищами и банально шутя, моясь в душе, сдавая грязное белье и получая стираное. Он вполне вписался в тот, похожий на часовой, интернатовский механизм, который, в общем-то, работает сам по себе, если ты не выдрючиваешься, не ломаешь себя, не разрушаешь правила, в которые тебя поместили судьба и взрослые люди, из коих видим тебе лично, Коля Топоров, только один директор Георгий Иванович – долговязый, не очень разговорчивый, но, похоже, что-то лишнее знающий человек. Может, оттого и молчаливый.
8
В интернатовцах всегда сильно развит инстинкт конуры.
Взрослая собака – особая статья, да и та, где бы ни бегала, стремится вернуться на свое место, а вот щенки – у этих есть такой инстинкт, это точно. Подрастая, они отходят от конуры, но недалеко, и если вдруг какая опасность, опрометью летят под крышу домика и лают во все горло. Смелея и становясь старше, они кружат вокруг, познавая жизнь, а устав, возвращаются домой. Конура, по сути, подобие дома, а щенок ничем не отличим от ребенка в этой тяге к крыше, в инстинкте прятаться под укрытие, устроенное кем-то, если надвигается опасность.
Угрозой для интернатовцев был весь окружающий мир, так что, выйдя из казенного, серого, но все-таки своего дома, похозяйничав на ближайших подступах к нему, дальше они удалялись с некоторой опаской, исследуя незнакомый мир системой концентрических кругов, расширяя их, но именно по окружности, центром которой была их не такая уж и худая конура, где поят, кормят, одевают, обувают, учат и спать укладывают.
Бывало, стайка интернатовцев встречалась нос к носу с чуждой ей мальчишечьей толпой, хотя такое было раз-другой, не более. Городские, как правило, могли ходить вместе или какой-нибудь школьной экскурсией, тогда это была безопасная смешанная толпа, не способная ни задираться, ни сопротивляться, или мальчишечьей командой спортивного типа – с коньками, например, под мышкой, с клюшками на плечах, но тогда, еще издали интернатовская компашка рассыпалась, атомизировалась, как модно нынче выражаются взрослые, то есть расходилась по двое, поодиночке, и выходило, что идут просто разные ребята по разным сторонам улицы, даже по дороге, и пропускала, таким образом, сквозь свою рассеянную группу возможных противников, избегая такой простой уловкой столкновения или иной какой сцепки.
Удалялись интернатовские стайки от конуры своей недалеко, на квартал-другой по кругу, далее отходить не рискуя, и потому можно утверждать, что города, не такого уж и большого, толком не знали. Да и к чему, собственно? Если какая экскурсия – их возят автобусом и, конечно же, погоняют. В театр на утренники – то же самое, да и редкими совсем стали эти утренники, пару раз в год. Все остальное было у них свое: и школа, и столовая, и кружки, и библиотека. Вот разве, если всерьез заболеешь – грозит больница, но ведь и тогда тебя туда привезут, а потом заберут обратно.
Все это говорится к тому, что когда в шести кварталах от интерната кто-то грабанул киоск, никому и в голову не пришло подумать на интернатовских. К тому же и кража была весьма странная, так что даже и дело не завели. С одной стороны, милиция по уши завалена серьезными делами, включая убийства, а следователей не хватает, с другой – кража настолько мелка, что и сама хозяйка не настаивает на расследовании. Обратилась, куда следует, скорее по инерции, даже не из страха, а просто для порядка.
Ну, конечно, она и сама виновата: согласно постановлениям властей должна была на ночь запирать стеклянный свой ящик щитами под замком, а на щиты, видите ли, у нее денег не хватало – вот и все. Любой алкаш стукнет кулаком, во что-нибудь обмотанным, в стекло и возьмет свою бутылку, как и произошло.
Произошло так: сломано стекло, прямо из-за него вынуты две бутылки – коньяк и водка, да пара шоколадок с набившим оскомину названием «Сникерс».
Мент тоже был человеком, и наименование «Сникерс» душевно травмировало его, как и всю Россию, а поэтому, когда хозяйка киоска произнесла это слово, этот дурацкий пароль дурацких реформ, он то ли зубами скрежетнул, то ли рыгнул, негодуя нутром, – только далее торговка осеклась и уж про блок каких-то там памперсов благоразумно промолчала. Так что они не фигурировали даже в проекте бумаги, которую начал было составлять милиционер. Баба же, внешне до странности смахивающая на интернатовских мамашек, перетрусила непозволительно нескромной малости своих потерь, завлекла мента в киоск, затолкала ему, не встречая особого сопротивления, во внутренние карманы шинели пару бутылок «Смирновской», а проект акта порвала своими руками, сильно извиняясь за доставленное беспокойство. Старшина, повторим, был человек и удалился с достоинством, успокоенный, что более по таким мелочам обеспокоен не станет.
Так что ни дело не возбуждалось, ни подозрения ни на кого не пало, кроме разве анонимных алкашей, которых развелось по всей державе видимо-невидимо.
До интерната не дошла даже отдаленная весть об этой мельчайшей краже, и никаких признаков, связывающих интернат с каким-то ничтожным киоском, не наблюдалось. Правда, той же ночью Топорик ходил в туалет и там задержался, но никто этого заметить не мог, ибо ребята спали по обычаю, как усталые щенки, без задних лап. Зоя же Павловна, дежурившая по графику, тихо смоталась домой, к своим собственным деткам, в нарушение всех и всяческих инструкций и просто здравого смысла: ведь случись, к примеру, в ее ответственное дежурство по спальному корпусу пожар, получила бы она на полную катушку и уж долго не увидела бы своих любимых девочек.
Но пожары не случались, и не одна Зоя Павловна уматывалась на полночи домой, не закрыв, ясное дело, на запор входную дверь – ведь она запиралась на засов исключительно изнутри, – а лишь плотно ее притворив.
Узнай, конечно, Георгий Иванович о таких номерах воспиталки, ее бы вытурили вмиг, но уж слишком доверялся он своим подручным, а те, по негласному взрослому сговору, хвалили друг дружку, отчитывались перед долговязым директором о большой воспитательной работе во внеучебное время, рисовали индивидуальные планы, украшенные розочками и ромашками, а жалобами на детей и рассуждениями вслух на педагогических советах сообща складывали единую мозаику преодолеваемых ими проблем, которых на самом деле не было, зато замалчивали или же не замечали сами того, что угрожало.
Что в этом особенного! Так часто и бывает в жизни. Истинные беды не хотят замечать, отметают их, чтоб не тревожили, а при явной опасности ведут себя по-страусиному, зарывают голову в песок, чтоб не видеть приблизившегося ужаса. И разве это только в интернате?
Словом, дети, знавшие даже самые тайные повадки своих попечителей, умело пользовались этим в своих интересах, и Коля Топоров исчез, точно рассчитав нужное ему время.
Наутро он проснулся, как обычно, по команде, поднялся, умылся, в столовой завтракал под приглядом бдительной тети Даши, а дня через четыре разделил между Макаркой, Гошманом, Гнедым и самим собой, Топориком, шоколадный батончик без обертки, и когда ребята, не особенно напирая, спросили его, уж не «Сникерсом» ли он их угощает, подразумевая следующий немой вопрос – где взял? – Кольча ответил им, что это вовсе даже «Марс», а его самого угостил добрый дядька, неведомый ему лично, которого он попросил на улице закурить.
– Бывают же добрые дядьки! – вздохнул Гошман, и остальная публика завздыхала вслед за ним, с чем Топор охотно согласился, как всегда кратко и холодно:
– Бывают.
А еще через день Макарка ликовал поутру, и простыня у него была сухой.
Кто-то попробовал хохотнуть, увидев Макарку, когда он поднялся, но Топор будто навис надо всеми, сказав свое первое слово и подразумевая Зою Павловну, которая чего-то задерживалась:
– Ну ты ее умыл, Макарий!
И тот засмеялся, и засмеялись все, но над ней, а не над Макаркой, который развязывал затянутый в бантик черный шнурок, поддерживавший расстриженный побоку малышовый памперс. Вот это было изобретение! Все ночное недержание Макарки ушло в дивный памперс, все его многолетние страхи быть снова и снова обруганным воспиталкой, весь его срам, когда совсем взрослый пацан вынужден тащить на спине мокрый матрац, а потом, всякий раз краснея от стыда – много лет! – дурно пахнущую простынь.
Макарка смеялся и почему-то радостно поглядывал на Топорика. Но этому опять же никто не придал значения, они же все-таки дружили, эти четверо пацанов, почти братьями были. И никому уж в голову не пришло выяснять, откуда у Макарова взялись младенческие памперсы.
А той пачки хватило на неделю! И потом они у Макария не переводились. Ясное дело, Зоя Павловна это волшебное превращение Макарки заметила, пару дней помолчала, вглядываясь в улыбающееся лицо хронического грешника, а потом доложила на совете воспитателен о своей убедительной победе. Кастелянша ее слова подтвердила. Точнее, она подтвердила, что Макаров больше не сдает по утрам мокрых простыней.
Поскольку энурезом страдало множество интернатских, особенно малышей, Георгий Иванович просто охотно вычеркнул из своего сознания еще одного писуна, потому что вообще-то такой факт говорил о неважной психолого-медицинской работе воспитательского персонала, и если не задевало уж как-то особо взрослых работников, то было все же неприятно.
Мало ли кто из проверяющих эдакое к словцу ввернет? Много можно всяких замечаний делать, и справедливых, что ж говорить, но они для всех характерны, можно сказать, для всей страны, но ведь цепляет не общая оценка, а шокирующая частность: вот, мол, выпускают в жизнь подростков, писающихся под себя! И что ни говори потом, на каком позитивном опыте не фиксируй сознание комиссии, все побоку, потому как писающийся семиклассник, а того пуще – выпускник, это вроде ярлыка на товаре, и если товар дешев, такова цена и продавцу.
Про памперсы они не узнали.
9
К концу восьмого класса Топорика корежить стало чуть не каждый день. И тогда – дело было весной, в мае, совсем еще светлым вечером, – переступив дорогу тете Даше, он пошел за ограду рядом с ней.
Лоб тети Даши покрылся потным бисером, груз, как всегда, склонял ее к земле, и Коля потянул у нее одну из сумок, желая помочь. Она отдала свою ношу не с первого раза, не поняв вначале, что ей хотят помочь, а когда поняла, вздохнула облегченно, сбавила торопливый шаг, но все равно была недовольна, что к ней прицепился, хоть и выделяемый почему-то ею, но, видать, нежелательный интернатовец.
Они дошли до утла, и только тогда Топорик сладил с собой тоже. Он волновался как никогда, долго готовился к этому вопросу и даже заучивал слова, но вышло у него угловато и неточно. Он спросил:
– Тетя Даша, вы знаете, откуда я? Кто я такой?
Она даже притормозила:
– Ишь, чо удумал?
– А чего? – не понял он.
Повариха сделала несколько медленных шагов, остановилась, разглядывая его.
– Вы ведь чего-то знаете, – сказал он, в упор разглядывая ее, – вы же мне давали добавку.
– Фу ты, Господи! – неуверенно улыбнулась тетя Даша. – Да разве же я тебе одному добавку даю? Всем, кто не наелся. А тебе, – она замялась и брякнула, – как ветерану.
– Ветерану?
– Ну да! Ты же в интернате нашем ветеран, вроде меня. Почти всю жизнь. И ничего я про тебя не знаю. Привезли тебя из Дома ребенка, три годика тебе было. Многих оттуда привозят.
Она двинулась дальше, придя, видать, в себя, поняв причину этих странных ее проводов.
– Да ты у Георгия-то Ивановича спрашивал? Все документы у него.
Спрашивал ли он? Топорик усмехнулся, перехватывая тяжеленную сумку поварихи. Да директор сам ему говорил. В начале восьмого класса позвал к себе – пора было оформлять паспорт, его теперь в четырнадцать лет дают, а для паспорта требуется метрика и все такое – и протянул ему тонюсенькую папочку. На, дескать, посмотри свои дела. Когда Коля раскрыл корочку, слева увидел бумажный кармашек и в нем большую цветную фотку, с которой пучеглазо таращился незнакомый карапуз – это был он в три года, выпускная, так сказать, фотография от Дома ребенка.
В кармашке на противоположной стороне лежало, сложенное вдвое, свидетельство о рождении и его характеристика, опять же из Дома ребенка. Он и характеристику, ясное дело, прочитал, какие-то непонятные диагнозы, а потом в две строчки характеристика, из которой он запомнил слова «спокоен» и «замкнут». В свидетельстве о рождении увидел запись про одну только мать: Топорова Мария Ивановна. В строчке, которая отводилась под имя отца, был чернильный прочерк: фиолетовая жирная черта.
Ничего другого Топорик и не ждал, но что надо спросить, не знал и только вопросительно посмотрел на директора. Тот глядел в окно, постукивал неслышно карандашиком по ладони и так вот, не глядя на Колю, но, видать, точно зная, что требуется ответить на несказанный вопрос, ответил: