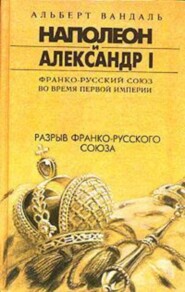По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Второй брак Наполеона. Упадок союза
Автор
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он возобновил и довел до конца начатый накануне разговор, В этот день, как и накануне, он, по обыкновению, говорил очень растянуто, много, несвязно, но иногда у него вырывались яркие фразы, которые всесторонне освещали высказываемые им мысли. На этот раз, вместо того, чтобы морочить своего собеседника, он, наоборот, счел необходимым играть с открытыми картами, решив, что, в данном случае, высшее искусство – быть дерзко откровенным. Затрагивая поочередно все вопросы, он дал неожиданные объяснения о точке зрения, с какой он до сих пор рассматривал и обсуждал каждый вопрос, и дал понять, правда, с некоторыми замалчиваниями, в каком положении его политика относительно России.
Нечего скрывать, – сказал он, что между обоими дворами существует некоторая холодность в отношениях, что, хотя его личные чувства к императору Александру нисколько не изменились, но между ними нет уже ни прежней дружбы, ни прежнего доверия. Причиной этому Польша. И, принимаясь снова за этот бесконечный вопрос, Наполеон шаг за шагом разобрал его с самого начала, т. е. с момента его возникновения, все время ставя в вину России то, что она своей умышленной медлительностью в 1809 г. допустила его возникновение. Он говорил, что тогда он, помимо своей воли, должен был подчиниться необходимости увеличить герцогство. Что же касается мысли пересоздать герцогство в королевство, то это никогда не входило в расчеты его политики, но что он никогда не скажет об этом в выражениях, “несовместимых с его честью”. В этом отношении не следует поддерживать никаких иллюзий. Он не подпишет договора, который, к тому же, сам по себе “ничего не докажет”.
Он говорил далее, что желаемого обеспечения следует искать в общей сложности, его поступков, в здравой оценке его характера. Предполагать в нем склонность уподобляться классическим завоевателям, думать, что он склонен к бесконечным войнам, – значит, совершенно не знать его. У него одна цель: принудить Англию к миру, и он никогда не сойдет с этого пути, чтобы гоняться за далекими романтическими приключениями. Что ему делать в снегах Польши или в украинских равнинах? “Это может прельщать Александра, но, что касается его, это совсем не в его духе. Война, близкая его сердцу, – это война на морях, все его мечты направлены к тому, чтобы создать внушительный флот. Поэтому Его Величество русский император может быть спокоен; он может безопасно двинуть свои войска против Турции, может отменить приказ о новом бесполезном рекрутском наборе и тем избегнуть крупных расходов. Он сам не производил в этом году рекрутского набора”. Сколько у него войск в Германии? – продолжал он далее. – Шестьдесят батальонов маршала Даву. Разве войну с Россией ведут с шестьюдесятью батальонами? Если он придвинул эти войска к Северу, если поставил их между Ганновером и Гамбургом, то единственно с целью установить надзор за Везером и Эльбой. Впрочем, он согласился, что поляки возводят ретраншементы перед Варшавой, – он сам первый сказал об этих работах. Но разве не русские первые подали пример поспешностью, с какой они укреплялись вблизи своих границ? Он ничего не может сказать против этого – каждый хозяин в своем доме; только, по его мнению, было вполне естественно, что и варшавяне, видя, что их соседи принимают известные меры, делали то же самое и на своей территории. Он не может помешать им быть настороже, но не имеет желания делать их оружием нападения. Его разговор с Чернышевым служил разъяснением тех слов, которые он в это же самое время приказал передать в Петербург герцогу Виченцы. “Я не отрицаю, что Швеция и Польша, в случае войны с Россией, будут служить орудием против нее, но эта война никогда не будет делом моих рук”.
По поводу Швеции он снова подтвердил, что не оказывал ни малейшего содействия избранию Бернадота, – что только с большой натяжкой было согласно с истиной. Он указал на те стороны, которые емy, действительно, не нравились в этом деле, а именно; что в наследники престола был избран “один из его маршалов, не состоящий с ним в родстве. Это вскружило головы остальным, которые теперь воображают, что имеют право на короны”. Затем он высказал, что предпочел бы, чтобы в Швеции не было никаких перемен, но при условии, что она вступит в континентальную систему и будет ей верна. Он признавался, что если бы ему предстояло высказаться о желательной политике на Севере, он высказался бы в пользу скандинавских королевств. Что же касается Пруссии, то весь интерес его к ней сводится к требованию строгого применения блокады. Впрочем, по его словам, в этом отношении он был ею крайне доволен и русские напрасно доверяют свои тайны потсдамскому двору, ибо этот, двор, из страха перед ним, все ему передает. Перейдя затем к Австрии, он сказал несколько слов о партии Разумовского, об антифранцузских происках, о своих жалобах, и, не останавливаясь на них, прибавил, “что русскому императору не трудно было бы, не огорчая его уклончивыми ответами, исполнить его просьбы”. В конце концов он почти совсем раскрыл свои отношения с венским двором, и впервые после семи месяцев молчания заговорил о деликатном вопросе – о брачном союзе, т. е. исходной точке нынешних отношений с венским двором. Разве в этом случае он не обратился прежде всего к России? – сказал он. Только несогласие императрицы-матери, которое было причиной неоднократных отсрочек, вынудило его обратиться к Австрии. С Австрией же все было покончено “в несколько часов”, благодаря тому, что он нашел в князе Шварценберге “ловкого человека”, умеющего пользоваться случаем. Тем не менее, – говорил он, – он сожалеет о несостоявшемся между домами Франции и России семейном союзе. Он с видимым удовольствием начал распространяться об этом предмете, но, вдруг спохватившись, что в его сожалении ничего не было лестного для Марии-Луизы, он продолжал: “Я не сожалею о случившемся. Я доволен моей женой, она мне нравится. Вы видели ее. Но так как у государей политика должна входить во все дела, я должен сознаться, что ваш брак был бы для меня более подходящим”.
После брака, продолжил он, Австрия была бы к его услугам, если бы только он захотел этого. Из ненависти к русским, завидуя им, недовольная их успехами на Дунае, она старалась расположить его в свою пользу и Приобрести его дружбу. Он намекнул на неоднократно деланные ему предложения, и имел полное основание похвастаться, что отклонил их. Он не заключил, продолжал он, политического союза с Австрией, да и не желает этого, ибо прекрасно сознает, что причинил Австрии слишком много страданий, чтобы рассчитывать, что она когда-либо сделается его верной союзницей. Он пошел дальше. Выдавая до некоторой степени тайну своих последних разговоров с Меттернихом, во время которых он старался только обеспечить себе нейтралитет Австрии, он сказал: “Возможно, что Франция объявит войну России, но она никогда не поведет ее совместно с Австрией. Нужно прибавить, что он и не думал скрывать, что его цель – создать между древними императорскими дворами антагонизм интересов и поддерживать между ними постоянные подозрения, что он предоставил царю княжества не столько по дружбе, сколько из расчета, не ради любви к своему союзнику, но из желания поссорить его с Австрией, что та же причина заставляет его быть уступчивым и поддерживать требования России на левом берегу Дуная.
Таким образом, по его словам, еще и теперь только от Александра зависит, сможет ли он пожать плоды союза и сделать свое царствование самым славным, самым блестящим, какое когда-либо знавала Россия – конечно, при условии, если царь останется верен союзу. Разве дать России Финляндию и русло Дуная, да еще надежду на морской мир в ближайшем будущем, – не значит исполнить желаний ее народа, не значит осуществить его самые смелые мечты, “закончить ее роман?”. И все это вполне возможно, если из остановятся перед строгими мерами, если оградят себя от всякого рода контрабанды!.. По своему географическому положению Россия рождена, чтобы быть другом Франции. Если она останется таковым в впредь, ее наградой будет расширение ее владений и выгоды, которые воспоследуют для нее из ее содействия близкому уже морскому миру, который впредь не будет зависеть от капризов и деспотизма нации, находящейся, благодаря принятым за последнее время мерам накануне гибели. В противном случае Россия опять станет в положение, в котором у нее останутся только надежды. Он знает, что и он может стать в такое же положение, но, во всяком случае, достоверно то, что, если между их империями вспыхнет война, она неизбежно принесет вред и победителю, и побежденному”.
Впрочем, – сказал он, – исходя из того, “что русский император и его министр – первые и единственные люди, которые поняли его, он уверен, что Его Величество примет во внимание его просьбу и все, что с ней связано, но, что для этого безусловно необходимо отказаться от всех полумер, которые могут затянуть, может быть, на год, а то и на два, неопределенное положение обеих империй и, без coмнения, доведут их до ссоры”. Стало быть, прежде всего необходимо, чтобы император Александр, не пускал в свои гавани те шестьсот судов, на которых сложены остатки британского богатства; чтобы он снова выкинул в море то, что оно выбросило к нему на берег после громадного кораблекрушения, а то – и это еще лучше – он может, впустив их, завладеть ими и объявить их своей законной добычей. Эта суровая мера, обогатив его казну, довершит финансовый крах англичан, за этим вскоре последует мир, и цель союза будет доступна. Вот тема, которую Наполеон развивал в двадцати различных видах. Несмотря на тысячи отклонений в сторону, он постоянно возвращался к ней самыми неожиданными подходами, всякий раз приводя новые факты, новые доказательства и соображения и, наконец, в заключение разговора, передал в руки Чернышева письмо императору Александру, составленное в следующих выражениях:
“Мой Брат, Ваше Императорское Величество, прислали мне чудных лошадей, за что спешу принести Вам мою благодарность”.
“Англичане сильно страдают от присоединения Голландии и от моего приказания, занять порты Мекленбурга и Пруссии. В Лондоне каждую неделю происходят банкротства, приводя Сити в замешательство. Фабрики стоят без работы; магазины завалены товаром. Я только что приказал забрать во Франкфурте и Швейцарии громадное количество английских и колониальных товаров. Шестьсот английских судов, скитавшихся в Балтийском море, не были приняты ни в Мекленбурге, ни в Пруссии и направились к владениям Вашего Величества. Если вы примете их, война затянется; если же задержите и конфискуете их груз, – тогда ли, когда суда будут в ваших гаванях, или же когда товары будут уже свезены на берег, – удар нанесенный Англии, будет ужасен. Все эти товары принадлежат англичанам. Мир или продолжение войны в руках Вашего Величества. Вы желаете и должны желать мира. Ваше Величество может быть уверенным, что мы добьемся мира, если вы конфискуете эти шестьсот судов и их груз. Какими бы бумагами они ни были снабжены, под каким бы именем ни скрывались – французским, немецким, испанским, датским, русским, – Ваше Величество может быть уверен, что они принадлежат англичанам”.
“Граф Чернышев, который возвращается к Вашему Величеству, отлично держал себя здесь”.
“Мне остается только просить Ваше Величество всегда рассчитывать на мои неизменные к вам чувства, которых не могут поколебать ни время, ни события”.
Кроме изложенной в этом письме просьбы, Чернышеву поручено было передать на словах еще другую, которую Коленкуру предписывалось поддерживать всеми силами. Дело шло о Швеции. За несколько дней до этого недовольство Наполеона Швецией снова усилилось. Дело в том, что стокгольмский кабинет только делал вид, что желает исполнять принятые на себя обязательства. Он все время изобретал предлоги не прерывать сношения с англичанами и просил отсрочки. Правда, Наполеон надеялся, что Бернадот, по приезде в Стокгольм, сдержит слово и заставит объявить войну англичанам, но, вместе с тем, чтобы сломить сопротивление Швеции, он искал и другие средства воздействия на нее. Он сделал посланнику Швеции жестокую сцену. Его выкрики доносились до соседних комнат, так что дежурные офицеры, находившиеся рядом с кабинетом императора, сочли нужным из скромности удалиться. “Швеция, – говорил он барону Лагельбиельке, сделала мне в этом году зла больше, чем пять коалиций, с которыми я справился. Она одна, что ли хочет служить складом, откуда все английские и колониальные товары могут найти свободный доступ на континент? – Ну, нет! Если бы даже появился новый Карл XII и стал лагерем на высотах Монмартра, он не добился бы этого от меня.[625 - См. Armand Lefebvre Histoire des cadiners de Europe pendant le conculat et I Empire V, 73 – 75, по архивам министерства иностранных дел. Шведская версия разговора по донесению Лагельбиельке была опубликована стокгольмским правительством в 1813 г.] Его гнев был непритворным, но, прежде всего, тут был расчет. Император высказывал свою угрозу в такой резкой форме, потому, что не был в состоянии нанести Швеции удара, так как, в силу своей отдаленности и своего почти островного положения она была недоступна для нас, вне нашего нападения. Но ведь есть косвенный путь добраться до нее. Ведь наш союзник, владения которого прилегают к Швеции, может оказать на ее решения спасительное давление. Одно слово царя, в котором Швеция почувствовала бы возможность вооруженного вмешательства, одно данное царем предостережение, за которым бы можно было предвидеть вторжение русских войск, сделало бы гораздо больше, чем все свирепые слова Франции. Слово царя придало бы силу и значение словам Наполеона. Наполеон мог только свирепствовать, но важно было не это: вся суть была в том, чтобы Россия стала в угрожающую позу. Поэтому император решил просить Александра, чтобы он обратился к правительству короля Карла XIII с строгим внушением, чтобы он напомнил ему о его обязанностях, потребовал бы войны с англичанами а, главным образом, конфискации сваленных в доках Готенбурга колониальных товаров. Возвращаясь, таким образом, к намеченному в Тильзите плану, Наполеон старается воспользоваться Россией для того, чтобы оказать давление на весь Север, чтобы возбранить англичанам туда доступ, закрыть их торговле последние места сбыта и быстро довести их до унизительной капитуляции, “В настоящее время, писал Шампаньи Коленкуру, это единственный предмет его политики. Успех его последних мер заставляет его придавать громадную цену тому, чтобы они всюду применялись, и, притом, настойчиво и строго, до тех пор, пока, они не приведут к желаемой цели – миру”.[626 - Депеша от 23 октября 1810 г.]
II
Есть основание думать, что наши просьбы не повлияли на императора Александра в желаемом смысле и не изменили его дальнейшего поведения. Мнение его уже установилось, и решения были приняты. Он признавал обязательства, вытекавшие из заключенного в Тильзите договора и из войны с Англией, т. е. изгнание кораблей бесспорно английского происхождения; он не спорил против этого; более или менее добросовестно исполнял эти постановления, но и cлышать не хотел о том, чтобы подчиниться мерам, которые Наполеон опубликовал в простом декрете о нейтральных судах и не признавал за ним права предписывать законы всей Европе.
Сверх того, хотя Наполеон и был прав, утверждая, что почти все нейтральные суда и плавали за счет Англии и что единственным средством добраться до врага было нанести ему удар в лице его самых полезных сотрудников, но своими поступками он ослабил значение своих доводов. Считая себя вправе запрещать другим поддерживать даже косвенные торговые сношения с Англией, он, в интересах французского народа, не лишал себя возможности заключать непосредственно с нею некоторые торговые сделки. Французские суда, снабженные особыми разрешениями, возили на Британские острова продукты нашего земледелия и нашей промышленности. В обмен они привозили некоторые колониальные товары, без которых Франции трудно было обойтись. Недавно одно из судов с таким разрешением было в русском порту. Таким образом, русское правительство получило доказательство существования разрешенной Наполеоном противозаконной торговли и накрыло императора в нарушении его собственных постановлений.
Правда, Наполеон, мог ответить, что он никогда не запрещал своим северным союзникам пользоваться особыми разрешениями, что он даже советовал это, что дозволенная, таким образом, торговля, завися исключительно от доброй воли государей, могла быть использована ими, как средство помочь их подданным пережить трудное время, не облегчая в значительной степени тяжелого положения врага, тогда, как наплыв нейтральных судов в русские порты, в том виде, как это подготовлялось, сводило почти к нулю результаты блокады. Правда и то, что, когда в 1807 г. император Александр сразу порвал прямые сношения с Англией и закрыл произведениям России главный их рынок, он наложил на своих подданных не менее неожиданную и гораздо более тяжелую жертву, чем дополнительные строгие меры, о которых просили его теперь. Но то было в 1807 г. Тогда он горел желанием угодить Наполеону, верил в благотворное влияние союза и ждал от него сказочных результатов. Не будучи, подобно другим государям, в тисках Наполеона, он подчинился его нравственному авторитету. В конце 1810 г., когда он разочаровался в союзе, когда познал, какие тернии и опасности таит он в себе; когда он готов был отказаться от некоторой части приобретенных благодаря союзу выгод и даже собирался наградить Австрию частью княжеств, он уже не хотел, ради чужого ему интереса, усугублять страдания своего народа и запрещать ему вести торговлю с Англией. Сверх того, теперь он не хотел гибели англичан, видя в их сопротивлении последнюю гарантию против окончательного порабощения Европы, и его отказ, хотя он и объяснял его причинами частного и экономического характера, обусловливался, главным образом, соображениями высшей политики. Императоры разошлись в способах действий потому, что преследовали разные цели. Их разномыслие по вопросу о блокаде только вызвало наружу давно существующий антагонизм. В истории их ссоры разлад по поводу блокады являлся следствием, а не причиной их дурных отношений; он был результатом давно прекратившейся между ними дружбы.
Румянцев еще раньше сказал Коленкуру, что принятие в России новых тарифов будет делом неудобоисполнимым и пагубным. “Император, – сказал он, – готов всеми способами вредить Англии, но не следует вредить себе больше, чем врагу”.[627 - Коленкур Шампаньи, 8 октября 1810 г.] После наших первых просьб по вопросу о нейтральных судах, Александр имел объяснение с посланником в двух продолжительных беседах. Он говорил спокойно, cдержанно, любезно, но его слова были настолько определенны, что не оставалось ни малейшего сомнения насчет его отрицательных намерений. В продолжение трех лет, – говорил он, – он всегда делал больше, чем требовалось обязательствами, возложенными на него договорами и дружбой к императору. “Поступки, слова, письменные акты – все доказывает, как он старался сделать все, что могло быть полезно и даже просто приятно его союзнику”[628 - Коленкур Шампаньи, 5 октября 1810 г.]. Он более, чем кто другой, наносил вред англичанам, он и теперь готов вредить им, но желает сам быть судьей тех способов, которые позволяют ему выполнить его намерения. Рекомендованные ему меры могут быть хороши и действительны в других государствах, но в России они не отвечают ее интересам и нуждам. Русские не могут подчиняться правилам, выработанным и приноровленным для других: это причинит им непосильные тяготы. “Мы не можем, – сказал царь Коленкуру, – шить себе одежду на ваш рост”.[629 - Id, 9 ноября.] По словам царя, к нейтральным судам в русских портах относятся с недоверием. Их подлинная национальность и происхождение их груза проверяется осмотром судовых документов. Установлен строгий контроль, он поручен особым чиновникам, назначенным на эту должность за их безупречную честность и строгое отношение к своим обязанностям. Он оставил за собой право лично пересматривать документы и выносить окончательное решение в каждом отдельном случае. Он готов отнестись к этому делу с удвоенным вниманием, но не может допустить, чтобы между нейтральными судами не было известного числа невинных, которых нетрудно смешать с виновными. Он не хочет подводить всех под одну мерку и не закроет своих гаваней всем торговым судам, которые покажутся в открытом море. В ответ на привезенное Чернышевым письмо императора он благодарил Наполеона за письмо и в сотый раз повторил свои обычные уверения. “Все, что Ваше Величество высказали мне о своей политике и о своих личных чувствах ко мне, – писал он, – доставило мне громадное удовольствием, тем более, что эти чувства вполне соответствуют чувствам, которые я питаю к Вашему Величеству и которые неизменны. Подобно вам, я ничего так не желаю, как продления союза, связующего обоих императоров и обеспечивающего спокойствие Европы. Вы, Ваше Величество, также могли убедиться, что и я, с своей стороны, не упускал случая открыто заявить о существующем между нами самом тесном единении”. Что же касается практических способов достигнуть цели этого единения, то Александр только вскользь упомянул о возникшем между ними спорном вопросе. Он осторожно дал заметить, что устанавливает известное различие между английскими и нейтральными судами, и сделал вид, что понял, будто Наполеон пишет ему исключительно об английских судах. Далее он безусловно отрицал прибытие в его гавани вышеуказанного торгового флота. “Меры против английской торговли, продолжал он, соблюдаются во всей строгости; множество произведенных в моих гаванях конфискаций доказывают это. За это время едва ли прибыло шестьдесят судов разных наций. Нельзя рассчитывать на прибытие новых судов, так как вход в некоторые гавани уже покрылся льдом. Во всяком случае, число этих судов может быть только самое ничтожное. Те же строгие меры будут применены и к ним. Так что те шестьсот судов, о которых пишет мне Ваше Величество, по всей вероятности, вернутся в Англию”[630 - Письмо, опубликованное Татищевым, стр. 541 —543.]. В сущности, нельзя было доказать, что нагруженные английскими товарами нейтральные суда все гуртом ломились в русские гавани. Обыкновенно они собирались в Готенбурге, который с каждым днем все более делался гаванью для торговых судов, где они запасались всем необходимым. Здесь была их главная квартира. Отсюда они направлялись поодиночке или небольшими партиями к берегам соседней империи, где находили радушный прием. Кроме того, часть сложенных в Готенбурге грузов увозилась внутрь Скандинавского полуострова и направлялась к северу до Ботнического залива. По переправе через это внутреннее море, колониальные товары ввозились в Россию, где и сбывались, или же спускались к югу и наводняли Германию. Таким образом, Россия, подобно фильтру, изо дня в день, незаметным образом пропускала через свои владения запрещенные товары. Закрытие шведских гаваней могло бы пресечь зло в самом корне. Оно нанесло бы удар в том месте, откуда в длинный обход отправлялись товары не только для России, но и для Европы. Сделать это было тем более важно, что, по словам царя, он не в силах запретить совершенно их ввоз на свою собственную территорию. Таким образом, вопрос касался Швеции, по меньшей мере, в той же степени, как и России, и Александр сам обратил на это обстоятельство наше внимание. За несколько недель до этого, он сказал Коленкуру: “Настоящее складочное место английских товаров, главный пункт контрабанды – Готенбург… Его и нужно закрыть. Если с приездом принца Понте-Корво у Англии будет отнято это место сбыта, этим будет нанесен удар, который, действительно, даст себя почувствовать в Сити Лондона”.[631 - Коленкур Шампаньи, 9 ноября 1810 г.]
Когда Александр давал этот совет, он и не подозревал, что Наполеон в скором времени поймает его на слове и обратится к нему с просьбой посодействовать закрытию шведских гаваней. Узнав о втором пункте нашей просьбы, Александр был в большом затруднении. Он вовсе не хотел натравлять на англичан лишнего врага: но, главным образом, не хотел вредить самим шведам, так как его не покидала мысль не только отвратить их вражду, но и привлечь их на свою сторону. Избрание Бернадота не создавало препятствий его плану, напротив, оно могло способствовать его осуществлению.
Прибыв в середине октября в Стокгольм, новый наследник престола занял положение, которое могло вполне успокоить наших врагов. Он объявил войну англичанам только для виду, так как за этой демонстрацией до сих пор не последовало ни одного враждебного поступка, ни одной конфискации. С первых же встреч с русским посланником, Бернадот был на редкость любезен и милостив с ним. Он простер своe внимание до того, что написал царю письмо, в котором в самых изысканных выражениях высказал желание жить в дружбе с соседями. Можно ли было на основании такой предупредительности вывести заключение, что бывший маршал не был “человеком, преданным императору Наполеону”.[632 - Донесение Чернышева. Sociеtе impеriale d' histoire de Itussie, XXI, 45.] Восстановив в памяти свои личные впечатления, Чернышев высказал это как непреложную истину. Во время своего пребывания в Вене и во Франции, молодой офицер имел и случай сблизиться с принцем Понте-Корво, и достаточно времени изучить его. Он почуял в нем человека недовольного, завистливого, одного из тех людей, которых и благодеяния, и упреки озлобляют в одинаковой степени. Исходя из этого, он считал возможным использовать во вред Наполеону драгоценный качества этого желчного, злопамятного человека, не говоря уже о тех вполне законных причинах, которые препятствовали Швеции всецело перейти на сторону Франции. Ободренный этими сведениями, Александр с некоторых пор упорно предавался самым смелым надеждам. Каков был бы удар, если бы ему удалось похитить у Наполеона одного из его свитских генералов и превратить в агента России имперского маршала, назначенного главнокомандующим целым народом.
Но как поверить в чувства наследного принца, как поддержать его намерения? Как подойти к нему и, не возбуждая подозрения, осторожно поговорить с ним? Просьба Наполеона давала средство к этому. Опираясь на наши просьбы, царь мог, под предлогом придать большой вес предостережениям России, под маской агента, посланного в Стокгольм со специальным поручением, отправить к принцу доверенное лицо. В глазах Франции это будет агент, которому поручено сделать желаемое Наполеоном внушение, в действительности же он должен говорить как раз противоположное. Вместо угроз он должен ободрить и не скупиться на успокоительные слова; его истинная задача – войти в сношения с Бернадотом и вызвать его на более откровенные разговоры.
Благодаря давнему знакомству с принцем, Чернышев мог лучше всякого другого выполнить это щекотливое поручение. Ему было поручено доставить в Париж ответ Александра на императорское письмо от 23 октября, но при этом он получил приказание ехать через Стокгольм. В письме к императору Александр объяснял витиеватую фразу Чернышева, которая дает понятие, до какой степени он обладал искусством скрывать свои мысли и намерения за безупречными по искренности и правдивости фразами. “Мне кажется, что полковник Чернышев сумел снискать благосклонность Вашего Величества, почему я и избрал его для передачи этого письма, – писал он. – Я приказал ему ехать через Стокгольм, дабы объявить шведскому правительству о желании Вашего Величества, чтобы я поддержал шаги, сделанные вами с целью понудить Швецию порвать с Англией, хотя мною уже получено известие, что это сделано”. Эта фраза и по духу, и по букве вполне отвечала истине. Да, Чернышеву поручено сказать, как страстно, как упорно желает Наполеон, чтобы Россия обратилась к Швеции с протестом и угрозой, только, согласно инструкции, Чернышев тотчас же должен прибавить, что Александр решил не обращать внимания на это желание, что он предоставляет Швеции вполне располагать своими решениями, что она может избрать относительно Англии то поведение, какое ей будет угодно, и может не принимать участия в морской войне. Одним словом, истинная цель поездки а Стокгольм состояла в том, чтобы дать понять, что показную ее задачу никоим образом не следует выполнять. Выдавая, под предлогом исполнения желаний императора его намерения Швеции, Александр надеялся создать себе право на ее благодарность и положить начало примирению, а, может, и прочной дружбе с нею. Таким образом, императоры по-старому стараются тайком оспаривать один у другого позиции, которые дадут им возможность наблюдать друг за другом и успешно вести борьбу. Как только в этой непрерывной игре Наполеон делает какой-нибудь ход, Александр тотчас же протягивает руку, чтобы использовать его во вред своему противнику. Всячески добиваясь склонить на свою сторону Польшу и Австрию, он старается завладеть и Швецией; но в этот раз, далеко шагнув вперед в двуличии, он прикрывает свои происки личиной уступчивости, желанием угодить императору. Просьба Франции об услуге дает ему случай не только не оказать ей услуги, но даже повредить ей.
Чернышев уехал в Стокгольм в последних числах ноября. Чувствуя, что выступает на первые роли, что значение его возрастает, в восторге от поручения, отвечавшего его вкусам и талантам, он бодро пустился в путь и храбро боролся с трудностями, которые создавали ему во время его зимнего путешествия и природа, и дурное время года. Во время переправы через залив ему пришлось пробираться между Аландскими островами “частью пешком, по чрезвычайно тонкому льду, частью на лодке”.[633 - Из донесений Чернышева, Sociеtе impеriale d' histoire de Russie, vol. cit. 22 a 48 Te же донесения были опубликованы Арвидом Анфельдом в Revue historique, 1888, II.] Буря задержала его на три дня на пустынном островке, вследствие чего он мог приехать в Стокгольм только ночью с 1 на 2 декабря, страшно измученный и полузамерзший. Оказанный ему в шведской столице прием вернул ему силы. Тотчас по приезде его предупредили, что наследный принц будет очень рад повидаться с ним. Следовало только, чтобы молодой путешественник, по правилам этикета, был сначала представлен Карлу XIII. Чернышев исполнил эту формальность, и тотчас же после аудиенции у короля русский посланник, генерал Сухтелен, проводил его к Бернадоту. Шведский министр иностранных дел Энгерстрем присутствовал при свидании в качестве четвертого свидетеля. Увидев Чернышева, Бернадот тотчас же пошел ему навстречу, бросился ему на шею в буквальном смысле этого слова и несколько раз крепко облобызал. Благодаря присутствию обоих министров, сцена свидания ограничивалась некоторое время этой пантомимой и обычными уверениями в дружбе, но, “когда принц отошел немного от присутствующих”, Чернышев, улучив минуту, намекнул ему, что у него есть к нему поручение, которое должно устранить нежелательное недоразумение по поводу личных чувств русского императора, и что он просит Его Высочество соблаговолить дать ему частную аудиенцию. Крайне заинтересованный, Бернадот назначил свидание на другой день, в воскресенье, после проповеди. (С тек пор, как Бернадот вступил на Шведскую землю, он сделался усердным лютеранином и считал долгом добросовестно соблюдать все обряди религии, которых крепко держались его будущие подданные). Но, с ужасом думай о России, он, не откладывая до завтра, решился осведомить Чернышева со своими взглядами на политику, которой хотел держаться по отношению к ней. Он ничего так не желает, – сказал он, – как поддерживать с Россией наилучшие отношения и никогда не делал ей ни малейших затруднений. “Его Императорское Величество может двинуть свои войска на Восток, на Юг, на Запад”, – Швеция будет спокойна. Швеция отлично понимает, что ее безопасность зависит только от соседнего государства. Она может забыть весь свет, но не Россию. Все это было сказано второпях, полушепотом, но горячим и убежденным тоном. Затем, подойдя к присутствующим, принц “говорил только о безразличных вещах” В воскресенье после проповеди, когда они свиделись без свидетелей в кабинете принца, тот первый заговорил вполне откровенно. Он сказал, что будет говорить, “как с самим собой”. Правда ли, – спросил он, что Россия хочет принудить Швецию к известным решениям? Если это так, то Россия более, чем достигла этого, так как только страх ее вмешательства привел к объявлению войны англичанам – к этому гибельному для страны поступку. Конечно, справедливость требует, чтобы и Швеция “внесла свою лепту в дела континента”. Но отчего же не принять соображение ее положения и ее средств? Более восьми, или десяти месяцев она, не в силах обойтись без доставляемых ей Великобританией колониальных товаров, что же касается конфискации уже выгруженных и сложенных в амбарах товаров, то об этом нечего и думать. Этого не допускают ни уважение к частной собственности, ни законы Швеции. К тому же, Бернадот крайне скептически, относился к мысли воздействовать на Англию применением этих строгих мер. По его мнению, тормоз к установлению всеобщего мира был не в Англии, и, не произнося пока имени Наполеона, а пользуясь только перефразировкой, он дал понять, что главное препятствие к миру заключается “в честолюбии и эгоизме французского правительства”.
Из последней фразы Бернадота, полной задних мыслей, Чернышев понял, что может говорить безбоязненно и что его секретные сообщения встретят радушный прием. В своем донесении царю он говорит: “Подметив истинные чувства принца к Франции и видя, что он по-прежнему откровенен со мной, я сказал ему, что император Наполеон действительно обращался к Вашему Величеству с просьбой поддержать предъявленные им к Швеции требования, но, ввиду того, что со времени Фридрихсгамского мира требования и интересы политики Вашего Величества вынуждают вас желать внутреннего процветания Швеции и сохранения существующих между Россией и Швецией дружественных отношений, вы никоим образом не желаете оказывать давление на волю и решения Швеции, что в этом случае, как и во всех других, она может руководствоваться только своими собственными интересами, без всякой помехи с вашей стороны”.
Едва были произнесены эти слова, как на лице Бернадота явилось выражение величайшего удовольствия, почти восторга; как будто с него свалился тяжкий груз. Он сказал, что теперь ему возвращен покой. Как бы в ответ на полную откровенность Чернышева, он, без всяких околичностей, заговорил о неприятном и тяжелом положении, в какое ставили его французские требования. Разве такого обхождения должен был ожидать он “от государства, которому своей тридцатилетней службой приносил пользу, а, может быть, и честь, разве мог он ожидать чего-нибудь подобного от императора Наполеона, которого изо всех сил поддерживал в известные времена и неоднократно выручал из неприятных и затруднительных положений?” Заговорив на эту тему, он уже не сходил с нее, – и дал заметить и свою беспредельную преданность шведам, и дурные чувства, которые таил в душе против старого товарища по оружию, вcя вина которого состояла в том, что он так страшно обогнал его на пути карьеры, начатой ими в одно время. В этом отношении одна фраза всецело выдала его. “К несчастью, – сказал он, – судьбе угодно было, чтобы из товарища я сделался подданным”. Но, прибавил он, хотя он и простой маршал, он покраснел бы от стыда, если бы ему пришлось рабски подчиняться всем причудам деспотического характера; тем более он не должен переносить “подобных нагоняев” теперь, когда доблестная нация оказала ему честь, избрав его своим главой. Не довольно ли и того, что он привез в подарок шведам разорительную войну. Далее он говорил, что его мучит мысль, что он так дурно отплатил Швеции за здоровье, что эта мысль составляет несчастье его жизни; что он никогда не утешится. Его высокопарные и пылкие выражения, свойственные южанам оживленные жестикуляции, напыщенная речь, до гасконского произношения включительно, от которого он никогда не мог отделаться – все это придавало еще более пикантности странным признаниям, которые с наслаждением выслушивал Чернышев.
Видя, что Бернадот заговорил без удержу, Чернышев не прерывал его и только изредка вставлял свое слово с целью добиться от него еще более важного признания. Вскоре, как бы желая отблагодарить императора Александра за благосклонно-сочувственное отношение к его тяжелому положению, в особенности за то, что тот входит в его положение, и, сильнее подчеркивая сказанное им накануне, Бернадот сказал, что от своего имени и от имени шведского правительства обязуется честным словом: “ни при каких обстоятельствах не предпринимать ничего такого, что мало-мальски могло бы причинить неудовольствие” Его Величеству, императору, всей России. Он сказал, что не примет участия ни в чьих распрях, никогда не будет действовать заодно ни с Польшей, ни с Турцией, даже тогда, когда инициатива враждебных действий будет исходить от Петербурга. “Его Императорское Величество может вести войну с Константинополем, Веной или Варшавой, и Швеция не шелохнется. Жить всегда в единении с Россией – вот ее единственная цель”. С этих пор Россия должна смотреть на нее “как на свой верный сторожевой пост”, и верить, что новый наследный принц “стал человеком, всецело преданным Северу”. Такими речами, продолжавшимися в течение двух часов, Бернадот преисполнил сердце Чернышева радостью и надеждой. В заключение, желая сделать еще шаг к сближению, он пригласил Чернышева на другой день позавтракать запросто, вдвоем.
В период этих разговоров французский представитель в Швеции бессознательно оказал содействие планам Чернышева и облегчил его задачу. Барон Алькиер был человек деятельный, с твердым характером. К несчастью, как бывший член Конвента, где он подавал голос за самые гнусные меры, он сохранил от своего якобинского прошлого оттенок резкости и нетерпимости. Он был груб в обращении, обладал полным отсутствием такта и в придачу ко всему этому сохранил замашки члена народного Конвента. Вместе с тем, дурно сложившаяся семейная жизнь и незаконная семья, которую он привез из Неаполя в Стокгольм, не позволили ему бывать в свете, где, по своему положению, он должен был играть выдающуюся роль. Это ложное положение, причинявшее ему немало страданий, делало его еще более желчным и раздражительным. Из-под вышитого мундира дипломата в нем проглядывал характерный, своенравный революционер, и, что еще хуже – революционер ожесточенный. Его слова дышали надменностью, язвительностью и задором; он только тем и занимался, что бранил правительство и страну, при которых состоял представителем.
О наследном принце он говорил в совершенно неприличных выражениях. Он охотно допускал, что “принц добрый малый, добрый человек и не без талантов”, но с южной, горячей, “вулканической головой”. Он говорил, что принц легко поддается самым разнородным внушениям, что у него на дню семь пятниц, никакой последовательности в мыслях; полное или почти полное отсутствие характера – ничего такого, что требуется от него, как от человека, на долю которого выпала задача овладеть положением в тяжелые времена и подавить волнения, сделавшиеся в Стокгольме хроническими и заставляющие думать “о временах террора во Франции”. Принц, говорил он, никогда не сумеет восстановить порядок хорошим государственным переворотом, а, между тем, это единственное “что могло бы спасти Швецию”. Шведов же Алькиер считал народом легкомысленным, заносчивым, пустомелями и называл “северными гасконцами”. Впрочем, он признавал, что положение их отчаянное, что полный разрыв с Англией поставит их в самое бедственное положение, и не скрывал, что в инструкциях ему предписано требовать почти невозможного. Тем не менее, говорил он, раз такова воля императора, следует, чтобы невозможное свершилось. Он говорил это всякому встречному и более всего Чернышеву. Чтобы доказать, что Франция располагает Россией, он делал вид, что состоит в самых близких отношениях с эмиссаром русского двора, относился к нему с полным доверием, – что было громадной ошибкой с его стороны, – и распространял по городу, что флигель-адъютант царя приехал исключительно с целью вразумить упрямую Швецию.
Своими оскорбительными речами, которые не оставались неизвестными Бернадоту, он, без всякого повода, без всякой надобности, обижал и раздражал принца. В тот день, когда Чернышев завтракал у Бернадота, тот, лишь только сели за стол, “выслал лакеев” и тотчас же в выражениях, полных горечи, намекнул на слова французского посла и на приписываемые им России намерения. Видя, как он расстроен и удручен, Чернышев счел это обстоятельство чрезвычайно удобным, чтобы повторить свои утешительного свойства сообщения и постарался посильнее подчеркнуть их значение, ибо, думал он, при данных условиях они должны произвести еще большее впечатление. Поэтому он еще раз сказал, и положительно утверждал на все лады, что Россия никогда не примкнет ни к каким принудительным и суровым мерам против Швеции; что его государь нарочно прислал его, чтобы, полагаясь на скромность принца, передать ему свое непоколебимое решение.
При этих словах, вполне успокоившись, вне себя от радости, Бернадот не знал, как выразить свою благодарность. Он придумывал, как бы придать большую цену вчерашним уверениям. Накануне он дал честное слово никогда ничего не предпринимать против России, теперь же он давал клятвенное обещание и заговорил уже о письменном обязательстве. В дальнейшем разговоре он выставлял себя жертвой Наполеона. Его чрезмерное, мешавшее ему верно смотреть на вещи, тщеславие заставляло его иногда делать наивные промахи. Так он додумался до того, – и не на шутку воображал это, – что император завидует ему. – Император, – сказал он, – всегда обставлял его так, чтобы погубить его, что “император очень заботился, чтобы одной славой на свете было меньше. Если он так сурово относится к Швеции, то, конечно, делает это не только из желания властвовать над всем миром, но также и “из чрезвычайного нерасположения к нему”, из желания напакостить и сделать неприятное ему, Бернадоту. А между тем, сколько услуг оказал маршал Бернадот своему бывшему главе? Из каких только затруднений не помогал ему выкручиваться? Он неумолкаемо говорил о своей самоотверженности, о своем бескорыстии, и все его слова клонились к тому, чтобы доказать, что Наполеон был ему всем обязан и всегда платил ему черной неблагодарностью. Но, – сказал Бернадот, возвращаясь к прежней теме разговора, – тона, принятого с недавнего времени со Швецией, нельзя допускать во второй раз, и, воодушевляясь мало-помалу, опьяняясь своими собственными словами, он не удовольствовался обещанием России доброжелательного нейтралитета, а дошел до того, что начал строить предположения о разрыве и войне с Францией. Он скорее готов “с честью погибнуть с оружием в руках, – говорил он, – но не позволить унизить нации, которая избрала его своим вождем. Если Россия не вмешается в дело, император Наполеон не будет в состоянии добраться до нее, да если бы он и смог сделать это, посмотрим еще, чью сторону возьмут французские солдаты, раз они будут на шведской территории. Солдаты хорошо знают его, любят и уважают; он командовал ими во многих случаях и может до известной степени рассчитывать на них”.
“В это время, – прибавляет Чернышев в своем донесении, – разговор был прерван, и принц, которому нужно было ехать на парад, пригласил и меня. Перед фронтом Чернышев увидал снова того блестящего генерала, которого знавал в армии на Дунае, вождя с осанкой Марса, с орлиным взглядом, с развевающимися по ветру густыми волосами. Что его особенно поразило в Бернадоте, так это полная непринужденность, с какой он вошел в свою новую роль. Ничто не давало в нем чувствовать случайного человека; ни одного неверного или неуместного движения. С спокойным достоинством делал он смотр войскам, прекрасно держал себя перед собравшимся народом, принимал прошения, раздавал деньги бедным, принимал почести и приветствия, как будто был рожден царствовать.
Бернадот расстался с Чернышевым только для того, чтобы отправиться к королю, которому оказывал самое глубокое почтение. На другой день он снова пожелал повидать русского офицера. На этот раз он оставил его у себя завтракать и обедать. Ввиду того, что Чернышев не мог дольше откладывать своего отъезда в Париж, принц, прежде чем окончательно расстаться с ним, передал ему одно письмо для, императора Наполеона, другое – принцессе Полине. В первом он просил небольшой отсрочки для выполнения своих обещаний, во втором просил принцессу Полину быть его заступницей. Он просил и Чернышева оказать ему в Париже ту же услугу, т. е. взять под свою защиту его дело, ознакомить императора с печальным положением Швеции и просить снисхождения. Дело в том, что пока еще он боялся держать себя вызывающе с Наполеоном, и одну из причин, заставивших его отложить ссору, он не скрыл от своего нового друга. “Принц, – писал Чернышев, был настолько откровенен, что сказал мне, что вынужден сдерживать себя, ибо Швеция так бедна, что ему необходимо извлечь из Франции все свое имущество до последнего франка.
Но эта благоразумная осторожность не помешала ему, несколько минут спустя строить самые геройские планы. Пусть Наполеон, – говорил он, воздержится от нападения на Швецию; он может наткнуться “а вторую Испанию. “Если воодушевить шведов и талантливо руководить ими”, их можно сделать непобедимыми – и Бернадот уже видел себя укрывшимся в северных льдах, окруженным верным народом, подающим миру великий пример твердости и отваги.
Придумав для себя эту блестящую роль, он хвастливо рисовался в ней перед своим слушателем. Несмотря на то, что увлекаясь пылким воображением и страстью к хвастовству, он позволял себе иногда строить и развивать подобные планы, в нем было слишком развито понимание истинного положения вещей, чтобы серьезно останавливаться на своих мечтаниях. Осторожный и предусмотрительный, несмотря на свое фанфаронство, он думал про себя, что по всей вероятности, и для усыновившего его отечества, и для него лично ссора с Францией будет менее опасна, чем ссора с Россией; что они могут оставаться даже в выигрыше, и в этом-то отчасти и был секрет его поведения. По его мнению, предполагая даже, что победоносная война вернет шведам Финляндию, успех этот будет слишком кратковременным. Он будет только поводом к целому ряду войн, и победа, в конце концов, останется за тем, у кого больше батальонов, т. е., за государством, располагавшим сорока миллионами человек против четырех. Наоборот, если Швеция примирится с потерей Финляндии, если она бесповоротно откажется от мысли вернуть свои потери на континенте, если ограничит свои задачи Скандинавским полуостровом и на нем спокойно будет расширять свои владения, она не только обезоружит вражду своей грозной соседки, но и приобретет в ней покровительницу, и, таким образом, обеспечит безопасность своей единственной незащищенной границы. Устранив себя от Европы и ее великих дел, она поставит себя в более скромное, но зато более верное положение, положит начало своему спокойствию в будущем, не отказываясь, однако, от права получить немедленно весьма ценные возмещения. Не выгоднее ли ей искать не реванша, а компенсации? Вместо того, чтобы упорно смотреть на Восток – на Финляндию, отчего не обратить свои взоры на Запад – на Норвегию, которая как бы сама собой напрашивается ей в вознаграждение? По приезде в Стокгольм Бернадот в главных чертах предусматривал этот план, который ему пришлось осуществить впоследствии и который дал ему случай сыграть в истории роль не столько славного, сколько полезного деятеля.[634 - См. донесение Чернышева.] Но он не смотрел еще на этот план, как на нечто непреложное. Склонный преувеличивать значение своих наблюдений, Чернышев, без сомнения, зашел слишком далеко, донося в Петербург, что император Александр отныне же мажет располагать наследным принцем и вертеть им, как ему угодно.[635 - Id.] Как человек практичный, Бернадот будет считаться с обстоятельствами и руководствоваться их указаниями. Во всяком случае, корда наступит для него время окончательного решения, главную роль будут играть два элемента, с которыми он сроднился: политическая идея и страсть. С одной стороны, создавшееся в его уме представление об истинных интересах Швеции, с другой – ненависть к Наполеону всегда будут давать сильный перевес в пользу России! Быть может, Чернышев и заблуждался, приписывая уже теперь непреодолимую силу этим двум двигателям, но он отлично подметил и тот и другой двигатель, и, по всей справедливости, мог похвастаться, что не только подметил, но и сумел воспользоваться ими. Для этого стоило пожертвовать несколькими днями и задержать доставку письма, в которой Александр отвечал на требования Франции вежливо, но уклончиво.
III
Еще задолго до приезда Чернышева Наполеон из других источников узнал, что Россия откажется присоединиться полностью к его системе ведения войны. В последних числах октября Куракин передал ноту, в которой его правительство, вместо того, чтобы высказаться по двум вопросам – о тарифах и нейтральных судах – ограничилось неопределенными обещаниями содействия и утверждения строгого надзора за судами. В это время с Севера прибыли знаменательные вести. Часть собравшихся в Балтийском море судов, полное число которых дошло теперь до тысячи двухсот, выгрузили свою кладь в России. Громадный транзит товаров по-прежнему шел через Россию, наводнял колониальными товарами великое герцогство и снабжал ими Германию. Под впечатлением этих фактов Наполеон приказывает приготовить ответ на ноту Куракина. Он хочет, чтобы он был составлен “крайне вежливо и мягко”, но содержал в себе “истины, которые не мешали бы знать России”[636 - Corresp., 17099.]. В нем, в весьма энергичной форме будут воспроизведены все наши доводы и наши просьбы, и в заключение будет сказано: “Доколе английские и колониальные товары будут идти через Россию в Пруссию и Германию, доколе мы будем вынуждены задерживать их на границах, до тех пор будет очевидным и тот факт, что Россия не делает того, что надлежит, дабы нанести вред Англии”.[637 - Id.] Набросав план этой ноты, император поручил Шампаньи оформить ее, как вдруг в первой половине ноября получил отчет о разговорах Александра с Коленкуром, в которых царь принципиально высказался против поголовного изгнания нейтральных судов. По этому заявлению о невозможности согласиться на его просьбы, которое как бы заранее служило ответом на его письмо, он понял, что ему сказано достаточно. Теперь он потерял всякую надежду на то, что его выслушают с должным вниманием и исполнят его просьбы и понял, что Россия никогда не поможет ему доконать Англию.
На этот раз он затаил гнев. Ускорение разрыва не было в его интересах, поэтому он сдержался и скрыл свои чувства. К тому же, сознавая, что у него нет законного основания быть требовательным и что Россия, отклоняя его просьбы, не давала ему никакого права выразить ей свое неудовольствие, он воздержался и от жалоб. Мало того, отказываясь от надежды убедить Александра, он счел бесполезным продолжать и обострять спор, который мог привести преждевременно к раздору. Он переделывает и сокращает приготовленную Куракину ноту, превращая свою горячую просьбу в простую декларацию принципов.[638 - См. по этому поводу Archives nationales, AF, IV 1699, переписку Шампаньи с императором.] У него не вырывается ни одного слова, которое могло бы выдать его враждебное настроение. Он решил, что, когда увидит Чернышева, он “сдержанным тоном, не высказывая ни малейшего гнева”, скажет ему, что считал своей обязанностью ознакомить русского императора “с единственным способом покончить с англичанами, но так как император Александр считает, что этот способ не отвечает интересам его страны – что, может быть, вполне справедливо – он уже не придает ему столь важного значения”.[639 - Донесение Чернышева, Sociеtе Impеriale d'histoire de Russie, XXI, 54-55.] Если, думает он, России для того, чтобы успокоиться насчет наших намерений, нужны только фразы о миролюбии, он не откажет ей в этом удовольствии, на то и Коленкур в Петербурге, чтобы говорить их. Только ради этого он и оставляет там своего посланника, который неизменно пользуется благосклонностью царя.[640 - Шампаньи Коленкуру, 5 декабря 1810 г. “Император приглашает вас ничем на пренебрегать, чтобы укрепить и надолго упрочить за собой расположение, которое вам оказывают: в этом заключается теперь единственная цель вашей миссии”.] Но не ожидая уже ничего от России, он при достижении цели своими единичными усилиями совершенно перестанет считаться с интересами и обидчивостью Александра. Для борьбы с Англией он без всякого стеснения будет распоряжаться всеми странами, которые занимает своими войсками или удерживает за собой. Он всюду будет действовать сообразно своим необузданным теориям, будет кроить королевства, перемещать границы, распределять и размещать человеческий материал, как будто он знает, что его смелые нововведения еще сильнее вооружат против него Россию, то он немедленно же станет приводить их в исполнение – прежде, чем мир с Портой вернет войскам царя полную свободу действий. Если после мира на Востоке, который, вероятно, будет заключен в течение будущего года, император Александр будет держаться пассивного положения, если он безропотно примирится с тем, что он будет делать, он предоставит его одиночеству и займется исключительно Англией. Но он считает более вероятным, что, развязавшись с Турцией, Россия открыто перейдет на сторону наших врагов, – если только они до тех пор не сложат оружия, – что тогда она сбросит маску с своих враждебных намерений; но к этому времени он и сам успеет усилить свои войска в Германии и восстановит свою великую армию. Тогда в его распоряжении будет огромное количество людей, неизмеримо более того, что он до сих пор вводил в дело; столько войск, что их вполне будет достаточно, чтобы навсегда устранить Россию с европейской сцены или силой заставить ее снова вступить в союз. Мысль, что неизбежно придется кончить этим, что ему предстоит решительная кампания на Севере, представляется ему, как завершение его трудов, и властно овладевает его умом. Теперь перспектива этой кампании, мысль о которой только по временам приходила ему на ум, все ярче выступает из-за нынешних его предприятий. Она непрерывно растет, поднимается над горизонтом и во все более ярких чертах обрисовывается и выступает в тумане будущего.
В настоящее же время Наполеон считает нужным самовластно пустить в ход целый ряд жестоких мер. Он положительно неистовствует в деле захватов и накладывает самую суровую опеку на те страны, куда ему важно не допускать англичан, или откуда необходимо изгнать их. Что касается Юга, он находит, что наступил удобный момент для окончательного подчинения Испании. На окраине полуострова Массена занял, наконец, Португалию. Он прогнал армию Веллеслея, прошел мимо Каимбры, овладел господствующими над Лиссабоном позициями, и, по последним известиям, находился в пяти милях от Лиссабона. Конечно, трудно судить о ходе и оборотах военных операций, скрытых за густой цепью гор, откуда могли доходить только смутные и преувеличенные слухи об ожесточенной борьбе. Тем не менее, Наполеон ежеминутно ждет известий, что Массена занял Лиссабон, что Веллеслей сел со своими войсками на суда и что Португалия очищена от неприятеля. В надежде на такой благоприятный исход дела, он предписывает правительству в Мадриде начать переговоры с мятежными кортесами Кадикса и в последний раз потребовать от них признания французской династии и Байоннского договора. За это признание он готов согласиться не нарушать целости Испании, в противном же случае, в наказание за ее сопротивление, он просит расчленить Испанию, присоединить к Франции северные провинции, и с высоты своих перенесенных до Эбро границ, всей своей тяжестью налечь на изувеченную Испанию. Склонный по складу характера вести сразу много дел, он желает, чтобы одновременно с покорением полуострова были приняты решительно меры на Северном и Балтийском морях. Откладывая до сих пор, из желания не портить отношений с Россией, решение участи ганзейских городов и прилегающих к ним территорий, теперь он решает присоединить их к своей империи. Это решение созрело в нем уже 14 ноября, через три дня после получения им отказа Александра применять к нейтральным судам выработанные им правила, но об этом решении Европа должна узнать только через месяц из опубликованного сенатского решения.
Он замещает своих консулов и командующих войсками в Бремене, Гамбурге и Любеке префектами, иначе говоря, подменяет оккупацию присоединением; он ставит в суровые тиски своей администрации те страны, на которые до сих пор распространялась только сфера его влияния, и надеется таким путем отнять у Германии всякую возможность стремиться к независимости. Он думает, что тогда ему легче будет использовать для морской борьбы соединенные под его властью страны, легче будет поднять против врага другие народы и выставить против него новые силы. Главным же образом, он хочет доказать англичанам, что каждый их отказ вести переговоры, каждое проявление упрямства будет стоить им бесспорного бедствия, будет сопровождаться окончательным закрытием какого-нибудь необходимого для их торговли рынка. Весной он объявит им, что единственное средство спасти Голландию и ганзейские города – это немедленное заключение мира. Лондонский кабинет остался глух к этому предостережению, Голландия была присоединена. Недавно на совещаниях в Морлеи по поводу обмена пленников, во время переговоров, которые могли привести к переговорам о мире, английское министерство проявило только злую волю и неуступчивость. Следовательно, необходимо, чтобы угроза была приведена в исполнение, чтобы немецкие гавани постигла участь Голландии, чтобы господство Франции на побережье распространялось непрерывно, роковым образом сокрушая на пути все преграды, по мере того, как англичане будут упорно распространять и удерживать за собой исключительное господство на морях. Такое поступательное движение вперед, положенное Наполеоном в основу своих действий, приводит его к поступкам, которые являлись вызовом человеческому разуму и здравому смыслу. Он доходит до того, что хочет создать чудовищную по размерам империю, уродливую по форме и величине, состоящую, сказал бы я, из двух рук, из которых одна начиналась у Альп и Рейна и протягивалась вдоль побережья Средиземного моря за Рим включительно, а другую проектировалось протянуть по немецкому побережью в виде узкой полосы французских департаментов от острова Текселя до Любека. Этими руками он хотел охватить центральную Европу, изолировать ее от англичан, устроить из всего побережья континента один непрерывный фронт для обороны и нападения, и, выпустив декрет об отлучении от мира Британских островов, подвергнуть их строгой и правильной блокаде. На Юге он может, не наталкиваясь на сопротивление, подвигаться вперед, сколько ему угодно, так как на своем пути он встречает только слабосильные, безвольные, уже подчинившиеся его влиянию народы. На Севере же, стоит ему сделать еще один шаг вперед, – и он натолкнется на препятствие, на единственное, способное к сопротивлению государство, оставшееся в целости от стертой с лица земли Европы, т. е. на Россию. Уже одним тем, что он довел до Балтики свои границы, он наносит безопасности России удар, более сильный и более серьезный, чем все предыдущие.
Нужно сказать, что присоединение побережья носило в самом себе зачаток прямого конфликта с Россией. Для того, чтобы придать нашим новым владения больше устойчивости, необходимо было подвергнуть участи ганзейских владений и некоторые другие территории, которые должны были служить для связи и округления наших владений и для непрерывности береговой границы. Для этого нужно было отрезать от Вестфальского королевства и от великого герцогства Бергского их северные провинции, и, сверх того, проглотить некоторые княжества, которые, благодаря чресполосице германских государств, были вкраплены в страны, подлежащие аннексии. Среди маленьких государств, предназначенных к экспроприации, лежало, между прочим, герцогство Ольденбургское – узкая полоса земли между восточной Фрисландией и Ганновером, прилегавшая на севере к широкому устью р. Яде, уже занятому и укрепленному нашими войсками, Ольденбург был удельным владением древнего дома, который состоял в родстве с домом Романовых. Теперешний герцог был дядей императора Александра, который мог смотреть на Ольденбург, как на фамильную собственность. Дойдет ли Наполеон до того, чтобы поступить с протеже царя, с его родственником, так же, как и с соседними князьками? Решится ли отнять у него его владения, назначив ему денежное вознаграждение или пенсию, и лишив таким образом царя прав на его фамильную собственность?
Не желая причинять неудовольствия императору Александру, он не прочь был сделать исключение в пользу Ольденбурга. Сначала он остановился на мысли пощадить герцогство. Он хотел окружить его нашими владениями, нашими таможнями и, включив в нашу военную и фискальную систему, иначе говоря, заточив и замуровав его в своей империи, предохранить от всякого общения с Англией. Но такое нарушение общего правила он допускал только скрепя сердце. Получавшийся вследствие этого перерыв нашей морской границы не отвечал его принципам, мозолил ему глаза. Несколько дней спустя он решил, что герцог, вероятно, не откажется обменять призрачную верховную власть на более прочное положение в другой части Германии. В ожидании сенатского решения по поводу ганзейских городов, он приказал рассмотреть вопрос об Ольденбурге, а сам тем временем подыскивал, где бы найти равнозначащее владение, и остановился на мысли, что таковым мог бы быть Эрфурт с прилегающими к нему землями. Это составляло шестую часть герцогства “по поверхности, третью по населению и немного более половины по доходности”.[641 - Донесение Шампаньи императору от 10 декабря 1810 г. Arhives des affaires еtrang?res, папка с делами, относящимися к герцогству Ольденбургскому.] В случае надобности, прибавка соседних земель могла бы дополнить разницу.
13 декабря было издано сенатское решение. В нем санкционировалось присоединение Голландии и объявлялось о присоединении немецкого побережья, не входя пока в подробности о тех странах, которые подлежали присоединению. В то же время император объявил – и даже приказал написать об этом своему посланнику в России, – что герцогу Ольденбургскому придется сделать выбор между двумя решениями: или остаться на месте и согласиться на те ограничения его верховных прав, которые будут связаны с учреждением французских таможен, или же отказаться от своего герцогства и получить взамен Эрфурт.[642 - Шампаньи Коленкуру, 14 декабря 1810 г. Cf. Bignon, IX, 362.] Особому послу поручено было предложить герцогу вторую комбинацию, но давалось понять, что его воля ни в коем случае не будет стеснена и что он свободно может выбрать любое из двух.
В действительности же, эта оговорка была простой формальностью. Император не сомневался, что его желание будет принято за приказание. Но оказалось, что герцог, смотревший на себя, как на временного владельца, не счел себя в праве распоряжаться родовым имуществом своего дома. Он предпочел приятной с виду местности Эрфурта бедные пески, которыми издревле владели его предки. Он просил разрешения остаться в Ольденбурге, при каких бы то ни было условиях. В кротких и почтительных выражениях он отклонил обмен.
[643 - Archives des affaires еtrang?res, Oldenbourg et Confеdеration du Rhin.] Между тем, французские власти, исходя из общих выражений сенатского решения и не сомневаясь в согласии герцога на обмен, появились в герцогстве, отстранили местную администрацию и завладели денежными кассами. Герцог протестовал во имя своего признанного самим императором права, теперь дерзко попираемого. Но Наполеон не допускал, чтобы протест вассала – какого-то маленького члена Конфедерации – мог задержать развитие его господства и принудить Францию к отступлению. Он разрешил затруднение, которое не удалось ему распутать, как истинный самодержец. 22 января 1811 г., он подписал декрет, в котором приказывалось: вступить во владение Ольденбургом, права же герцогской семьи перенести на Эрфурт.
Этим грубым поступком он нарушил 12-ю статью тильзитского договора, в которой говорилось, что герцоги Ольденбургский Саксен-Кобургский и Мекленбург-Шверинский “каждый в отдельности будут восстановлены в полном и мирном владении своими государствами”. Правда, не желая ускорять конфликта, он велел сделать герцогу Виченцы запрос о средствах смягчить неудовольствие в Петербурге;[644 - Шампаньи Коленкуру, 14 ноября 1810 г.] но, поддавшись слепому убеждению, что воля его должна быть законом всему миру, он оказался в результате виновным пред Александром в неуважении к нему лично, в нанесении ему ничем не вызванного и совершенно не нужного явного оскорбления, которого нельзя было ни оправдать, ни извинить.
Но 31 декабря 1810 г., за три недели до вышеизложенного, еще до получения Александром известий о присоединении ганзейских городов и об опасности, угрожавшей Ольденбургу, царь, без всякого повода со стороны Наполеона, первый открыто нанес удар союзу. Это произошло в области торговых интересов, к которым Наполеон относился особенно чутко и подозрительно. В Тильзите, по 27-й статье опубликованного договора, обе договаривающиеся стороны обязались: вперед до заключения торговой конвенции восстановить экономические сношения в том виде, как это было до войны. Это значило временно ввести в действие договор 11 января 1787 г. – единственный договор, который до того был заключен между Францией и Россией. По этому акту, который был одним из последних и наиболее полезных успехов королевской дипломатии, наши произведения в России пользовались в некоторых отношениях привилегиями и были обложены весьма умеренными пошлинами. Восстановление этого договора в 1807 г., в связи с обязательствами против Англии, считалось в Петербурге одной из причин острого кризиса, наносившего ущерб материальным интересам и благосостоянию народа, ибо, вследствие прекращения торговли с Лондоном, Россия не могла сбывать произведений своей страны, тогда как ввоз французских товаров по суше принял весьма широкие размеры. Французские товары состояли, главным образом, из дорогих предметов роскоши, приобретение которых уносило из России громадное количество звонкой монеты, которая не возмещалась, как в нормальное время, деньгами, получаемыми от морского экспорта. Торговый баланс, – говоря языком и ссылаясь на доктрины того времени, страдал от этих ничем не вознаграждаемых потерь. Советники царя по финансовой части приписывали этой причине сильное понижение курса, которое разоряло нацию и тревожило правительство. В конце 1810 г. Александр уступил убеждениям своих советников и изменил это положение самовластной мерой, не считаясь с тем, как это могло отразиться на политических отношениях России. Не посоветовавшись с Наполеоном и не предупредив его, он приказал комитету из сведущих людей выработать, а затем опубликовать знаменитый указ, в котором по переделке всех таможенных ставок, главный удар наносился Франции, причем положение, установленное договором, изменено было простым указом.[645 - Правда, что акт 1787 г. был составлен на двадцать лет. Но разве по статье Тильзитского договора не подразумевалась отсрочка его на неопределенное время?]
По этому указу, товары, ввозимые по суше, т. е. французские, были обложены суровыми, а некоторые даже запретительными пошлинами. В случае проникновения их в Россию путем контрабанды, приказано было сжигать их. Это было равносильно объявлению Франции экономической войны, – самой жестокой и самой несправедливой из войн. Что же касается привозимых морем товаров, т. е. не французских, то указ в принципе ставил их в лучшие условия и ни в коем случае не присуждал к истреблению, если они попадали путем контрабанды. Конечно, своя рубашка к телу ближе, правда, и то, что применение новых тарифов не касалось государств, с которыми Россия вела войну. Для них безусловный запрет сохранял, по-прежнему, силу закона, так что гавани, как и прежде, были закрыты товарам бесспорно английского происхождения, но, по толкованию указа самим Александром[646 - Письмо, опубликованное Татищевым, 647 – 552.] благоприятствующие постановления этого акта применялись к торговле, которая происходила на бортах нейтральных и специально американских судов, т. е., к той торговле, на которую Наполеон смотрел, и не без основания, как на самую доходную статью британской торговли, и считал необходимым не допускать ее. Следовательно, указ покровительствовал Англии за наш счет. Торговый разрыв с Россией становился для нас еще тяжелее, благодаря облегчениям, допущенным в пользу наших соперников. Новый таможенный режим вдвойне оскорблял чувство тесной солидарности, которая официально лежала в основе отношений между Францией и Россией. В наши дни один государственный человек сказал: “Экономическая война несовместима с политической дружбой”. Насколько же она не была совместима в те дни, когда Наполеон старался на экономической почве сломить упорство англичан, когда он на эту почву перенес центр тяжести борьбы, в которой хотел заставить всю Европу принять участие! Отдалиться от нас на этой почве и сделать шаг навстречу нашим врагам значило резко подчеркнуть наступившее разногласие в интересах, полную противоположность основных начал политики и пред лицом всего мира отречься от союза.[647 - См. текст указа в Moniteur'e от 31 января 1811 г.]
Таким образом, Наполеон и Александр на протяжении двадцати дней, независимо друг от друга, – так как указ Александра не может быть рассматриваем, как ответ на деспотические поступки Наполеона, – дошли до того, что нарушили букву договора, от духа которого уже давно отреклись. Они почти бессознательно приблизились к естественному результату, т. е. к неизбежному концу предпринятого ими в разных направлениях движения, которое в течение десяти месяцев удаляло их друг от друга. Оба сдерживали себя до тех пор, пока видели в союзе средство обеспечить себе взаимные поблажки. Они допускали этот тормоз, потому что в их руках был еще рычаг к нему. Теперь же, когда Наполеон потерял надежду на активное содействие России против Англии, а Александр отказался от возможности полностью удержать за собой княжества, они приходят к убеждению, что их обязательства частью погашены, частью потеряли свою силу, они видят в них только ненужные, просроченные векселя и инстинктивно хотят избавиться от них. Теперь, во всех своих заявлениях и действиях, Наполеон руководствуется только тем, что ему удобно и желательно. С своей стороны, и Александр считает нужным мало-помалу освободить свой народ от навязанных ему лишений, хочет дать свободу подавленным страстям, знати, предоставить ей снова занять прежнее положение, позволить ей высказывать ему свои мысли и диктовать свои желания.
В то время, к описанию которого мы подошли, смелость царя можно приписать еще одному особому обстоятельству. Начатые шесть месяцев тому назад военные приготовления были закончены. Россия была готова к войне. Между тем как Наполеон думал, что все ее боевые силы заняты на Дунае и что у нее нет свободных войск, ей удалось под прикрытием непроницаемой тайны с неимоверными усилиями сохранить в секрете свою деятельность, мобилизовать и сосредоточить около своей западной границы двести сорок тысяч войск. Александр знает, что списочный состав войск весь налицо, что магазины сформированы, снаряды и провиант припасены. Он знает, что в его распоряжении “вполне организованные”, в полной боевой готовности двадцать одна дивизия пехоты, восемь дивизий кавалерии и тридцать два казачьих полка. Итого, две армии, из которых одна стоит на первой линии, другая – с резервом в сто двадцать четыре тысячи человек – на небольшом расстоянии позади первой, присоединится к ней по первому сигналу.[648 - Цифры, приведенные самим Александром в двух письмах к Чарторижскому. Mеmoires du prince, II, 254 и 271. В донесении Жозефа де-Местра даются, точно такие же сведения. Corresp., III, 540.] Против себя, по ту сторону границы, царь видит только пятьдесят тысяч поляков герцогства, за ними сорок шесть тысяч французов, разбросанных по крепостям или размещенных в нижней Германии, окруженных весьма сомнительными союзниками. Он знает, что раньше нескольких месяцев Франция ни в коем случае не может объявить ему войны, следовательно, он может, не подвергаясь немедленной опасности, открыто заявить о своем экономическом отложении.
Даст ли он Наполеону время подготовить средства к мести и отомстить? Отложит ли он делающуюся неизбежной войну до тех пор, пока завоеватель развяжется с Испанией, пока тот соберет воедино все свои войска, создаст новые армии, займет снова Германию и сплотит против России всю Европу? Теперь, когда превосходство сил может возместить неравенство талантов, не предписывается ли русским самим благоразумием сделаться предприимчивыми и смелыми, не следует ли им воспользоваться своим преимуществом, постараться выиграть во времени и броситься на не готового к бою противника? Действительно, имея в своем распоряжении средства, собранные в видах обороны, Александр поддался искушению употребить их для нападения. От горделивого сознания, что в этот раз в материальном отношении он сильнее Наполеона, что он лучше его вооружен, что он в состоянии напасть первым и напасть внезапно, царь приходит в восторженное состояние, – он опьяняется этой идеей; у него кружится голова. Мысль поднять Европу против Наполеона, желание самому стать во главе ее, мечта заменить гнет Франции благодетельной гегемонией России – все это охватывает его ум, приводит в трепет его душу. План – хитростью вторгнуться в Польшу, который уже несколько месяцев тому назад зародился в его уме, теперь начинает быстро зреть и достигает полного расцвета. Случай кажется ему слишком подходящим, чтобы отказаться от мысли использовать его, чтобы не воспользоваться особенно благоприятным стечением обстоятельств, и мы наблюдаем, как в течение нескольких дней он решает от приготовлений к делу перейти к самому делу.
8 января 1811 г., девять дней спустя после указа, узнав о присоединении ганзейских городов, но не зная еще о захвате Ольденбурга, т. е., о частной, нанесенной лично ему обиде, он поверяет свой план своему другу, и его переписка с Чарторижским, которая никогда не прекращалась, принимает совершенно новый характер. Она становится на определенную почву и приобретает совершенно новое значение. Теперь он не ищет советов, не высказывает смутной идеи, не предлагает ее на обсуждение своего друга. Напротив, он ставит целый ряд вопросов, на которые требует определенного ответа и поверяет ему вполне готовый план.
Нечего скрывать, – сказал он, что между обоими дворами существует некоторая холодность в отношениях, что, хотя его личные чувства к императору Александру нисколько не изменились, но между ними нет уже ни прежней дружбы, ни прежнего доверия. Причиной этому Польша. И, принимаясь снова за этот бесконечный вопрос, Наполеон шаг за шагом разобрал его с самого начала, т. е. с момента его возникновения, все время ставя в вину России то, что она своей умышленной медлительностью в 1809 г. допустила его возникновение. Он говорил, что тогда он, помимо своей воли, должен был подчиниться необходимости увеличить герцогство. Что же касается мысли пересоздать герцогство в королевство, то это никогда не входило в расчеты его политики, но что он никогда не скажет об этом в выражениях, “несовместимых с его честью”. В этом отношении не следует поддерживать никаких иллюзий. Он не подпишет договора, который, к тому же, сам по себе “ничего не докажет”.
Он говорил далее, что желаемого обеспечения следует искать в общей сложности, его поступков, в здравой оценке его характера. Предполагать в нем склонность уподобляться классическим завоевателям, думать, что он склонен к бесконечным войнам, – значит, совершенно не знать его. У него одна цель: принудить Англию к миру, и он никогда не сойдет с этого пути, чтобы гоняться за далекими романтическими приключениями. Что ему делать в снегах Польши или в украинских равнинах? “Это может прельщать Александра, но, что касается его, это совсем не в его духе. Война, близкая его сердцу, – это война на морях, все его мечты направлены к тому, чтобы создать внушительный флот. Поэтому Его Величество русский император может быть спокоен; он может безопасно двинуть свои войска против Турции, может отменить приказ о новом бесполезном рекрутском наборе и тем избегнуть крупных расходов. Он сам не производил в этом году рекрутского набора”. Сколько у него войск в Германии? – продолжал он далее. – Шестьдесят батальонов маршала Даву. Разве войну с Россией ведут с шестьюдесятью батальонами? Если он придвинул эти войска к Северу, если поставил их между Ганновером и Гамбургом, то единственно с целью установить надзор за Везером и Эльбой. Впрочем, он согласился, что поляки возводят ретраншементы перед Варшавой, – он сам первый сказал об этих работах. Но разве не русские первые подали пример поспешностью, с какой они укреплялись вблизи своих границ? Он ничего не может сказать против этого – каждый хозяин в своем доме; только, по его мнению, было вполне естественно, что и варшавяне, видя, что их соседи принимают известные меры, делали то же самое и на своей территории. Он не может помешать им быть настороже, но не имеет желания делать их оружием нападения. Его разговор с Чернышевым служил разъяснением тех слов, которые он в это же самое время приказал передать в Петербург герцогу Виченцы. “Я не отрицаю, что Швеция и Польша, в случае войны с Россией, будут служить орудием против нее, но эта война никогда не будет делом моих рук”.
По поводу Швеции он снова подтвердил, что не оказывал ни малейшего содействия избранию Бернадота, – что только с большой натяжкой было согласно с истиной. Он указал на те стороны, которые емy, действительно, не нравились в этом деле, а именно; что в наследники престола был избран “один из его маршалов, не состоящий с ним в родстве. Это вскружило головы остальным, которые теперь воображают, что имеют право на короны”. Затем он высказал, что предпочел бы, чтобы в Швеции не было никаких перемен, но при условии, что она вступит в континентальную систему и будет ей верна. Он признавался, что если бы ему предстояло высказаться о желательной политике на Севере, он высказался бы в пользу скандинавских королевств. Что же касается Пруссии, то весь интерес его к ней сводится к требованию строгого применения блокады. Впрочем, по его словам, в этом отношении он был ею крайне доволен и русские напрасно доверяют свои тайны потсдамскому двору, ибо этот, двор, из страха перед ним, все ему передает. Перейдя затем к Австрии, он сказал несколько слов о партии Разумовского, об антифранцузских происках, о своих жалобах, и, не останавливаясь на них, прибавил, “что русскому императору не трудно было бы, не огорчая его уклончивыми ответами, исполнить его просьбы”. В конце концов он почти совсем раскрыл свои отношения с венским двором, и впервые после семи месяцев молчания заговорил о деликатном вопросе – о брачном союзе, т. е. исходной точке нынешних отношений с венским двором. Разве в этом случае он не обратился прежде всего к России? – сказал он. Только несогласие императрицы-матери, которое было причиной неоднократных отсрочек, вынудило его обратиться к Австрии. С Австрией же все было покончено “в несколько часов”, благодаря тому, что он нашел в князе Шварценберге “ловкого человека”, умеющего пользоваться случаем. Тем не менее, – говорил он, – он сожалеет о несостоявшемся между домами Франции и России семейном союзе. Он с видимым удовольствием начал распространяться об этом предмете, но, вдруг спохватившись, что в его сожалении ничего не было лестного для Марии-Луизы, он продолжал: “Я не сожалею о случившемся. Я доволен моей женой, она мне нравится. Вы видели ее. Но так как у государей политика должна входить во все дела, я должен сознаться, что ваш брак был бы для меня более подходящим”.
После брака, продолжил он, Австрия была бы к его услугам, если бы только он захотел этого. Из ненависти к русским, завидуя им, недовольная их успехами на Дунае, она старалась расположить его в свою пользу и Приобрести его дружбу. Он намекнул на неоднократно деланные ему предложения, и имел полное основание похвастаться, что отклонил их. Он не заключил, продолжал он, политического союза с Австрией, да и не желает этого, ибо прекрасно сознает, что причинил Австрии слишком много страданий, чтобы рассчитывать, что она когда-либо сделается его верной союзницей. Он пошел дальше. Выдавая до некоторой степени тайну своих последних разговоров с Меттернихом, во время которых он старался только обеспечить себе нейтралитет Австрии, он сказал: “Возможно, что Франция объявит войну России, но она никогда не поведет ее совместно с Австрией. Нужно прибавить, что он и не думал скрывать, что его цель – создать между древними императорскими дворами антагонизм интересов и поддерживать между ними постоянные подозрения, что он предоставил царю княжества не столько по дружбе, сколько из расчета, не ради любви к своему союзнику, но из желания поссорить его с Австрией, что та же причина заставляет его быть уступчивым и поддерживать требования России на левом берегу Дуная.
Таким образом, по его словам, еще и теперь только от Александра зависит, сможет ли он пожать плоды союза и сделать свое царствование самым славным, самым блестящим, какое когда-либо знавала Россия – конечно, при условии, если царь останется верен союзу. Разве дать России Финляндию и русло Дуная, да еще надежду на морской мир в ближайшем будущем, – не значит исполнить желаний ее народа, не значит осуществить его самые смелые мечты, “закончить ее роман?”. И все это вполне возможно, если из остановятся перед строгими мерами, если оградят себя от всякого рода контрабанды!.. По своему географическому положению Россия рождена, чтобы быть другом Франции. Если она останется таковым в впредь, ее наградой будет расширение ее владений и выгоды, которые воспоследуют для нее из ее содействия близкому уже морскому миру, который впредь не будет зависеть от капризов и деспотизма нации, находящейся, благодаря принятым за последнее время мерам накануне гибели. В противном случае Россия опять станет в положение, в котором у нее останутся только надежды. Он знает, что и он может стать в такое же положение, но, во всяком случае, достоверно то, что, если между их империями вспыхнет война, она неизбежно принесет вред и победителю, и побежденному”.
Впрочем, – сказал он, – исходя из того, “что русский император и его министр – первые и единственные люди, которые поняли его, он уверен, что Его Величество примет во внимание его просьбу и все, что с ней связано, но, что для этого безусловно необходимо отказаться от всех полумер, которые могут затянуть, может быть, на год, а то и на два, неопределенное положение обеих империй и, без coмнения, доведут их до ссоры”. Стало быть, прежде всего необходимо, чтобы император Александр, не пускал в свои гавани те шестьсот судов, на которых сложены остатки британского богатства; чтобы он снова выкинул в море то, что оно выбросило к нему на берег после громадного кораблекрушения, а то – и это еще лучше – он может, впустив их, завладеть ими и объявить их своей законной добычей. Эта суровая мера, обогатив его казну, довершит финансовый крах англичан, за этим вскоре последует мир, и цель союза будет доступна. Вот тема, которую Наполеон развивал в двадцати различных видах. Несмотря на тысячи отклонений в сторону, он постоянно возвращался к ней самыми неожиданными подходами, всякий раз приводя новые факты, новые доказательства и соображения и, наконец, в заключение разговора, передал в руки Чернышева письмо императору Александру, составленное в следующих выражениях:
“Мой Брат, Ваше Императорское Величество, прислали мне чудных лошадей, за что спешу принести Вам мою благодарность”.
“Англичане сильно страдают от присоединения Голландии и от моего приказания, занять порты Мекленбурга и Пруссии. В Лондоне каждую неделю происходят банкротства, приводя Сити в замешательство. Фабрики стоят без работы; магазины завалены товаром. Я только что приказал забрать во Франкфурте и Швейцарии громадное количество английских и колониальных товаров. Шестьсот английских судов, скитавшихся в Балтийском море, не были приняты ни в Мекленбурге, ни в Пруссии и направились к владениям Вашего Величества. Если вы примете их, война затянется; если же задержите и конфискуете их груз, – тогда ли, когда суда будут в ваших гаванях, или же когда товары будут уже свезены на берег, – удар нанесенный Англии, будет ужасен. Все эти товары принадлежат англичанам. Мир или продолжение войны в руках Вашего Величества. Вы желаете и должны желать мира. Ваше Величество может быть уверенным, что мы добьемся мира, если вы конфискуете эти шестьсот судов и их груз. Какими бы бумагами они ни были снабжены, под каким бы именем ни скрывались – французским, немецким, испанским, датским, русским, – Ваше Величество может быть уверен, что они принадлежат англичанам”.
“Граф Чернышев, который возвращается к Вашему Величеству, отлично держал себя здесь”.
“Мне остается только просить Ваше Величество всегда рассчитывать на мои неизменные к вам чувства, которых не могут поколебать ни время, ни события”.
Кроме изложенной в этом письме просьбы, Чернышеву поручено было передать на словах еще другую, которую Коленкуру предписывалось поддерживать всеми силами. Дело шло о Швеции. За несколько дней до этого недовольство Наполеона Швецией снова усилилось. Дело в том, что стокгольмский кабинет только делал вид, что желает исполнять принятые на себя обязательства. Он все время изобретал предлоги не прерывать сношения с англичанами и просил отсрочки. Правда, Наполеон надеялся, что Бернадот, по приезде в Стокгольм, сдержит слово и заставит объявить войну англичанам, но, вместе с тем, чтобы сломить сопротивление Швеции, он искал и другие средства воздействия на нее. Он сделал посланнику Швеции жестокую сцену. Его выкрики доносились до соседних комнат, так что дежурные офицеры, находившиеся рядом с кабинетом императора, сочли нужным из скромности удалиться. “Швеция, – говорил он барону Лагельбиельке, сделала мне в этом году зла больше, чем пять коалиций, с которыми я справился. Она одна, что ли хочет служить складом, откуда все английские и колониальные товары могут найти свободный доступ на континент? – Ну, нет! Если бы даже появился новый Карл XII и стал лагерем на высотах Монмартра, он не добился бы этого от меня.[625 - См. Armand Lefebvre Histoire des cadiners de Europe pendant le conculat et I Empire V, 73 – 75, по архивам министерства иностранных дел. Шведская версия разговора по донесению Лагельбиельке была опубликована стокгольмским правительством в 1813 г.] Его гнев был непритворным, но, прежде всего, тут был расчет. Император высказывал свою угрозу в такой резкой форме, потому, что не был в состоянии нанести Швеции удара, так как, в силу своей отдаленности и своего почти островного положения она была недоступна для нас, вне нашего нападения. Но ведь есть косвенный путь добраться до нее. Ведь наш союзник, владения которого прилегают к Швеции, может оказать на ее решения спасительное давление. Одно слово царя, в котором Швеция почувствовала бы возможность вооруженного вмешательства, одно данное царем предостережение, за которым бы можно было предвидеть вторжение русских войск, сделало бы гораздо больше, чем все свирепые слова Франции. Слово царя придало бы силу и значение словам Наполеона. Наполеон мог только свирепствовать, но важно было не это: вся суть была в том, чтобы Россия стала в угрожающую позу. Поэтому император решил просить Александра, чтобы он обратился к правительству короля Карла XIII с строгим внушением, чтобы он напомнил ему о его обязанностях, потребовал бы войны с англичанами а, главным образом, конфискации сваленных в доках Готенбурга колониальных товаров. Возвращаясь, таким образом, к намеченному в Тильзите плану, Наполеон старается воспользоваться Россией для того, чтобы оказать давление на весь Север, чтобы возбранить англичанам туда доступ, закрыть их торговле последние места сбыта и быстро довести их до унизительной капитуляции, “В настоящее время, писал Шампаньи Коленкуру, это единственный предмет его политики. Успех его последних мер заставляет его придавать громадную цену тому, чтобы они всюду применялись, и, притом, настойчиво и строго, до тех пор, пока, они не приведут к желаемой цели – миру”.[626 - Депеша от 23 октября 1810 г.]
II
Есть основание думать, что наши просьбы не повлияли на императора Александра в желаемом смысле и не изменили его дальнейшего поведения. Мнение его уже установилось, и решения были приняты. Он признавал обязательства, вытекавшие из заключенного в Тильзите договора и из войны с Англией, т. е. изгнание кораблей бесспорно английского происхождения; он не спорил против этого; более или менее добросовестно исполнял эти постановления, но и cлышать не хотел о том, чтобы подчиниться мерам, которые Наполеон опубликовал в простом декрете о нейтральных судах и не признавал за ним права предписывать законы всей Европе.
Сверх того, хотя Наполеон и был прав, утверждая, что почти все нейтральные суда и плавали за счет Англии и что единственным средством добраться до врага было нанести ему удар в лице его самых полезных сотрудников, но своими поступками он ослабил значение своих доводов. Считая себя вправе запрещать другим поддерживать даже косвенные торговые сношения с Англией, он, в интересах французского народа, не лишал себя возможности заключать непосредственно с нею некоторые торговые сделки. Французские суда, снабженные особыми разрешениями, возили на Британские острова продукты нашего земледелия и нашей промышленности. В обмен они привозили некоторые колониальные товары, без которых Франции трудно было обойтись. Недавно одно из судов с таким разрешением было в русском порту. Таким образом, русское правительство получило доказательство существования разрешенной Наполеоном противозаконной торговли и накрыло императора в нарушении его собственных постановлений.
Правда, Наполеон, мог ответить, что он никогда не запрещал своим северным союзникам пользоваться особыми разрешениями, что он даже советовал это, что дозволенная, таким образом, торговля, завися исключительно от доброй воли государей, могла быть использована ими, как средство помочь их подданным пережить трудное время, не облегчая в значительной степени тяжелого положения врага, тогда, как наплыв нейтральных судов в русские порты, в том виде, как это подготовлялось, сводило почти к нулю результаты блокады. Правда и то, что, когда в 1807 г. император Александр сразу порвал прямые сношения с Англией и закрыл произведениям России главный их рынок, он наложил на своих подданных не менее неожиданную и гораздо более тяжелую жертву, чем дополнительные строгие меры, о которых просили его теперь. Но то было в 1807 г. Тогда он горел желанием угодить Наполеону, верил в благотворное влияние союза и ждал от него сказочных результатов. Не будучи, подобно другим государям, в тисках Наполеона, он подчинился его нравственному авторитету. В конце 1810 г., когда он разочаровался в союзе, когда познал, какие тернии и опасности таит он в себе; когда он готов был отказаться от некоторой части приобретенных благодаря союзу выгод и даже собирался наградить Австрию частью княжеств, он уже не хотел, ради чужого ему интереса, усугублять страдания своего народа и запрещать ему вести торговлю с Англией. Сверх того, теперь он не хотел гибели англичан, видя в их сопротивлении последнюю гарантию против окончательного порабощения Европы, и его отказ, хотя он и объяснял его причинами частного и экономического характера, обусловливался, главным образом, соображениями высшей политики. Императоры разошлись в способах действий потому, что преследовали разные цели. Их разномыслие по вопросу о блокаде только вызвало наружу давно существующий антагонизм. В истории их ссоры разлад по поводу блокады являлся следствием, а не причиной их дурных отношений; он был результатом давно прекратившейся между ними дружбы.
Румянцев еще раньше сказал Коленкуру, что принятие в России новых тарифов будет делом неудобоисполнимым и пагубным. “Император, – сказал он, – готов всеми способами вредить Англии, но не следует вредить себе больше, чем врагу”.[627 - Коленкур Шампаньи, 8 октября 1810 г.] После наших первых просьб по вопросу о нейтральных судах, Александр имел объяснение с посланником в двух продолжительных беседах. Он говорил спокойно, cдержанно, любезно, но его слова были настолько определенны, что не оставалось ни малейшего сомнения насчет его отрицательных намерений. В продолжение трех лет, – говорил он, – он всегда делал больше, чем требовалось обязательствами, возложенными на него договорами и дружбой к императору. “Поступки, слова, письменные акты – все доказывает, как он старался сделать все, что могло быть полезно и даже просто приятно его союзнику”[628 - Коленкур Шампаньи, 5 октября 1810 г.]. Он более, чем кто другой, наносил вред англичанам, он и теперь готов вредить им, но желает сам быть судьей тех способов, которые позволяют ему выполнить его намерения. Рекомендованные ему меры могут быть хороши и действительны в других государствах, но в России они не отвечают ее интересам и нуждам. Русские не могут подчиняться правилам, выработанным и приноровленным для других: это причинит им непосильные тяготы. “Мы не можем, – сказал царь Коленкуру, – шить себе одежду на ваш рост”.[629 - Id, 9 ноября.] По словам царя, к нейтральным судам в русских портах относятся с недоверием. Их подлинная национальность и происхождение их груза проверяется осмотром судовых документов. Установлен строгий контроль, он поручен особым чиновникам, назначенным на эту должность за их безупречную честность и строгое отношение к своим обязанностям. Он оставил за собой право лично пересматривать документы и выносить окончательное решение в каждом отдельном случае. Он готов отнестись к этому делу с удвоенным вниманием, но не может допустить, чтобы между нейтральными судами не было известного числа невинных, которых нетрудно смешать с виновными. Он не хочет подводить всех под одну мерку и не закроет своих гаваней всем торговым судам, которые покажутся в открытом море. В ответ на привезенное Чернышевым письмо императора он благодарил Наполеона за письмо и в сотый раз повторил свои обычные уверения. “Все, что Ваше Величество высказали мне о своей политике и о своих личных чувствах ко мне, – писал он, – доставило мне громадное удовольствием, тем более, что эти чувства вполне соответствуют чувствам, которые я питаю к Вашему Величеству и которые неизменны. Подобно вам, я ничего так не желаю, как продления союза, связующего обоих императоров и обеспечивающего спокойствие Европы. Вы, Ваше Величество, также могли убедиться, что и я, с своей стороны, не упускал случая открыто заявить о существующем между нами самом тесном единении”. Что же касается практических способов достигнуть цели этого единения, то Александр только вскользь упомянул о возникшем между ними спорном вопросе. Он осторожно дал заметить, что устанавливает известное различие между английскими и нейтральными судами, и сделал вид, что понял, будто Наполеон пишет ему исключительно об английских судах. Далее он безусловно отрицал прибытие в его гавани вышеуказанного торгового флота. “Меры против английской торговли, продолжал он, соблюдаются во всей строгости; множество произведенных в моих гаванях конфискаций доказывают это. За это время едва ли прибыло шестьдесят судов разных наций. Нельзя рассчитывать на прибытие новых судов, так как вход в некоторые гавани уже покрылся льдом. Во всяком случае, число этих судов может быть только самое ничтожное. Те же строгие меры будут применены и к ним. Так что те шестьсот судов, о которых пишет мне Ваше Величество, по всей вероятности, вернутся в Англию”[630 - Письмо, опубликованное Татищевым, стр. 541 —543.]. В сущности, нельзя было доказать, что нагруженные английскими товарами нейтральные суда все гуртом ломились в русские гавани. Обыкновенно они собирались в Готенбурге, который с каждым днем все более делался гаванью для торговых судов, где они запасались всем необходимым. Здесь была их главная квартира. Отсюда они направлялись поодиночке или небольшими партиями к берегам соседней империи, где находили радушный прием. Кроме того, часть сложенных в Готенбурге грузов увозилась внутрь Скандинавского полуострова и направлялась к северу до Ботнического залива. По переправе через это внутреннее море, колониальные товары ввозились в Россию, где и сбывались, или же спускались к югу и наводняли Германию. Таким образом, Россия, подобно фильтру, изо дня в день, незаметным образом пропускала через свои владения запрещенные товары. Закрытие шведских гаваней могло бы пресечь зло в самом корне. Оно нанесло бы удар в том месте, откуда в длинный обход отправлялись товары не только для России, но и для Европы. Сделать это было тем более важно, что, по словам царя, он не в силах запретить совершенно их ввоз на свою собственную территорию. Таким образом, вопрос касался Швеции, по меньшей мере, в той же степени, как и России, и Александр сам обратил на это обстоятельство наше внимание. За несколько недель до этого, он сказал Коленкуру: “Настоящее складочное место английских товаров, главный пункт контрабанды – Готенбург… Его и нужно закрыть. Если с приездом принца Понте-Корво у Англии будет отнято это место сбыта, этим будет нанесен удар, который, действительно, даст себя почувствовать в Сити Лондона”.[631 - Коленкур Шампаньи, 9 ноября 1810 г.]
Когда Александр давал этот совет, он и не подозревал, что Наполеон в скором времени поймает его на слове и обратится к нему с просьбой посодействовать закрытию шведских гаваней. Узнав о втором пункте нашей просьбы, Александр был в большом затруднении. Он вовсе не хотел натравлять на англичан лишнего врага: но, главным образом, не хотел вредить самим шведам, так как его не покидала мысль не только отвратить их вражду, но и привлечь их на свою сторону. Избрание Бернадота не создавало препятствий его плану, напротив, оно могло способствовать его осуществлению.
Прибыв в середине октября в Стокгольм, новый наследник престола занял положение, которое могло вполне успокоить наших врагов. Он объявил войну англичанам только для виду, так как за этой демонстрацией до сих пор не последовало ни одного враждебного поступка, ни одной конфискации. С первых же встреч с русским посланником, Бернадот был на редкость любезен и милостив с ним. Он простер своe внимание до того, что написал царю письмо, в котором в самых изысканных выражениях высказал желание жить в дружбе с соседями. Можно ли было на основании такой предупредительности вывести заключение, что бывший маршал не был “человеком, преданным императору Наполеону”.[632 - Донесение Чернышева. Sociеtе impеriale d' histoire de Itussie, XXI, 45.] Восстановив в памяти свои личные впечатления, Чернышев высказал это как непреложную истину. Во время своего пребывания в Вене и во Франции, молодой офицер имел и случай сблизиться с принцем Понте-Корво, и достаточно времени изучить его. Он почуял в нем человека недовольного, завистливого, одного из тех людей, которых и благодеяния, и упреки озлобляют в одинаковой степени. Исходя из этого, он считал возможным использовать во вред Наполеону драгоценный качества этого желчного, злопамятного человека, не говоря уже о тех вполне законных причинах, которые препятствовали Швеции всецело перейти на сторону Франции. Ободренный этими сведениями, Александр с некоторых пор упорно предавался самым смелым надеждам. Каков был бы удар, если бы ему удалось похитить у Наполеона одного из его свитских генералов и превратить в агента России имперского маршала, назначенного главнокомандующим целым народом.
Но как поверить в чувства наследного принца, как поддержать его намерения? Как подойти к нему и, не возбуждая подозрения, осторожно поговорить с ним? Просьба Наполеона давала средство к этому. Опираясь на наши просьбы, царь мог, под предлогом придать большой вес предостережениям России, под маской агента, посланного в Стокгольм со специальным поручением, отправить к принцу доверенное лицо. В глазах Франции это будет агент, которому поручено сделать желаемое Наполеоном внушение, в действительности же он должен говорить как раз противоположное. Вместо угроз он должен ободрить и не скупиться на успокоительные слова; его истинная задача – войти в сношения с Бернадотом и вызвать его на более откровенные разговоры.
Благодаря давнему знакомству с принцем, Чернышев мог лучше всякого другого выполнить это щекотливое поручение. Ему было поручено доставить в Париж ответ Александра на императорское письмо от 23 октября, но при этом он получил приказание ехать через Стокгольм. В письме к императору Александр объяснял витиеватую фразу Чернышева, которая дает понятие, до какой степени он обладал искусством скрывать свои мысли и намерения за безупречными по искренности и правдивости фразами. “Мне кажется, что полковник Чернышев сумел снискать благосклонность Вашего Величества, почему я и избрал его для передачи этого письма, – писал он. – Я приказал ему ехать через Стокгольм, дабы объявить шведскому правительству о желании Вашего Величества, чтобы я поддержал шаги, сделанные вами с целью понудить Швецию порвать с Англией, хотя мною уже получено известие, что это сделано”. Эта фраза и по духу, и по букве вполне отвечала истине. Да, Чернышеву поручено сказать, как страстно, как упорно желает Наполеон, чтобы Россия обратилась к Швеции с протестом и угрозой, только, согласно инструкции, Чернышев тотчас же должен прибавить, что Александр решил не обращать внимания на это желание, что он предоставляет Швеции вполне располагать своими решениями, что она может избрать относительно Англии то поведение, какое ей будет угодно, и может не принимать участия в морской войне. Одним словом, истинная цель поездки а Стокгольм состояла в том, чтобы дать понять, что показную ее задачу никоим образом не следует выполнять. Выдавая, под предлогом исполнения желаний императора его намерения Швеции, Александр надеялся создать себе право на ее благодарность и положить начало примирению, а, может, и прочной дружбе с нею. Таким образом, императоры по-старому стараются тайком оспаривать один у другого позиции, которые дадут им возможность наблюдать друг за другом и успешно вести борьбу. Как только в этой непрерывной игре Наполеон делает какой-нибудь ход, Александр тотчас же протягивает руку, чтобы использовать его во вред своему противнику. Всячески добиваясь склонить на свою сторону Польшу и Австрию, он старается завладеть и Швецией; но в этот раз, далеко шагнув вперед в двуличии, он прикрывает свои происки личиной уступчивости, желанием угодить императору. Просьба Франции об услуге дает ему случай не только не оказать ей услуги, но даже повредить ей.
Чернышев уехал в Стокгольм в последних числах ноября. Чувствуя, что выступает на первые роли, что значение его возрастает, в восторге от поручения, отвечавшего его вкусам и талантам, он бодро пустился в путь и храбро боролся с трудностями, которые создавали ему во время его зимнего путешествия и природа, и дурное время года. Во время переправы через залив ему пришлось пробираться между Аландскими островами “частью пешком, по чрезвычайно тонкому льду, частью на лодке”.[633 - Из донесений Чернышева, Sociеtе impеriale d' histoire de Russie, vol. cit. 22 a 48 Te же донесения были опубликованы Арвидом Анфельдом в Revue historique, 1888, II.] Буря задержала его на три дня на пустынном островке, вследствие чего он мог приехать в Стокгольм только ночью с 1 на 2 декабря, страшно измученный и полузамерзший. Оказанный ему в шведской столице прием вернул ему силы. Тотчас по приезде его предупредили, что наследный принц будет очень рад повидаться с ним. Следовало только, чтобы молодой путешественник, по правилам этикета, был сначала представлен Карлу XIII. Чернышев исполнил эту формальность, и тотчас же после аудиенции у короля русский посланник, генерал Сухтелен, проводил его к Бернадоту. Шведский министр иностранных дел Энгерстрем присутствовал при свидании в качестве четвертого свидетеля. Увидев Чернышева, Бернадот тотчас же пошел ему навстречу, бросился ему на шею в буквальном смысле этого слова и несколько раз крепко облобызал. Благодаря присутствию обоих министров, сцена свидания ограничивалась некоторое время этой пантомимой и обычными уверениями в дружбе, но, “когда принц отошел немного от присутствующих”, Чернышев, улучив минуту, намекнул ему, что у него есть к нему поручение, которое должно устранить нежелательное недоразумение по поводу личных чувств русского императора, и что он просит Его Высочество соблаговолить дать ему частную аудиенцию. Крайне заинтересованный, Бернадот назначил свидание на другой день, в воскресенье, после проповеди. (С тек пор, как Бернадот вступил на Шведскую землю, он сделался усердным лютеранином и считал долгом добросовестно соблюдать все обряди религии, которых крепко держались его будущие подданные). Но, с ужасом думай о России, он, не откладывая до завтра, решился осведомить Чернышева со своими взглядами на политику, которой хотел держаться по отношению к ней. Он ничего так не желает, – сказал он, – как поддерживать с Россией наилучшие отношения и никогда не делал ей ни малейших затруднений. “Его Императорское Величество может двинуть свои войска на Восток, на Юг, на Запад”, – Швеция будет спокойна. Швеция отлично понимает, что ее безопасность зависит только от соседнего государства. Она может забыть весь свет, но не Россию. Все это было сказано второпях, полушепотом, но горячим и убежденным тоном. Затем, подойдя к присутствующим, принц “говорил только о безразличных вещах” В воскресенье после проповеди, когда они свиделись без свидетелей в кабинете принца, тот первый заговорил вполне откровенно. Он сказал, что будет говорить, “как с самим собой”. Правда ли, – спросил он, что Россия хочет принудить Швецию к известным решениям? Если это так, то Россия более, чем достигла этого, так как только страх ее вмешательства привел к объявлению войны англичанам – к этому гибельному для страны поступку. Конечно, справедливость требует, чтобы и Швеция “внесла свою лепту в дела континента”. Но отчего же не принять соображение ее положения и ее средств? Более восьми, или десяти месяцев она, не в силах обойтись без доставляемых ей Великобританией колониальных товаров, что же касается конфискации уже выгруженных и сложенных в амбарах товаров, то об этом нечего и думать. Этого не допускают ни уважение к частной собственности, ни законы Швеции. К тому же, Бернадот крайне скептически, относился к мысли воздействовать на Англию применением этих строгих мер. По его мнению, тормоз к установлению всеобщего мира был не в Англии, и, не произнося пока имени Наполеона, а пользуясь только перефразировкой, он дал понять, что главное препятствие к миру заключается “в честолюбии и эгоизме французского правительства”.
Из последней фразы Бернадота, полной задних мыслей, Чернышев понял, что может говорить безбоязненно и что его секретные сообщения встретят радушный прием. В своем донесении царю он говорит: “Подметив истинные чувства принца к Франции и видя, что он по-прежнему откровенен со мной, я сказал ему, что император Наполеон действительно обращался к Вашему Величеству с просьбой поддержать предъявленные им к Швеции требования, но, ввиду того, что со времени Фридрихсгамского мира требования и интересы политики Вашего Величества вынуждают вас желать внутреннего процветания Швеции и сохранения существующих между Россией и Швецией дружественных отношений, вы никоим образом не желаете оказывать давление на волю и решения Швеции, что в этом случае, как и во всех других, она может руководствоваться только своими собственными интересами, без всякой помехи с вашей стороны”.
Едва были произнесены эти слова, как на лице Бернадота явилось выражение величайшего удовольствия, почти восторга; как будто с него свалился тяжкий груз. Он сказал, что теперь ему возвращен покой. Как бы в ответ на полную откровенность Чернышева, он, без всяких околичностей, заговорил о неприятном и тяжелом положении, в какое ставили его французские требования. Разве такого обхождения должен был ожидать он “от государства, которому своей тридцатилетней службой приносил пользу, а, может быть, и честь, разве мог он ожидать чего-нибудь подобного от императора Наполеона, которого изо всех сил поддерживал в известные времена и неоднократно выручал из неприятных и затруднительных положений?” Заговорив на эту тему, он уже не сходил с нее, – и дал заметить и свою беспредельную преданность шведам, и дурные чувства, которые таил в душе против старого товарища по оружию, вcя вина которого состояла в том, что он так страшно обогнал его на пути карьеры, начатой ими в одно время. В этом отношении одна фраза всецело выдала его. “К несчастью, – сказал он, – судьбе угодно было, чтобы из товарища я сделался подданным”. Но, прибавил он, хотя он и простой маршал, он покраснел бы от стыда, если бы ему пришлось рабски подчиняться всем причудам деспотического характера; тем более он не должен переносить “подобных нагоняев” теперь, когда доблестная нация оказала ему честь, избрав его своим главой. Не довольно ли и того, что он привез в подарок шведам разорительную войну. Далее он говорил, что его мучит мысль, что он так дурно отплатил Швеции за здоровье, что эта мысль составляет несчастье его жизни; что он никогда не утешится. Его высокопарные и пылкие выражения, свойственные южанам оживленные жестикуляции, напыщенная речь, до гасконского произношения включительно, от которого он никогда не мог отделаться – все это придавало еще более пикантности странным признаниям, которые с наслаждением выслушивал Чернышев.
Видя, что Бернадот заговорил без удержу, Чернышев не прерывал его и только изредка вставлял свое слово с целью добиться от него еще более важного признания. Вскоре, как бы желая отблагодарить императора Александра за благосклонно-сочувственное отношение к его тяжелому положению, в особенности за то, что тот входит в его положение, и, сильнее подчеркивая сказанное им накануне, Бернадот сказал, что от своего имени и от имени шведского правительства обязуется честным словом: “ни при каких обстоятельствах не предпринимать ничего такого, что мало-мальски могло бы причинить неудовольствие” Его Величеству, императору, всей России. Он сказал, что не примет участия ни в чьих распрях, никогда не будет действовать заодно ни с Польшей, ни с Турцией, даже тогда, когда инициатива враждебных действий будет исходить от Петербурга. “Его Императорское Величество может вести войну с Константинополем, Веной или Варшавой, и Швеция не шелохнется. Жить всегда в единении с Россией – вот ее единственная цель”. С этих пор Россия должна смотреть на нее “как на свой верный сторожевой пост”, и верить, что новый наследный принц “стал человеком, всецело преданным Северу”. Такими речами, продолжавшимися в течение двух часов, Бернадот преисполнил сердце Чернышева радостью и надеждой. В заключение, желая сделать еще шаг к сближению, он пригласил Чернышева на другой день позавтракать запросто, вдвоем.
В период этих разговоров французский представитель в Швеции бессознательно оказал содействие планам Чернышева и облегчил его задачу. Барон Алькиер был человек деятельный, с твердым характером. К несчастью, как бывший член Конвента, где он подавал голос за самые гнусные меры, он сохранил от своего якобинского прошлого оттенок резкости и нетерпимости. Он был груб в обращении, обладал полным отсутствием такта и в придачу ко всему этому сохранил замашки члена народного Конвента. Вместе с тем, дурно сложившаяся семейная жизнь и незаконная семья, которую он привез из Неаполя в Стокгольм, не позволили ему бывать в свете, где, по своему положению, он должен был играть выдающуюся роль. Это ложное положение, причинявшее ему немало страданий, делало его еще более желчным и раздражительным. Из-под вышитого мундира дипломата в нем проглядывал характерный, своенравный революционер, и, что еще хуже – революционер ожесточенный. Его слова дышали надменностью, язвительностью и задором; он только тем и занимался, что бранил правительство и страну, при которых состоял представителем.
О наследном принце он говорил в совершенно неприличных выражениях. Он охотно допускал, что “принц добрый малый, добрый человек и не без талантов”, но с южной, горячей, “вулканической головой”. Он говорил, что принц легко поддается самым разнородным внушениям, что у него на дню семь пятниц, никакой последовательности в мыслях; полное или почти полное отсутствие характера – ничего такого, что требуется от него, как от человека, на долю которого выпала задача овладеть положением в тяжелые времена и подавить волнения, сделавшиеся в Стокгольме хроническими и заставляющие думать “о временах террора во Франции”. Принц, говорил он, никогда не сумеет восстановить порядок хорошим государственным переворотом, а, между тем, это единственное “что могло бы спасти Швецию”. Шведов же Алькиер считал народом легкомысленным, заносчивым, пустомелями и называл “северными гасконцами”. Впрочем, он признавал, что положение их отчаянное, что полный разрыв с Англией поставит их в самое бедственное положение, и не скрывал, что в инструкциях ему предписано требовать почти невозможного. Тем не менее, говорил он, раз такова воля императора, следует, чтобы невозможное свершилось. Он говорил это всякому встречному и более всего Чернышеву. Чтобы доказать, что Франция располагает Россией, он делал вид, что состоит в самых близких отношениях с эмиссаром русского двора, относился к нему с полным доверием, – что было громадной ошибкой с его стороны, – и распространял по городу, что флигель-адъютант царя приехал исключительно с целью вразумить упрямую Швецию.
Своими оскорбительными речами, которые не оставались неизвестными Бернадоту, он, без всякого повода, без всякой надобности, обижал и раздражал принца. В тот день, когда Чернышев завтракал у Бернадота, тот, лишь только сели за стол, “выслал лакеев” и тотчас же в выражениях, полных горечи, намекнул на слова французского посла и на приписываемые им России намерения. Видя, как он расстроен и удручен, Чернышев счел это обстоятельство чрезвычайно удобным, чтобы повторить свои утешительного свойства сообщения и постарался посильнее подчеркнуть их значение, ибо, думал он, при данных условиях они должны произвести еще большее впечатление. Поэтому он еще раз сказал, и положительно утверждал на все лады, что Россия никогда не примкнет ни к каким принудительным и суровым мерам против Швеции; что его государь нарочно прислал его, чтобы, полагаясь на скромность принца, передать ему свое непоколебимое решение.
При этих словах, вполне успокоившись, вне себя от радости, Бернадот не знал, как выразить свою благодарность. Он придумывал, как бы придать большую цену вчерашним уверениям. Накануне он дал честное слово никогда ничего не предпринимать против России, теперь же он давал клятвенное обещание и заговорил уже о письменном обязательстве. В дальнейшем разговоре он выставлял себя жертвой Наполеона. Его чрезмерное, мешавшее ему верно смотреть на вещи, тщеславие заставляло его иногда делать наивные промахи. Так он додумался до того, – и не на шутку воображал это, – что император завидует ему. – Император, – сказал он, – всегда обставлял его так, чтобы погубить его, что “император очень заботился, чтобы одной славой на свете было меньше. Если он так сурово относится к Швеции, то, конечно, делает это не только из желания властвовать над всем миром, но также и “из чрезвычайного нерасположения к нему”, из желания напакостить и сделать неприятное ему, Бернадоту. А между тем, сколько услуг оказал маршал Бернадот своему бывшему главе? Из каких только затруднений не помогал ему выкручиваться? Он неумолкаемо говорил о своей самоотверженности, о своем бескорыстии, и все его слова клонились к тому, чтобы доказать, что Наполеон был ему всем обязан и всегда платил ему черной неблагодарностью. Но, – сказал Бернадот, возвращаясь к прежней теме разговора, – тона, принятого с недавнего времени со Швецией, нельзя допускать во второй раз, и, воодушевляясь мало-помалу, опьяняясь своими собственными словами, он не удовольствовался обещанием России доброжелательного нейтралитета, а дошел до того, что начал строить предположения о разрыве и войне с Францией. Он скорее готов “с честью погибнуть с оружием в руках, – говорил он, – но не позволить унизить нации, которая избрала его своим вождем. Если Россия не вмешается в дело, император Наполеон не будет в состоянии добраться до нее, да если бы он и смог сделать это, посмотрим еще, чью сторону возьмут французские солдаты, раз они будут на шведской территории. Солдаты хорошо знают его, любят и уважают; он командовал ими во многих случаях и может до известной степени рассчитывать на них”.
“В это время, – прибавляет Чернышев в своем донесении, – разговор был прерван, и принц, которому нужно было ехать на парад, пригласил и меня. Перед фронтом Чернышев увидал снова того блестящего генерала, которого знавал в армии на Дунае, вождя с осанкой Марса, с орлиным взглядом, с развевающимися по ветру густыми волосами. Что его особенно поразило в Бернадоте, так это полная непринужденность, с какой он вошел в свою новую роль. Ничто не давало в нем чувствовать случайного человека; ни одного неверного или неуместного движения. С спокойным достоинством делал он смотр войскам, прекрасно держал себя перед собравшимся народом, принимал прошения, раздавал деньги бедным, принимал почести и приветствия, как будто был рожден царствовать.
Бернадот расстался с Чернышевым только для того, чтобы отправиться к королю, которому оказывал самое глубокое почтение. На другой день он снова пожелал повидать русского офицера. На этот раз он оставил его у себя завтракать и обедать. Ввиду того, что Чернышев не мог дольше откладывать своего отъезда в Париж, принц, прежде чем окончательно расстаться с ним, передал ему одно письмо для, императора Наполеона, другое – принцессе Полине. В первом он просил небольшой отсрочки для выполнения своих обещаний, во втором просил принцессу Полину быть его заступницей. Он просил и Чернышева оказать ему в Париже ту же услугу, т. е. взять под свою защиту его дело, ознакомить императора с печальным положением Швеции и просить снисхождения. Дело в том, что пока еще он боялся держать себя вызывающе с Наполеоном, и одну из причин, заставивших его отложить ссору, он не скрыл от своего нового друга. “Принц, – писал Чернышев, был настолько откровенен, что сказал мне, что вынужден сдерживать себя, ибо Швеция так бедна, что ему необходимо извлечь из Франции все свое имущество до последнего франка.
Но эта благоразумная осторожность не помешала ему, несколько минут спустя строить самые геройские планы. Пусть Наполеон, – говорил он, воздержится от нападения на Швецию; он может наткнуться “а вторую Испанию. “Если воодушевить шведов и талантливо руководить ими”, их можно сделать непобедимыми – и Бернадот уже видел себя укрывшимся в северных льдах, окруженным верным народом, подающим миру великий пример твердости и отваги.
Придумав для себя эту блестящую роль, он хвастливо рисовался в ней перед своим слушателем. Несмотря на то, что увлекаясь пылким воображением и страстью к хвастовству, он позволял себе иногда строить и развивать подобные планы, в нем было слишком развито понимание истинного положения вещей, чтобы серьезно останавливаться на своих мечтаниях. Осторожный и предусмотрительный, несмотря на свое фанфаронство, он думал про себя, что по всей вероятности, и для усыновившего его отечества, и для него лично ссора с Францией будет менее опасна, чем ссора с Россией; что они могут оставаться даже в выигрыше, и в этом-то отчасти и был секрет его поведения. По его мнению, предполагая даже, что победоносная война вернет шведам Финляндию, успех этот будет слишком кратковременным. Он будет только поводом к целому ряду войн, и победа, в конце концов, останется за тем, у кого больше батальонов, т. е., за государством, располагавшим сорока миллионами человек против четырех. Наоборот, если Швеция примирится с потерей Финляндии, если она бесповоротно откажется от мысли вернуть свои потери на континенте, если ограничит свои задачи Скандинавским полуостровом и на нем спокойно будет расширять свои владения, она не только обезоружит вражду своей грозной соседки, но и приобретет в ней покровительницу, и, таким образом, обеспечит безопасность своей единственной незащищенной границы. Устранив себя от Европы и ее великих дел, она поставит себя в более скромное, но зато более верное положение, положит начало своему спокойствию в будущем, не отказываясь, однако, от права получить немедленно весьма ценные возмещения. Не выгоднее ли ей искать не реванша, а компенсации? Вместо того, чтобы упорно смотреть на Восток – на Финляндию, отчего не обратить свои взоры на Запад – на Норвегию, которая как бы сама собой напрашивается ей в вознаграждение? По приезде в Стокгольм Бернадот в главных чертах предусматривал этот план, который ему пришлось осуществить впоследствии и который дал ему случай сыграть в истории роль не столько славного, сколько полезного деятеля.[634 - См. донесение Чернышева.] Но он не смотрел еще на этот план, как на нечто непреложное. Склонный преувеличивать значение своих наблюдений, Чернышев, без сомнения, зашел слишком далеко, донося в Петербург, что император Александр отныне же мажет располагать наследным принцем и вертеть им, как ему угодно.[635 - Id.] Как человек практичный, Бернадот будет считаться с обстоятельствами и руководствоваться их указаниями. Во всяком случае, корда наступит для него время окончательного решения, главную роль будут играть два элемента, с которыми он сроднился: политическая идея и страсть. С одной стороны, создавшееся в его уме представление об истинных интересах Швеции, с другой – ненависть к Наполеону всегда будут давать сильный перевес в пользу России! Быть может, Чернышев и заблуждался, приписывая уже теперь непреодолимую силу этим двум двигателям, но он отлично подметил и тот и другой двигатель, и, по всей справедливости, мог похвастаться, что не только подметил, но и сумел воспользоваться ими. Для этого стоило пожертвовать несколькими днями и задержать доставку письма, в которой Александр отвечал на требования Франции вежливо, но уклончиво.
III
Еще задолго до приезда Чернышева Наполеон из других источников узнал, что Россия откажется присоединиться полностью к его системе ведения войны. В последних числах октября Куракин передал ноту, в которой его правительство, вместо того, чтобы высказаться по двум вопросам – о тарифах и нейтральных судах – ограничилось неопределенными обещаниями содействия и утверждения строгого надзора за судами. В это время с Севера прибыли знаменательные вести. Часть собравшихся в Балтийском море судов, полное число которых дошло теперь до тысячи двухсот, выгрузили свою кладь в России. Громадный транзит товаров по-прежнему шел через Россию, наводнял колониальными товарами великое герцогство и снабжал ими Германию. Под впечатлением этих фактов Наполеон приказывает приготовить ответ на ноту Куракина. Он хочет, чтобы он был составлен “крайне вежливо и мягко”, но содержал в себе “истины, которые не мешали бы знать России”[636 - Corresp., 17099.]. В нем, в весьма энергичной форме будут воспроизведены все наши доводы и наши просьбы, и в заключение будет сказано: “Доколе английские и колониальные товары будут идти через Россию в Пруссию и Германию, доколе мы будем вынуждены задерживать их на границах, до тех пор будет очевидным и тот факт, что Россия не делает того, что надлежит, дабы нанести вред Англии”.[637 - Id.] Набросав план этой ноты, император поручил Шампаньи оформить ее, как вдруг в первой половине ноября получил отчет о разговорах Александра с Коленкуром, в которых царь принципиально высказался против поголовного изгнания нейтральных судов. По этому заявлению о невозможности согласиться на его просьбы, которое как бы заранее служило ответом на его письмо, он понял, что ему сказано достаточно. Теперь он потерял всякую надежду на то, что его выслушают с должным вниманием и исполнят его просьбы и понял, что Россия никогда не поможет ему доконать Англию.
На этот раз он затаил гнев. Ускорение разрыва не было в его интересах, поэтому он сдержался и скрыл свои чувства. К тому же, сознавая, что у него нет законного основания быть требовательным и что Россия, отклоняя его просьбы, не давала ему никакого права выразить ей свое неудовольствие, он воздержался и от жалоб. Мало того, отказываясь от надежды убедить Александра, он счел бесполезным продолжать и обострять спор, который мог привести преждевременно к раздору. Он переделывает и сокращает приготовленную Куракину ноту, превращая свою горячую просьбу в простую декларацию принципов.[638 - См. по этому поводу Archives nationales, AF, IV 1699, переписку Шампаньи с императором.] У него не вырывается ни одного слова, которое могло бы выдать его враждебное настроение. Он решил, что, когда увидит Чернышева, он “сдержанным тоном, не высказывая ни малейшего гнева”, скажет ему, что считал своей обязанностью ознакомить русского императора “с единственным способом покончить с англичанами, но так как император Александр считает, что этот способ не отвечает интересам его страны – что, может быть, вполне справедливо – он уже не придает ему столь важного значения”.[639 - Донесение Чернышева, Sociеtе Impеriale d'histoire de Russie, XXI, 54-55.] Если, думает он, России для того, чтобы успокоиться насчет наших намерений, нужны только фразы о миролюбии, он не откажет ей в этом удовольствии, на то и Коленкур в Петербурге, чтобы говорить их. Только ради этого он и оставляет там своего посланника, который неизменно пользуется благосклонностью царя.[640 - Шампаньи Коленкуру, 5 декабря 1810 г. “Император приглашает вас ничем на пренебрегать, чтобы укрепить и надолго упрочить за собой расположение, которое вам оказывают: в этом заключается теперь единственная цель вашей миссии”.] Но не ожидая уже ничего от России, он при достижении цели своими единичными усилиями совершенно перестанет считаться с интересами и обидчивостью Александра. Для борьбы с Англией он без всякого стеснения будет распоряжаться всеми странами, которые занимает своими войсками или удерживает за собой. Он всюду будет действовать сообразно своим необузданным теориям, будет кроить королевства, перемещать границы, распределять и размещать человеческий материал, как будто он знает, что его смелые нововведения еще сильнее вооружат против него Россию, то он немедленно же станет приводить их в исполнение – прежде, чем мир с Портой вернет войскам царя полную свободу действий. Если после мира на Востоке, который, вероятно, будет заключен в течение будущего года, император Александр будет держаться пассивного положения, если он безропотно примирится с тем, что он будет делать, он предоставит его одиночеству и займется исключительно Англией. Но он считает более вероятным, что, развязавшись с Турцией, Россия открыто перейдет на сторону наших врагов, – если только они до тех пор не сложат оружия, – что тогда она сбросит маску с своих враждебных намерений; но к этому времени он и сам успеет усилить свои войска в Германии и восстановит свою великую армию. Тогда в его распоряжении будет огромное количество людей, неизмеримо более того, что он до сих пор вводил в дело; столько войск, что их вполне будет достаточно, чтобы навсегда устранить Россию с европейской сцены или силой заставить ее снова вступить в союз. Мысль, что неизбежно придется кончить этим, что ему предстоит решительная кампания на Севере, представляется ему, как завершение его трудов, и властно овладевает его умом. Теперь перспектива этой кампании, мысль о которой только по временам приходила ему на ум, все ярче выступает из-за нынешних его предприятий. Она непрерывно растет, поднимается над горизонтом и во все более ярких чертах обрисовывается и выступает в тумане будущего.
В настоящее же время Наполеон считает нужным самовластно пустить в ход целый ряд жестоких мер. Он положительно неистовствует в деле захватов и накладывает самую суровую опеку на те страны, куда ему важно не допускать англичан, или откуда необходимо изгнать их. Что касается Юга, он находит, что наступил удобный момент для окончательного подчинения Испании. На окраине полуострова Массена занял, наконец, Португалию. Он прогнал армию Веллеслея, прошел мимо Каимбры, овладел господствующими над Лиссабоном позициями, и, по последним известиям, находился в пяти милях от Лиссабона. Конечно, трудно судить о ходе и оборотах военных операций, скрытых за густой цепью гор, откуда могли доходить только смутные и преувеличенные слухи об ожесточенной борьбе. Тем не менее, Наполеон ежеминутно ждет известий, что Массена занял Лиссабон, что Веллеслей сел со своими войсками на суда и что Португалия очищена от неприятеля. В надежде на такой благоприятный исход дела, он предписывает правительству в Мадриде начать переговоры с мятежными кортесами Кадикса и в последний раз потребовать от них признания французской династии и Байоннского договора. За это признание он готов согласиться не нарушать целости Испании, в противном же случае, в наказание за ее сопротивление, он просит расчленить Испанию, присоединить к Франции северные провинции, и с высоты своих перенесенных до Эбро границ, всей своей тяжестью налечь на изувеченную Испанию. Склонный по складу характера вести сразу много дел, он желает, чтобы одновременно с покорением полуострова были приняты решительно меры на Северном и Балтийском морях. Откладывая до сих пор, из желания не портить отношений с Россией, решение участи ганзейских городов и прилегающих к ним территорий, теперь он решает присоединить их к своей империи. Это решение созрело в нем уже 14 ноября, через три дня после получения им отказа Александра применять к нейтральным судам выработанные им правила, но об этом решении Европа должна узнать только через месяц из опубликованного сенатского решения.
Он замещает своих консулов и командующих войсками в Бремене, Гамбурге и Любеке префектами, иначе говоря, подменяет оккупацию присоединением; он ставит в суровые тиски своей администрации те страны, на которые до сих пор распространялась только сфера его влияния, и надеется таким путем отнять у Германии всякую возможность стремиться к независимости. Он думает, что тогда ему легче будет использовать для морской борьбы соединенные под его властью страны, легче будет поднять против врага другие народы и выставить против него новые силы. Главным же образом, он хочет доказать англичанам, что каждый их отказ вести переговоры, каждое проявление упрямства будет стоить им бесспорного бедствия, будет сопровождаться окончательным закрытием какого-нибудь необходимого для их торговли рынка. Весной он объявит им, что единственное средство спасти Голландию и ганзейские города – это немедленное заключение мира. Лондонский кабинет остался глух к этому предостережению, Голландия была присоединена. Недавно на совещаниях в Морлеи по поводу обмена пленников, во время переговоров, которые могли привести к переговорам о мире, английское министерство проявило только злую волю и неуступчивость. Следовательно, необходимо, чтобы угроза была приведена в исполнение, чтобы немецкие гавани постигла участь Голландии, чтобы господство Франции на побережье распространялось непрерывно, роковым образом сокрушая на пути все преграды, по мере того, как англичане будут упорно распространять и удерживать за собой исключительное господство на морях. Такое поступательное движение вперед, положенное Наполеоном в основу своих действий, приводит его к поступкам, которые являлись вызовом человеческому разуму и здравому смыслу. Он доходит до того, что хочет создать чудовищную по размерам империю, уродливую по форме и величине, состоящую, сказал бы я, из двух рук, из которых одна начиналась у Альп и Рейна и протягивалась вдоль побережья Средиземного моря за Рим включительно, а другую проектировалось протянуть по немецкому побережью в виде узкой полосы французских департаментов от острова Текселя до Любека. Этими руками он хотел охватить центральную Европу, изолировать ее от англичан, устроить из всего побережья континента один непрерывный фронт для обороны и нападения, и, выпустив декрет об отлучении от мира Британских островов, подвергнуть их строгой и правильной блокаде. На Юге он может, не наталкиваясь на сопротивление, подвигаться вперед, сколько ему угодно, так как на своем пути он встречает только слабосильные, безвольные, уже подчинившиеся его влиянию народы. На Севере же, стоит ему сделать еще один шаг вперед, – и он натолкнется на препятствие, на единственное, способное к сопротивлению государство, оставшееся в целости от стертой с лица земли Европы, т. е. на Россию. Уже одним тем, что он довел до Балтики свои границы, он наносит безопасности России удар, более сильный и более серьезный, чем все предыдущие.
Нужно сказать, что присоединение побережья носило в самом себе зачаток прямого конфликта с Россией. Для того, чтобы придать нашим новым владения больше устойчивости, необходимо было подвергнуть участи ганзейских владений и некоторые другие территории, которые должны были служить для связи и округления наших владений и для непрерывности береговой границы. Для этого нужно было отрезать от Вестфальского королевства и от великого герцогства Бергского их северные провинции, и, сверх того, проглотить некоторые княжества, которые, благодаря чресполосице германских государств, были вкраплены в страны, подлежащие аннексии. Среди маленьких государств, предназначенных к экспроприации, лежало, между прочим, герцогство Ольденбургское – узкая полоса земли между восточной Фрисландией и Ганновером, прилегавшая на севере к широкому устью р. Яде, уже занятому и укрепленному нашими войсками, Ольденбург был удельным владением древнего дома, который состоял в родстве с домом Романовых. Теперешний герцог был дядей императора Александра, который мог смотреть на Ольденбург, как на фамильную собственность. Дойдет ли Наполеон до того, чтобы поступить с протеже царя, с его родственником, так же, как и с соседними князьками? Решится ли отнять у него его владения, назначив ему денежное вознаграждение или пенсию, и лишив таким образом царя прав на его фамильную собственность?
Не желая причинять неудовольствия императору Александру, он не прочь был сделать исключение в пользу Ольденбурга. Сначала он остановился на мысли пощадить герцогство. Он хотел окружить его нашими владениями, нашими таможнями и, включив в нашу военную и фискальную систему, иначе говоря, заточив и замуровав его в своей империи, предохранить от всякого общения с Англией. Но такое нарушение общего правила он допускал только скрепя сердце. Получавшийся вследствие этого перерыв нашей морской границы не отвечал его принципам, мозолил ему глаза. Несколько дней спустя он решил, что герцог, вероятно, не откажется обменять призрачную верховную власть на более прочное положение в другой части Германии. В ожидании сенатского решения по поводу ганзейских городов, он приказал рассмотреть вопрос об Ольденбурге, а сам тем временем подыскивал, где бы найти равнозначащее владение, и остановился на мысли, что таковым мог бы быть Эрфурт с прилегающими к нему землями. Это составляло шестую часть герцогства “по поверхности, третью по населению и немного более половины по доходности”.[641 - Донесение Шампаньи императору от 10 декабря 1810 г. Arhives des affaires еtrang?res, папка с делами, относящимися к герцогству Ольденбургскому.] В случае надобности, прибавка соседних земель могла бы дополнить разницу.
13 декабря было издано сенатское решение. В нем санкционировалось присоединение Голландии и объявлялось о присоединении немецкого побережья, не входя пока в подробности о тех странах, которые подлежали присоединению. В то же время император объявил – и даже приказал написать об этом своему посланнику в России, – что герцогу Ольденбургскому придется сделать выбор между двумя решениями: или остаться на месте и согласиться на те ограничения его верховных прав, которые будут связаны с учреждением французских таможен, или же отказаться от своего герцогства и получить взамен Эрфурт.[642 - Шампаньи Коленкуру, 14 декабря 1810 г. Cf. Bignon, IX, 362.] Особому послу поручено было предложить герцогу вторую комбинацию, но давалось понять, что его воля ни в коем случае не будет стеснена и что он свободно может выбрать любое из двух.
В действительности же, эта оговорка была простой формальностью. Император не сомневался, что его желание будет принято за приказание. Но оказалось, что герцог, смотревший на себя, как на временного владельца, не счел себя в праве распоряжаться родовым имуществом своего дома. Он предпочел приятной с виду местности Эрфурта бедные пески, которыми издревле владели его предки. Он просил разрешения остаться в Ольденбурге, при каких бы то ни было условиях. В кротких и почтительных выражениях он отклонил обмен.
[643 - Archives des affaires еtrang?res, Oldenbourg et Confеdеration du Rhin.] Между тем, французские власти, исходя из общих выражений сенатского решения и не сомневаясь в согласии герцога на обмен, появились в герцогстве, отстранили местную администрацию и завладели денежными кассами. Герцог протестовал во имя своего признанного самим императором права, теперь дерзко попираемого. Но Наполеон не допускал, чтобы протест вассала – какого-то маленького члена Конфедерации – мог задержать развитие его господства и принудить Францию к отступлению. Он разрешил затруднение, которое не удалось ему распутать, как истинный самодержец. 22 января 1811 г., он подписал декрет, в котором приказывалось: вступить во владение Ольденбургом, права же герцогской семьи перенести на Эрфурт.
Этим грубым поступком он нарушил 12-ю статью тильзитского договора, в которой говорилось, что герцоги Ольденбургский Саксен-Кобургский и Мекленбург-Шверинский “каждый в отдельности будут восстановлены в полном и мирном владении своими государствами”. Правда, не желая ускорять конфликта, он велел сделать герцогу Виченцы запрос о средствах смягчить неудовольствие в Петербурге;[644 - Шампаньи Коленкуру, 14 ноября 1810 г.] но, поддавшись слепому убеждению, что воля его должна быть законом всему миру, он оказался в результате виновным пред Александром в неуважении к нему лично, в нанесении ему ничем не вызванного и совершенно не нужного явного оскорбления, которого нельзя было ни оправдать, ни извинить.
Но 31 декабря 1810 г., за три недели до вышеизложенного, еще до получения Александром известий о присоединении ганзейских городов и об опасности, угрожавшей Ольденбургу, царь, без всякого повода со стороны Наполеона, первый открыто нанес удар союзу. Это произошло в области торговых интересов, к которым Наполеон относился особенно чутко и подозрительно. В Тильзите, по 27-й статье опубликованного договора, обе договаривающиеся стороны обязались: вперед до заключения торговой конвенции восстановить экономические сношения в том виде, как это было до войны. Это значило временно ввести в действие договор 11 января 1787 г. – единственный договор, который до того был заключен между Францией и Россией. По этому акту, который был одним из последних и наиболее полезных успехов королевской дипломатии, наши произведения в России пользовались в некоторых отношениях привилегиями и были обложены весьма умеренными пошлинами. Восстановление этого договора в 1807 г., в связи с обязательствами против Англии, считалось в Петербурге одной из причин острого кризиса, наносившего ущерб материальным интересам и благосостоянию народа, ибо, вследствие прекращения торговли с Лондоном, Россия не могла сбывать произведений своей страны, тогда как ввоз французских товаров по суше принял весьма широкие размеры. Французские товары состояли, главным образом, из дорогих предметов роскоши, приобретение которых уносило из России громадное количество звонкой монеты, которая не возмещалась, как в нормальное время, деньгами, получаемыми от морского экспорта. Торговый баланс, – говоря языком и ссылаясь на доктрины того времени, страдал от этих ничем не вознаграждаемых потерь. Советники царя по финансовой части приписывали этой причине сильное понижение курса, которое разоряло нацию и тревожило правительство. В конце 1810 г. Александр уступил убеждениям своих советников и изменил это положение самовластной мерой, не считаясь с тем, как это могло отразиться на политических отношениях России. Не посоветовавшись с Наполеоном и не предупредив его, он приказал комитету из сведущих людей выработать, а затем опубликовать знаменитый указ, в котором по переделке всех таможенных ставок, главный удар наносился Франции, причем положение, установленное договором, изменено было простым указом.[645 - Правда, что акт 1787 г. был составлен на двадцать лет. Но разве по статье Тильзитского договора не подразумевалась отсрочка его на неопределенное время?]
По этому указу, товары, ввозимые по суше, т. е. французские, были обложены суровыми, а некоторые даже запретительными пошлинами. В случае проникновения их в Россию путем контрабанды, приказано было сжигать их. Это было равносильно объявлению Франции экономической войны, – самой жестокой и самой несправедливой из войн. Что же касается привозимых морем товаров, т. е. не французских, то указ в принципе ставил их в лучшие условия и ни в коем случае не присуждал к истреблению, если они попадали путем контрабанды. Конечно, своя рубашка к телу ближе, правда, и то, что применение новых тарифов не касалось государств, с которыми Россия вела войну. Для них безусловный запрет сохранял, по-прежнему, силу закона, так что гавани, как и прежде, были закрыты товарам бесспорно английского происхождения, но, по толкованию указа самим Александром[646 - Письмо, опубликованное Татищевым, 647 – 552.] благоприятствующие постановления этого акта применялись к торговле, которая происходила на бортах нейтральных и специально американских судов, т. е., к той торговле, на которую Наполеон смотрел, и не без основания, как на самую доходную статью британской торговли, и считал необходимым не допускать ее. Следовательно, указ покровительствовал Англии за наш счет. Торговый разрыв с Россией становился для нас еще тяжелее, благодаря облегчениям, допущенным в пользу наших соперников. Новый таможенный режим вдвойне оскорблял чувство тесной солидарности, которая официально лежала в основе отношений между Францией и Россией. В наши дни один государственный человек сказал: “Экономическая война несовместима с политической дружбой”. Насколько же она не была совместима в те дни, когда Наполеон старался на экономической почве сломить упорство англичан, когда он на эту почву перенес центр тяжести борьбы, в которой хотел заставить всю Европу принять участие! Отдалиться от нас на этой почве и сделать шаг навстречу нашим врагам значило резко подчеркнуть наступившее разногласие в интересах, полную противоположность основных начал политики и пред лицом всего мира отречься от союза.[647 - См. текст указа в Moniteur'e от 31 января 1811 г.]
Таким образом, Наполеон и Александр на протяжении двадцати дней, независимо друг от друга, – так как указ Александра не может быть рассматриваем, как ответ на деспотические поступки Наполеона, – дошли до того, что нарушили букву договора, от духа которого уже давно отреклись. Они почти бессознательно приблизились к естественному результату, т. е. к неизбежному концу предпринятого ими в разных направлениях движения, которое в течение десяти месяцев удаляло их друг от друга. Оба сдерживали себя до тех пор, пока видели в союзе средство обеспечить себе взаимные поблажки. Они допускали этот тормоз, потому что в их руках был еще рычаг к нему. Теперь же, когда Наполеон потерял надежду на активное содействие России против Англии, а Александр отказался от возможности полностью удержать за собой княжества, они приходят к убеждению, что их обязательства частью погашены, частью потеряли свою силу, они видят в них только ненужные, просроченные векселя и инстинктивно хотят избавиться от них. Теперь, во всех своих заявлениях и действиях, Наполеон руководствуется только тем, что ему удобно и желательно. С своей стороны, и Александр считает нужным мало-помалу освободить свой народ от навязанных ему лишений, хочет дать свободу подавленным страстям, знати, предоставить ей снова занять прежнее положение, позволить ей высказывать ему свои мысли и диктовать свои желания.
В то время, к описанию которого мы подошли, смелость царя можно приписать еще одному особому обстоятельству. Начатые шесть месяцев тому назад военные приготовления были закончены. Россия была готова к войне. Между тем как Наполеон думал, что все ее боевые силы заняты на Дунае и что у нее нет свободных войск, ей удалось под прикрытием непроницаемой тайны с неимоверными усилиями сохранить в секрете свою деятельность, мобилизовать и сосредоточить около своей западной границы двести сорок тысяч войск. Александр знает, что списочный состав войск весь налицо, что магазины сформированы, снаряды и провиант припасены. Он знает, что в его распоряжении “вполне организованные”, в полной боевой готовности двадцать одна дивизия пехоты, восемь дивизий кавалерии и тридцать два казачьих полка. Итого, две армии, из которых одна стоит на первой линии, другая – с резервом в сто двадцать четыре тысячи человек – на небольшом расстоянии позади первой, присоединится к ней по первому сигналу.[648 - Цифры, приведенные самим Александром в двух письмах к Чарторижскому. Mеmoires du prince, II, 254 и 271. В донесении Жозефа де-Местра даются, точно такие же сведения. Corresp., III, 540.] Против себя, по ту сторону границы, царь видит только пятьдесят тысяч поляков герцогства, за ними сорок шесть тысяч французов, разбросанных по крепостям или размещенных в нижней Германии, окруженных весьма сомнительными союзниками. Он знает, что раньше нескольких месяцев Франция ни в коем случае не может объявить ему войны, следовательно, он может, не подвергаясь немедленной опасности, открыто заявить о своем экономическом отложении.
Даст ли он Наполеону время подготовить средства к мести и отомстить? Отложит ли он делающуюся неизбежной войну до тех пор, пока завоеватель развяжется с Испанией, пока тот соберет воедино все свои войска, создаст новые армии, займет снова Германию и сплотит против России всю Европу? Теперь, когда превосходство сил может возместить неравенство талантов, не предписывается ли русским самим благоразумием сделаться предприимчивыми и смелыми, не следует ли им воспользоваться своим преимуществом, постараться выиграть во времени и броситься на не готового к бою противника? Действительно, имея в своем распоряжении средства, собранные в видах обороны, Александр поддался искушению употребить их для нападения. От горделивого сознания, что в этот раз в материальном отношении он сильнее Наполеона, что он лучше его вооружен, что он в состоянии напасть первым и напасть внезапно, царь приходит в восторженное состояние, – он опьяняется этой идеей; у него кружится голова. Мысль поднять Европу против Наполеона, желание самому стать во главе ее, мечта заменить гнет Франции благодетельной гегемонией России – все это охватывает его ум, приводит в трепет его душу. План – хитростью вторгнуться в Польшу, который уже несколько месяцев тому назад зародился в его уме, теперь начинает быстро зреть и достигает полного расцвета. Случай кажется ему слишком подходящим, чтобы отказаться от мысли использовать его, чтобы не воспользоваться особенно благоприятным стечением обстоятельств, и мы наблюдаем, как в течение нескольких дней он решает от приготовлений к делу перейти к самому делу.
8 января 1811 г., девять дней спустя после указа, узнав о присоединении ганзейских городов, но не зная еще о захвате Ольденбурга, т. е., о частной, нанесенной лично ему обиде, он поверяет свой план своему другу, и его переписка с Чарторижским, которая никогда не прекращалась, принимает совершенно новый характер. Она становится на определенную почву и приобретает совершенно новое значение. Теперь он не ищет советов, не высказывает смутной идеи, не предлагает ее на обсуждение своего друга. Напротив, он ставит целый ряд вопросов, на которые требует определенного ответа и поверяет ему вполне готовый план.