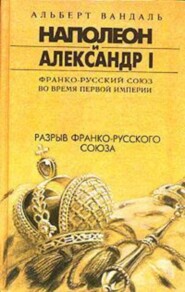По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Второй брак Наполеона. Упадок союза
Автор
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Главным образом, Александру хотелось как можно скорее узнать что-либо определенное. Он желал, чтобы Наполеон был поставлен в необходимость сказать да или нет, и послал Куракину соответствующие инструкции. Подгоняемый и подшпориваемый своим правительством, старый князь должен был поднявшись с одра болезни, ломиться в дверь герцога Кадорского, жившего во время путешествия императора в Париже, и добиваться ответа, которого приказано было не давать ему. Он надоедал своими визитами министру, которому нечего было сказать ему. Он то подвергал его правильной осаде, не жалея ни своего времени, ни своих трудов, то ходил на приступы, после которых возвращался домой совсем измученным, он считал себя героем, а, между тем, был только в тягость. По возвращении из Фландрии, которое имело место 1 июня, Наполеон с неудовольствием увидел грустную и жалкую фигуру этого посланника, с удрученным видом пришедшего вести надоедливый разговор. Он приказал Шампаньи сказать ему, “что все его путешествие до такой степени было посвящено заботам внутренней администрации, что он вынужден был отложить в сторону все, что имело отношение к внешней политике”.[473 - Шампаньи Коленкуру, 12 июня 1810 г.]
В Париже Наполеон застает и Меттерниха, – изящного, живого, сумевшего с каждым днем делаться все более полезным и почти необходимым. Даже в домашней жизни императорской четы ему стали отводить некоторую роль, прибегая к его услугам и посредничеству в интимных и деликатных случаях. Наполеон по-прежнему относился к Марии-Луизе с беспредельным вниманием, нежно, почти боязливо. Ему хотелось бы давать ей некоторые наставления, выработать в ней черты, которые требуются ее ролью императрицы, направлять ее неопытные шаги, но так, чтобы не было властного тона, чтобы это не носило характера замечаний, дабы не уподобиться ворчливому мужу”.[474 - Memories de Metternich, I, 106.]
Он стеснялся сам давать ей указания и воспользовался для передачи ей своих советов ловкостью и искусством Меттерниха. Он думал, что австрийский министр, которого императрица знала много лет и очень ценила, был предназначен самой судьбой для выполнения обязанностей авторитетного и в тo же время скромного советника. Через него-то Наполеон и убеждал Марию-Луизу не доверять просителям и интриганам, быть менее доступной, уклоняться от просьб своих приближенных, когда те захотят предcтавить или рекомендовать ей кого-либо, не доверять протекции своих любимцев, не покровительствовать их родственникам “и всевозможным кузенам”.[475 - Id, 1, 105.]
Притом он ничего не имел против того, чтобы был очевидец его внимания к императрице и чтобы об этом давался отчет в Вену, более того, он хотел, чтобы черты и особенности его характера, на которые, между прочим, неоднократно указывалось в сообщениях Меттерниха, выставили его в ином свете и опровергли его репутацию ужасного человека. Однажды утром он назначил Меттерниху свидание в гостиной императрицы. Там он оставил их вдвоем и, уходя, запер двери и положил ключ в карман. Спустя около часа он вернулся и, смеясь, спросил: “Хорошо ли побеседовали? Что, очень бранила меня императрица? Что она – смеялась или плакала? Я не спрашиваю у вас ответа: это ваши секреты, не касающиеся третьего лица, хотя бы то был муж”. На другой день, отведя Меттерниха в сторону, он непременно хотел узнать, что говорила ему императрица, и так как Меттерних не сразу ответил, томя его своим молчанием, он сказал: “Вероятно, императрица сказала вам, что она счастлива со мной, что ей не на что жаловаться. Надеюсь, вы скажете это вашему императору, и он поверит вам более, чем другим”.[476 - Id.]
В этой отчасти навязанной ему роли поверенного обоих супругов Меттерних вел себя тактично, избегая подавать повод к упрекам в нескромном вмешательстве и интригах. “За исключением приемных дней и других более или менее торжественных случаев”[477 - Id.] он не являлся к императрице без особого приглашения, да и то всегда ждал, чтобы император сам пригласил его. С другими членами императорской семьи он стеснялся гораздо менее. Обласканный сестрами императора, он, чтобы понравится им, пустил в ход все свои обаятельные таланты, которыми щедро наградила его природа. Блестящий собеседник, изящный, “хорошо сложенный, всегда со вкусом одетый”,[478 - Неизданные документы.] он умел изобретать игры и приятные развлечения, – на что его русский коллега совершенно не был способен, – и, благодаря этому, занял выдающуюся роль в интимной жизни принцесс. Этот в высшей степени светский человек, привыкший к успехам в свете, которые любил ради них самих и которых страстно добивался, видел в них одно из средств политической деятельности и пользовался своим привилегированным положением при дворе и среди близких к императору лиц, чтобы получить возможность от времени до времени беседовать с ним. Тогда он, как бы помимо воли, направлял разговор на деловую почву. Превосходно обо всем осведомленный, следя за всеми фазами переговоров о Польше, он ловил Наполеона в благоприятную минуту, – в те часы, когда тот особенно был недоволен Румянцевым, и, давая ему случай говорить а русских, старался еще более усилить его раздражение. Неудовольствие императора возрастало уже из-за того только, что он находил с кем поговорить по душам. При случае Меттерних, искусно вставлял свое слово, замечание, но такое, которое еще более разжигало разлад. В конце концов он начал говорить о Востоке, как будто одной Польши не было достаточно, чтобы довести до ссоры. Возвращаясь к этому вечному вопросу, он, чтобы вернее разъединить Францию о Россией, начал мало-помалу коварно выдвигать его вперед, внедряя его, подобно клину, между ними.
Скоро для этого представился вполне подходящий случай. Из только что полученных свежих известий о Дуная стало известно, что военные действия между русскими и турками, прекратившиеся зимой, возобновились с наступлением весны, и война началась в четвертый раз. Россия, недостаточно энергично ведшая и плохо закончившая последнюю кампанию, готовилась начать новую, имея в виду употребить в дело подавляющие силы. Она хотела во что бы то ни стало покончить с Турцией, завершить блестящим ударом тянувшуюся из года в год войну и, предписав Порте мир острием своей шпаги, добиться от нее бесспорного права владения провинциями, которые были предоставлены ей в Эрфурте. Все наводило на мысль, что турки, продержавшиеся в предыдущем году только благодаря благоприятному для них стечению непредвиденных обстоятельств, не устоят пред более мощным, искуснее направленным ударом и подчинятся закону, предписанному победителем. Договор, который будет им продиктован, очевидно, закрепит за Россией присоединение княжеств и, быть может, доставит русским и другие выгоды.
В Вене с грустью предвидели этот исход войны, считали его гибельным для австрийской монархии, но неизбежным. Тем не менее, австрийские министры были убеждены, что дать другое направление событиям зависит только от одного человека, что одно слово, един жест Наполеона вернее оставят русских, чем все вооруженные полчища, которыми располагал великий визирь. Почему бы, думали они, не обратиться к верховному вершителю европейских судеб, почему не попробовать добиться от Наполеона, чтобы он взял назад уступки, сделанные Александру, и, таким образом, теперь же извлечь пользу из создавшегося нового положения? Разве присоединение русскими княжеств не наносит вреда интересам Франции, равно как и интересам Австрии? Ведь в этом случае могли понести серьезный ущерб все государства, для которых поддержание равновесия на Востоке вошло в традицию или сделалось необходимостью. Поэтому, вскоре после путешествия, Меттерних обратил внимание императора на это обстоятельство.
– “Вы сами виноваты”, – ответил Наполеон, – и, приподнимая завесу над переговорами в Эрфурте, он указал, что, хотя Австрия и не присутствовала на знаменитом свидании, она в значительной степени обусловила его результаты; что ее вооружения, ее враждебные выходки, почти нескрываемое намерение объявить нам войну заставили нас по необходимости прибегнуть к содействию России и были причиной наших обязательств. Австрия сама создала свою судьбу. Она своим поведением вызвала “полученное императором Александром обещание, что он, Наполеон, не будет противиться присоединению княжеств к России”.[479 - Mеmoires de Metternich, II, 361.] Наполеон долго говорил об этом историческом вопросе, выражая при этом сожаление, “что был насильно выбит из своей колеи, которая несравненно более отвечала интересам Австрии и Порты, чем интересам России”.[480 - Id.] “Но разве нельзя поправить дела? – заметил Меттерних. Зло еще не свершилось, ибо русские пока еще не добились от Порты акта об уступке. Почему бы Франции и Австрии не сговориться, не вмешаться теперь же в восточные дела, и не направить их к такому решению, которое возможно более приближалось бы к положению дел, существовавшему до войны?”
Хотя и в замаскированных выражениях, это значило просить императора отречься от сделанного Александру подношения.
Здесь Наполеон прикинулся глухим. И было отчего. Австрия, правда, нерешительно, в виде намеков, но просила его не более, не менее, как о том, чтобы он разорвал торжественный акт и оскорбительным образом нарушил клятву. Этот поступок стал бы для русских справедливым и непосредственным поводом к конфликту. Если, в силу своего раздражения против России, он и мог пойти на разрыв с ней, тем не менее, он вовсе не был намерен умышленно стремиться к этому и, главным образом, не желал открыто брать на себя вину. Он дал понять Меттерниху, что у него просят невозможного. Но, предвидя, что ему нужны будут союзники в том, уже не казавшемся ему невероятным, случае, если бы Россия совершенно отстранилась от нас, он не хотел лишать Австрию надежды сойтись с ним, не хотел отваживать ее искать у него поддержки и потому не лишил ее надежды на общую с ним деятельность. Возвращаясь к своим дотильзитским мыслям, он указал, на то, что вопрос о сохранении Турции может послужить в недалеком будущем пунктом для сближения обоих государств: что, может быть, теперешний успех русских заставит другие государства прийти к соглашению для предупреждения более решительных успехов. Рассматривая присоединение княжеств, как факт уже совершившийся, он сказал: “Это-то расширение России и создаст в один прекрасный день основу для союза между Францией и Австрией”[481 - Mеmoires de Metternich. II, 361.]. Хотя он все еще откладывал австрийский союз как преждевременный и в данное время ненужный, тем не менее, в виду могущих произойти в будущем случайностей, он держал его в запасе.
Между тем, откровенность Меттерниха настроила его доверчиво. Увлекаясь страстью говорить и высказывая более, чем следует, он не скрывал уже своей все усиливающейся неприязни к России. Правда, он все еще притворяется, что отделяет императора Александра от его кабинета, и, браня Россию, не бранит царя. Когда ему приходится говорить о нем, он говорит без озлобления, но тоном пренебрежительной жалости. “У императора, – сказал он, – добрые намерения, но ведь он ребенок”. Привилегия воспламенять его гнев и служить мишенью его острот всегда остается за канцлером. Наполеон считает его пустым мечтателем, блуждающим “в заоблачных сферах”, неспособным разобраться в положительных возможностях, на которых строится политика. Он жестоко нападает нa Румянцева, перечисляет все, что у него накопилось против него, намекает даже на дело о браке, на теорию, высказанную Румянцевым по поводу брачных союзов. С чувством горечи вспоминает он об этом деле, и тем самым показывает, что рана, нанесенная его самолюбию, все еще кровоточит. В заключение он переходит к польскому договору и отстаивает все свои положения. С трудно объяснимой болтливостью, увлекаясь страстью повторять при всяком удобном случае сильные и картинные выражения, в которые он облекал свои мысли, увлекаясь желанием повторять придуманные им остроты и понравившиеся ему образные выражения, он и в разговоре с Меттернихом употребляет те же выражения, как с Шампаньи и Коленкуром: “Чтобы сказать, что Польша никогда не будет существовать, мне нужно быть Богом! – сказал он ему. Я могу обещать только то, что могу исполнить, Я не сделаю ни одного шага для ее восстановления… но я никогда не соглашусь на обязательство, выполнение которого не зависит от меня”. И, все более горячась и волнуясь, он делает крупную ошибку, давая заметить Меттерниху, заинтересованному в том, чтобы поссорить его с русскими, насколько их требования по польскому вопросу сердят его и выводят из терпения.
Однако нужно же когда-нибудь кончить с этим докучливым делом, которое вот уже скоро три месяца ждет решения. Ввиду того, что Коленкур не нашел ни “уловки”, ни приличной отговорки, а Россия по-прежнему настаивает на ответе на свой контрпроект, Наполеон берется, наконец, за доставление его. Он требует от Шампаньи заготовленную для передачи Куракину, до оставшуюся пока под сукном, ноту, прочитывает ее, обдумывает и переделывает. Все более склоняясь к мысли увернуться от всякого рода договора, он, как лукавый подьячий, думает поднять дело о полномочиях. Куракин не скрывал, что он не уполномочен допустить какое-либо изменение в представленном им тексте. Раз это так, то, по мнению Наполеона, не служит ли такое ограничение его полномочий помехой к успешному продолжению договоров? С какой стати разговаривать с бесправным посланником? Наполеон хочет, чтобы этой нотой Куракин был поставлен в необходимость точно высказать, до чего простирается его компетенция. Впрочем, он не решается еще бесповоротно сослаться на неприемлемость русского проекта, он только ведет к этому. Он согласен, чтобы в ноте были изложены вся суть и все подробности вопроса и чтобы в ней достаточно сильно были подчеркнуты его возражения. Это само собой вынуждало Россию к ответу, и, следовательно, не исключалась возможность прийти к соглашению.[482 - См. Archives nationales, AF, IV. 1699, разные конспекты, ноты и письма, написанные по этому поводу Шампаньи императору.] Он только что собирался формулировать окончательную редакцию, как из России прибыли новые курьеры.
Глубоко огорченный, оскорбленный его молчанием, Александр перестал уже ждать ответа на контрпроект и окончательно счел это молчание за недостаток внимания со стороны Наполеона. Слишком проницательный, чтобы не разобраться в довольно грубых хитростях, слишком гордый, чтобы жаловаться, он перестал настаивать и молчать; но его манера держать себя была полна значения.
По внешности, в его отношениях с нашим посланником не произошло никакой перемены. Он так же был доступен, так же приветлив, обращение его носило тот же характер сердечности и дружбы, как и прежде. Герцог Виченцы сохранял при дворе все свои преимущества, сопровождал императора на всех смотрах и маневрах, а в установленные дни обедал во дворце.
Когда посланник давал бал – Их Императорские Величества вменяли себе в обязанность показываться на балу и “оживляли его своим присутствием”[483 - Донесение Коленкура № 92, 23 мая.]. Его разговоры с Александром были так же часты, продолжительны и дружественны, как и прежде; разница была только в том, что они вращались теперь исключительно около вопросов, чуждых политике. На воскресном параде Александр говорил только о военных вопросах. С некоторым самодовольством указывал он ему на успехи своей армии с тех пор, как ввел в нее нашу систему обучения. Он обратил его внимание на своих солдат, избавившихся от “немецкой одеревенелости”; говорил, что сделал гибкими этих автоматов и дал им ловкую и вольную походку наших французов. Он был доволен, что покончил с “бесполезной стеснительностью старых прусских правил”, что во всем последовал нашему примеру, и с любезностью, далеко не искренней, прибавил, “что соединенные французские и русские войска могли бы сразу же маневрировать вместе – и ни в строю, ни в выполнении маневров не было бы заметно ни малейшей разницы”.[484 - Донесение Коленкура № 96, 29 июня.] В своем кабинете он охотно рассказывал герцогу о событиях при дворе и в свете, об интригах и скандалах. Коснулся даже своих интимных огорчений: говорил о горе, которое причинил ему окончательный разрыв с Нарышкиной. Он тщательно отмечал разницу между Коленкуром, своим личным другом, пользующимся его полным доверием, и Коленкуром, общественным деятелем, послом иностранной державы, и с каждым днем это различие становилось все ощутимее. Когда же Коленкур пытался прервать ледяное замалчивание царем политических вопросов и заговаривал об обстоятельствах, которые могли бы извинить наши проволочки, – одна улыбка, один жест давали понять, что его собеседника не проведешь подобными доводами. Александр тотчас же обрывал разговор на эту тему. Письма посланника, в которых он отдавал отчет о свои аудиенциях, бывшие прежде такими содержательными и объемистыми, неизменно состояли из нескольких фраз в таком роде: – 25 апреля. “Его Величественно удостоил меня продолжительной беседы, но не о делах политики. Он говорил со мной только о событиях в большом свете”. – 13 июля. “12-го я опять имел честь видеть Его Величестве на больших маневрах гарнизона. Он соблаговолил встретить меня с обычной благосклонностью и добротой, но не говорил со мной о делах”.[485 - Письмо к Шампаньи и донесение № 87.]
Иным было доведение Румянцева. Румянцев говорил много, жаловался гораздо больше своего государя, быть может, потому, что был более искренен, менее разочарован, не свыкся еще с мыслью о разрыве с Францией и все еще старался отделить истинные намерения нашего правительства от неясностей и противоречий нашей политики. Чтобы вырвать у Наполеона ответ, он прибег к уже применявшейся им плохо придуманной системе. Без сомнения, уместнее всего было бороться с непростительным молчанием императора твердой, полной достоинства настойчивостью по существу самого спора, т. е., договора. Румянцев предпочел действовать окольным путем – путем упреков и обвинений.
С некоторого времени он был встревожен и возмущался слухами и случайными разговорами, доходившими до него из Варшавы. Жители Варшавы с их обычным бахвальством и показным бравированием продолжали носиться со своими патриотическими надеждами и во всеуслышание предсказывали крупные события. Польша – по наблюдениям наших агентов – по преимуществу страна ложных известий. В легкомысленных умах ее обитателей воспринимается всякий звук, усиливается там, как в резонаторе, и затем, как эхо, разносится по всем направлениям. Ничтожнейшие события порождают вздорные мысли, которые прорываются наружу потоком дерзких речей. Варшава, снова ставшая столицей, была одним из тех городов в Европе, где более всего разглагольствовали. Светская жизнь приняла там свой старинный блеск; открылись многочисленные, кипящие деятельностью салоны; обольстительные женщины своими речами разжигали умы, и в этой блестящей и шумной среде, среди удовольствий и интриг, периодически рождались известия о войне, о предстоящих переменах, о близком и полном восстановлении Польши. Местные и иностранные газеты подхватывали эти слухи, выпускали сенсационные статьи, которые принимались к сведению теми, кому надлежало считаться с этим. Наполеон был чужд этим нелепым разговорам и статьям. Он даже порицал их, когда они доходили до его сведения. Не желая силой зажимать рот полякам, так как его двусмысленное положение по отношению к России все более вынуждало его поддерживать с ними добрые отношения, он, тем не менее, убеждал их быть спокойными и иногда жестоко распекал. Несмотря на это, Румянцев, вооружаясь всем, что говорилось и писалось в Польше или по поводу Польши, без согласия и часто без ведома императора Наполеона, хотел взвалить всю ответственность на него. Он вменяет ему в вину и слова, которые говорятся варшавскими дамами, и известия, которые попадаются в немецких газетах, и во всем этом отыскивает материал для бесконечных язвительных замечаний. Имея в своем распоряжении действительные поводы к жалобам, он ссылается на дурно обоснованные или вздорные, он выставляет обвинения, на которые очень нетрудна ответить, и которые, не принося никакой пользы делу, могут только портить отношения. Чтобы заставить Наполеона заговорить и объясниться, он постоянно наносит уколы его самолюбию, отпускает на его счет мелочные, но колкие и несносные остроты и изо всех сил старается раздразнить его едкими замечаниями и обидными намеками.
Сперва он говорит, что удивлен и огорчен тем, что в некоторых французских газетах снова встречаются для обозначения герцогства Варшавского и варшавской нации слова “Польша” и “поляки”. Затем он указывает на статью, появившуюся в Gasette de Hambourg. В этой весьма распространенной в Европе газете, которую читали, главным образом, в канцеляриях, в рубрике о Варшаве было упомянуто о появившемся слухе о восстановлении Польши. Эти строки были напечатаны в городе, занятом нашими войсками, а потому спрашивается: нужно ли считать такой факт за официальное поощрение запретных упований? Вот что спрашивают Румянцев и сам Александр, и они выслушивают от имени Наполеона ответ в успокоительном, но, вместе с тем, и пренебрежительном тоне.
“Император с огорчением узнал, – заставляет Наполеон писать Шампаньи, – какое важное значение придает император Александр статье – я не знаю, какой, – в Gasette de Hambourg. Разве русскому государю не известно, что, несмотря на надзор правительства, множество ложных слухов, ежедневно распространяемых газетами, являются следствием агитации; что эти газеты или находятся под влиянием Англии, или служат отголоском спекулянтов? Что удивительного, если подобная статья ускользнула от надзора Бурьенна (тогдашнего консула в Гамбурге), который, к тому же, не состоит цензором печатаемых в Гамбурге газет: он видит их только по выходе, и, следовательно, не может предупредить подобных неблаговидностей; он может только выразить свое неудовольствие редактору и лицам, стоящим во главе правительства. Но очевидно, что статья, в которой объявляется о восстановлении Польского королевства, до такой степени нелепа, в особенности, в глазах агентов Его Величества, – которые отлично знают, что вся политика императора состоит в том, чтобы поддерживать континент в его теперешнем состоянии и направлять его во всей его совокупности против Англии, – что ни один из них не мог предвидеть, чтобы подобная вызывающая улыбку сожаления, статья могла обеспокоить великую державу, и причинить неудовольствие другу и союзнику Франции”.[486 - Шампаньи Коленкуру, 18 мая 1810 г.]
Несколько дней спустя – новая тревога. Канцлер волнуется из-за брошюры, появившейся в герцогстве, написанной в национальном польском духе и подписанной именем, малоизвестным во Франции, но популярным в Варшаве, неким Коллонтаем, бывшим незадолго до этого одним из сподвижников Костюшки. Наполеон узнает об этой брошюре только благодаря тревоге, которую забила Россия. Он приходил в гнев, видя, что ему ставят в вину и это происшествие. “Герцог Кадорский, – пишет он своему министру, – я желаю чтобы вы поговорили с князем Куракиным по поводу письма герцога Виченцы от 29 мая. Скажите ему, что меня огорчили слова, сказанные графом Румянцевым герцогу Виченцы. Скажите ему что ни в одной французской газете не говорится о Польше, что я не имею никакого понятия о Коллонтае, что я не читал его брошюры, которая и не появлялась здесь, и что мне говорят о вещах, свалившихся с неба”.[487 - Неизвестное письмо. Archives nationales, AF. IV, 910.]
Это письмо ясно выдает все усиливающееся раздражение императора. Сквозь его выражения, которые делаются все более резкими, чувствуется, как нарастает, как бурной волной поднимается его гнев. Но он еще сдерживает себя, и, ввиду того, что Россия придает столько значения тому, что печатается и издается, он приказывает, чтобы в статье Journal de l'Empire уличили во лжи и хорошенько пробрали немецкие газеты, распространившие ложные слухи или употребившие запрещенные выражения.[488 - “Корреспонденты периодических изданий в Германии, – говорится по этому поводу в официальном органе, – обладают большой плодовитостью и выдумывает разные побасенки для зaбавы своих читателей и, как видно, в этом отношении жители берегов Эльбы не уступают в легковерии уроженцам берегов Гароны…” Номер от 18 июня.] Сверх того, 30 июня, в заметке, помещенной в Moniteur'e, еще раз подтверждается тесный союз обеих империй.
В этот же самый день к Шампаньи является Куракин и говорит, что ему поручено сделать важное сообщение. Ну, что такое? Князь читает длинное письмо Румянцева. В нем ему предписывается: “безотлагательно навести справки по поводу “договора, или, вернее, по поводу все более распространяющихся слухов о намерении императора Наполеона восстановить Польшу”. В этот раз обвинение имеет положительное основание. На чем же основано оно? Как и всегда, на толках некоторых газет, на слухах, на сплетнях, гуляющих по Варшаве. Вот на каких данных основываются подозрения России, и Наполеону приходится выслушивать сомнения в его слове, которое он столько раз и так торжественно давал!
От чувства досады и неудовольствия император переходит к нескрываемому, бурному и неудержимому гневу. Вечные жалобы, которые звенят в его ушах, как назойливый припев, становятся ему ненавистны. Его выводит из терпения эта тяжба, которую ведут с ним, преследуя совсем не ту цель, о которой говорят, и уж если Румянцев так упорно создает из всего повод к жалобам на него, даже ставит ему в вину агитацию, о которой ему ничего не известно, “делает его ответственным за газетные статьи, написанные за двести лье от Парижа или за брошюры, которые никогда не будут известны во Франции, равно как и их авторы”,[489 - Corresp. 16181.] то, в таком случае, он восстановит ответственность той и другой стороны и своим грозным ответом заставит замолчать Россию. В эту минуту он не старается уже ни скрывать своей досады, ни притворяться. Он становится великим, но забывает о дипломатическом искусстве. В достойном сожаления припадке высокомерия и ярости, он разоблачает свою политику и необдуманно высказывает свое мысли.
1 июля утром, в присутствии Шампаньи, явившегося к нему с докладом о представлении Куракина, он говорит о России, затем диктует письмо герцогу Виченцы и приказывает, чтобы его выражения были дословно переданы герцогу, дабы этот чересчур кроткий и мягкий посланник имел в этом послании руководство для своих речей, и знал, как нужно говорить с русскими. Итак, он сам, через избранного посредника, надлежащим образом ответит России. Он хлещет ее обидными словами, осыпает жестокими упреками; он перечисляет свои уступки, свои благодеяния; напоминает, что взамен он получил только двусмысленную поддержку до австрийской кампании, смехотворное содействие во время войны и теперь, в довершение всего, ни на чем не основанные жалобы, “достойные смеха намеки и оскорбительные подозрения”. И говоря, что его не сумели оценить, что на него клевещут, он вполне искренне убежден в этом. По склонности, свойственной цельным и гордым натурам, он обращает внимание только на ту сторону вопроса, в которой считает и чувствует себя неуязвимым. Не желая вспомнить, что его поведение, его затяжная игра, предоставленная полякам свобода действий – все это неоднократно давало право к подозрениям: он сосредоточивается на своем собственном я, на своих истинных намерениях, а в этом отношении, – нельзя не признать этого, – брошенное ему в лицо обвинение, в тех определенных выражениях, в каких оно высказывается, безусловно несправедливо. Конечно, говорит он, если Россия своими враждебными поступками создаст для него из восстановления Польши стратегическую необходимость, если она вынудит его восстановить Польшу, – он сделает это; но он не намерен восстанавливать Польши по собственному почину, у него нет такого умысла; он не сделает этого из принципа, по неправильно понимаемому чувству благородства, по донкихотству – последнее выражение он повторяет до пресыщения. Он не имеет ни малейшего желания с легким сердцем углубляться на Север, пускаться на громадное крайне рискованное предприятие только ради того, чтобы разбивать цепи чуждого ему народа, исправлять преступление прошлого века и приобретать себе славу без всякой выгоды для своей империи. Не было и нет государя, более далекого от мысли начать войну из-за идеи. Такой взгляд на вещи до такой степени не соответствует его исключительно практической и деловой манере смотреть на политику, что он не допускает, чтобы ему могли приписывать таковой без задней мысли. Наконец, он задает себе вопрос: искренна ли Россия в выражении своих страхов. Ему думается, что, под покровом ее слов, он видит затаенную, предательскую заднюю мысль. Не хочет ли Россия, напрашиваясь на ссору с ним, подготовить предлог бросить его; не хочет ли вернуться к Англии? Собрав плоды союза, не думает ли она отказаться от обязательств? Ну что же! Результатом ее измены будет война. Он откровенно, без обиняков и уверток, может сказать это, и слово – война, впервые брошенное России, сверкает в его речи, как блеск шпаги.
“Чего добивается Россия подобными речами? – восклицает он. – Войны, что ли? Откуда ее постоянные жалобы? К чему эти оскорбительные подозрения? Может быть, Россия хочет подготовить меня к своей измене? В тот же день, когда она заключит мир с Англией, я начну с ней войну. Разве не она собрала все плоды от союза? Разве Финляндия – предмет столь долгих вожделений и столь упорной борьбы, о приобретении хотя бы частицы которой не смела даже мечтать Екатерина II, не сделалась русской губернией на всем своем обширном протяжении? Разве, без союза, Валахия и Молдавия остались бы за Россией? А мне что дал союз? Предотвратил ли он войну с Австрией, из-за которой пришлось отложить все дела в Испании? Разве успехи этой войны обусловливались союзом? Я был в Вене прежде, чем сформировалась русская армия, – и, однако же, я не жаловался; значит, – не нужно жаловаться и на меня. Я не хочу восстанавливать Польши; я не хочу идти себе на погибель в ее бесплодные пески. Я должен жить для Франции – для ее интересов, и не возьмусь за оружие ради интересов, чуждых моему народу, если только меня не вынудят к этому. Но я не хочу обеспечить себя заявлением, что Польское королевство никогда не будет восстановлено; не хочу уподобляться Божеству и делаться смешным; не хочу запятнать моей памяти, утверждая своей подписью и печатью этот акт Макиавеллевской политики; ибо сказать, что Польша никогда не будет восстановлена, значит больше, чем признать ее раздел. Нет! Я не могу взять на себя обязательства поднять оружие на людей, которые мне ничего дурного не сделали, которые, напротив, хорошо служили мне и постоянно выказывали доброжелательство и глубокую преданность. Ради их собственной выгоды, ради России, я убеждаю их быть спокойными и покорными; но я не объявлю себя их врагом; скажу французам: вы должны проливать вашу кровь, дабы отдать Польшу в рабство России. Если я когда-либо подпишу, что Польское королевство никогда не будет восстановлено, это будет значить, что я имею намерение восстановить его. Это будет западня, которую я поставлю России, и позор подобного заявления будет заглажен поступком, который докажет, что мое заявление было обманом. Я старался удовлетворить Россию: ей послан заранее утвержденный договор. В нем заключалось все, что вполне разумно я мог обещать и что мог исполнить, в нем было даже больше того, чего имели права просить у меня; он так же хорошо удовлетворял своей цели, как первый и второй проект договора. Но Россия все-таки настаивает на своем проекте – по причинам, мне не понятным. Мне кажется, что это борьба из-за самолюбия. Все рассудительные люди согласны, что даже по выражениям, это – один и тот же договор, и сами русские того же мнения. Если бы захотели унизить меня, диктуя мне свою волю, не могли бы найти для этого лучшего средства, как предписать мне те же выражения, в которых я должен подписать акт, цель которого мне чужда, на который и соглашаюсь только из снисходительности и в котором для меня нет ни выгоды, ни необходимости”.[490 - Corresp., 16181.]
Но решится ли Наполеон в подтверждение своих жестких слов резко порвать со спором о договоре и просто-напросто взять обратно свои предложения? Может быть, ввиду того, что он предполагает у России враждебные поползновения, он откажется выдать ей обязательство в какой бы то ни было форме, и не даст ей против себя оружия? Однако, по мере того, как он диктует, он, видимо, смягчается и даже говорит о постоянстве своих чувств. “Хотя, диктует он, император недоволен заявлениями, которые делаются ему со стороны России, а также их тоном, он, тем не менее, твердо стоит за союз; он всегда шел прямо и без колебаний… По отношению к России император остается тем же, каким был все время с момента тильзитского мира”.[491 - Id.] Что же касается договора, он “согласен допустить некоторые изменения, но не омрачит своей памяти бесславным поступком”.[492 - Id.] Кончая диктовать, он сказал, что через несколько дней отправит Куракину ответную ноту. К несчастью, роковая случайность вынуждает его снова отложить передачу этой бумаги, вследствие чего откладывается на некоторое время и развязка, которой с таким мучительным нетерпением ожидали в России. Благодаря тому же несчастному случаю, гневу его предоставляется время созреть и принести плоды.
По возвращении Их Величеств в Сен-Клу, празднества и балы по случаю брака, прерванные на время пребывания в Компньене и путешествия на Север, возобновились. Париж, армия, принцы, иностранные представители поочередно старались оказать императорской чете всевозможные почести и придумывала развлечения. 10 июня был бал в городской ратуше с бенгальскими огнями и большой иллюминацией; 14 – сельский праздник у принцессы Полины в ее садах в Нейльи; 24 – гвардия дала бал в военном училище. Повсюду давались разнообразные развлечения, всюду веселились; небывалая роскошь и великолепие дошли до неслыханных размеров. Известно, что конец этого упоительного времени омрачился печальным событием и как бы зловещим заревом озарил будущее.
1 июля князь Шварценберг давал большой бал в своем отеле в улице Прованс. Отель по этому случаю был превращен в волшебный замок. На балу, которого ждали как крупного события, присутствовали в полном составе двор, высшее парижское общество и дипломатический корпус, во главе которого блистал почти выздоровевший князь Куракин. Их Величества по своем прибытии присутствовали в саду на представлении пасторали, а затем смотрели аллегорические картины, которые были поставлены в танцевальном зале, на устроенной из досок, роскошно убранной коврами и драпировками, эстраде. Вдруг загорелась одна из декораций, поставленная слишком близко к группе свечей. В одну минуту вся зала была в пламени. Наполеон вышел с императрицей, поддерживая и успокаивая ее. Он удалялся спокойно, неторопливыми шагами, стараясь сохранить свое достоинство и подать другим пример хладнокровия. Позади него собралась толпа. Приглашенные давили друг друга, не смея опередить его. Вдруг из этой обезумевшей от нетерпения и ужаса толпы раздался возглас: “Скорее!” Император ускорил шаг, повинуясь анонимному призыву. В этом зрелище, где непобедимый человеческими армиями Цезарь отступал перед возмутившейся стихией, перед надвигавшимся на него пламенем, – древний Цезарь, может быть, усмотрел бы знамение и прообраз будущей катастрофы. Отведя императрицу в безопасное место, Наполеон вернулся туда, где была наибольшая опасность, и вступил с нею в бой. Он организовал борьбу с пожаром, приняв меры для спасения остальных, нетронутых еще огнем частей дворца, затем для розыска жертв, погребенных под развалинами рухнувшей постройки. К несчастью, пострадавших было много. В числе их одним из первых был поднят князь Куракин со страшными ожогами на голове, лице и руках.[493 - “Я видел, и как будто в теперь еще вижу, – пишет в cвоих Воспоминаниях покойный герцог Бродли, – бедного, искалеченного подагрой, осыпанного брильянтами князя Куракина; вижу его огромную тушу, барахтающуюся под дымящимися обломками, и вместе с ним генерала Гюло, брата жены маршала Моро, старавшегося своей единственной рукой освободить его испод них” I. 118.]
Таким образом, этот до конца злополучный человек сходил со сцены в ту минуту, когда его присутствие было особенно нужно, когда он должен служить передаточной инстанцией наших последних предложений. В продолжение двенадцати дней жизнь его была в опасности, и, само собой разумеется, французский кабинет должен был воздержаться от всяких деловых отношений с ним. В этот промежуток времени император предавался размышлениям. Возмущение его против России возрастало с каждым днем, и, в конце концов, он остановился на мысли не касаться требований Александра по существу, а ограничиться только вопросом о полномочиях. В приготовленной Куракину растянутой ноте он приказал прибавить несколько коротких и сухих строк. “Нижеподписавшийся желает знать, – писал министр иностранных дел под его диктовку, – имеет ли посланник необходимые полномочия, чтобы подписать договор, который может – не менее трех других – достигнуть намеченной цели, но в котором некоторые выражения русского проекта, противные обычаям дипломатии, будут заменены равнозначащими. Подобное изменение необходимо, ибо только при этом условии этот акт может сделаться совместимым с достоинством Франции, и в то же время удовлетворить интересы России”.[494 - Arhives des affaires еtrang?res, Russie, 151. Этот документ помечен так: Dictеe de l'Empereur.]
На эту ноту ответил от имени своего больного начальника первый секретарь посольства Нессельроде. Согласно строгим предписаниям своего двора, он заявил, что русский представитель в Париже не уполномочен соглашаться на какую бы то ни было поправку; но, что, во всяком случае, он желает знать, какие изменения желательны Франции, дабы довести их до сведения своего правительства.[495 - Corresp., 16181.] На основании предыдущих слов Куракина, Наполеон предвидел этот ответ. Вызывая его, у него была только одна цель – лишний раз обвинить Россию, заставить ее самое признать, что ее притязания не укладываются ни в какие рамки, что ее политика ни с чем не считается, и – как следствие всего этого – доставить себе предлог окончательно уклониться от обсуждения дела. Лишь только он заручился этим предлогом, он поторопился ухватиться за него, запретил отвечать Нессельроде и приказал прекратить разговор о договоре – “этом предмете стольких споров”.[496 - Archives des affaires еtrang?res, Russie, 151.] Номинально Франция и Россия оставались союзниками, но стоявший между ними польский вопрос подтачивал их доверие, отравлял все их отношения и быстро вел к ссоре. С каждым днем исходный пункт разлада давал себя чувствовать все более; он все более выступал на первый план уже только потому, что громадные усилия, сделанные с целью объясниться и прийти к соглашению, оказались бесплодными.
В этих прениях, вертевшихся около одной фразы, – но фразы, за которой скрывались непримиримые стремления, основы права бесспорно были на стороне Наполеона. Он предложил все, на что позволяла ему согласиться его достоинство и интересы. Он сказал, что согласен отречься от Польши и ни при каких обстоятельствах не оказывать ей помощи. Россия хотела большего. Она хотела, чтобы он сам нанес Польше удар, чтобы он своей рукой доконал нацию, доказавшую ему свою преданность; чтобы он довел ее до окончательного падения, чтобы обязался и за своих наследников; чтобы взял на себя и даже усугубил преступление других, так как даже три поделившие Польшу государства не внесли в договор, что она никогда не оживет. Подобная формула, таившая, быть может, западню, во всяком случае, была нарушением международных обычаев; она не согласовалась с языком, который приличествует государям при постановке условий и заключении договоров. По всей справедливости, по долгу чести, Наполеон, имел право сказать, что подчиниться такому требованию значило унизить свое достоинство и омрачить свою славу. Но нужно признать, что своими неправильными действиями, то уклончивыми, то грубыми, утратившими мало-помалу характер законности, приличия и меры, он сам подорвал значение этих слов. Да и помимо того, его положение вершителя судеб, его обычные злоупотребления силой поставили его вне общепринятых правил, господствующих в международных сношениях, ему не к лицу было приглашать других держаться на почве международного права во всей его строгости после того, как сам он столько раз подчинял его нуждам своей политики, своей алчности, своему неукротимому гневу, Эта истина должна отныне стоять на первом плане при оценке его поступков. Если Наполеон и был прав в большинстве возникавших между ним и Европой вопросов, взятых в отдельности и разбираемых им с тем совершенством и искусством, с какими он один умел ставить и обсуждать их, то, во всей их совокупности, он был не прав, не прав по вездесущности своих притязаний и по огромному количеству дерзких, превосходящих всякую меру предприятий. Все это вполне оправдывало принимаемые против него исключительные меры предосторожности и узаконивало всеобщее недоверие.
ГЛАВА XI. НА ПУТИ К КОНФЛИКТУ
Меттерних пользуется минутой, когда император особенно раздражен русскими, чтобы указать ему на их успехи на Дунае. – Надежды подаваемые Австрии. – Состояние умов в Beне: две партии. – Министерство предлагает союз. – Личное вмешательство императора Франца. – Меттерних просит Наполеона нарушить эрфуртские обязательства и не давай России княжеств. – Отказ Наполеона; причины его честности. – Он запрещает России завоевывать что-либо за Дунаем. – Новые причины его недовольства Румянцевым; жестокие нападки на Румянцева. – Русские в курортах Германии; женская политика. – Русская колония в Вене. – Положение нашего посольства в Вене; аристократическая и светская оппозиция. – Король Вены. – Салон княгини Багратион. – Интриги Алопеуса. – Поццо ди Борго снова выступает на сцену. – Наполеон настаивает на его изгнании и просит отозвать графа Разумовского. Новый проступок русских в Вене. – Жалобы Наполеона; он замещает своего министра и лично берется за перо; ноты, переделанные и исправленные его рукой. – Переселение князя Куракина на дачу. – Разговор императора с братом Куракина. Грозные слова. – Взгляд императора на его отношения к России. – Необходимое условие мира – союз. – Какое впечатление производит на Европу и Россию сопротивление Испании. – Наполеон старается отдалить конфликт на Севере и не отказывается от мысли избегнуть его. – Характер его личных отношений с императором Александром. – Применение более строгих мер в борьбе с Англией; континентальная блокада; приготовления к морским экспедициям; неизменные виды Наполеона на Египет; в 1812 г. он намерен предпринять большую кампанию на морях. – Военные предосторожности в герцогстве Варшавском. – Продолжение русских интриг в Вене. – Тайная и официальная дипломатия. – Фиктивное отречение от Поццо ди Борго; его отправляют с секретным поручением в Константинополь. – Пропаганда в Польше. – Россия втихомолку начинает готовиться к войне: работы на Двине и Днестре; формирование нескольких армий. – Планы обороны и наступления. – Предвидя разрыв, Александр начинает первым готовиться к войне. – Ошибки и деспотизм Наполеона ускорят разрыв.
I
Последняя нота Куракину была продиктована 4 июля. На другой день вечером Меттерних поехал в Сен-Клу и настоял, чтобы его допустили к вечерней аудиенции императора, ссылаясь на то, что должен сделать Его Величеству интересные сообщения. Дело в том, что накануне в посольстве было получено известие, в котором сообщалось, что русская армия на Дунае, перейдя реку, овладела Силистрией, осадила в Шумле великого визиря и смело направилась в центральные части Турции. Авангардные колонны, перейдя Балканы, угрожали Варне. Это и были те важные, прибывшие через Вену из Бухареста известия, о которых император Наполеон должен был узнать прежде всех. Отправляясь в Сен-Клу, Меттерних взял с собой выдержки из бюллетеней, прибывших с театра военных действий.[497 - Mеmoires de Metternich, II, 364.]
Увидя его, Наполеон отпустил всех. При первых же словах австрийца он пошел за картой и принес ее уже развернутой. Булавки, воткнутые в том месте, где находится бассейн Дуная, указывали расположение воюющих сторон и пути следования различных корпусов. Это доказывало, с каким вниманием следил Наполеон за ходом русско-турецкой войны. По данным Меттерниха, он переставил булавки, отметивши таким образом успехи русских. После этого он более четверти часа, не говоря ни слова, рассматривал карту, желая дать себе отчет и хорошенько выяснить новое положение, дабы вывести из него заключение. Затем он сразу поставил диагноз: турки проиграли кампанию. Им остается только подписаться под требованиями победителя. С некоторым волнением он сказал: “Вот и мир! Да, это – мир: турки вынуждены заключить мир. Ну что же! Это значит, как я недавно говорил вам, союз между Францией и Австрией; теперь у нас общие интересы”. И он повторил несколько раз: “Да, вот истинный союз между нами, основанный на общих интересах, – единственный прочный союз”.[498 - Id.]
Между этими сорвавшимися с языка словами и словами, сказанными Австрии в виде простого поощрения три недели тому назад, была громадная разница; и эта разница в словах позволяла оценить, до какой степени в короткий промежуток времени Наполеон отдалился от России; она ясно определяла, какой ужасающий прогресс сделало отчуждение. Было ли дело только за тем, чтобы поймать императора на слове и немедленно согласиться на предложение? Оставалось ли тестю и зятю только условиться о выражениях, в каких следует формулировать принятый в принципе и в сущности уже состоявшийся союз? Дальнейший разговор выяснил, что такое толкование слов императора шло дальше его мысли. Хотя в начале разговора он и выразился в настоящем времени с целью произвести большее впечатление на собеседника, но тотчас же спохватился и далее говорил только о будущем. В настоящее время, сказал он, Австрия должна посвятить себя восстановлению своих сил и спокойно положиться на будущее. Уже одним тем, продолжал он, что установлена общность интересов, сделан большой шаг вперед. Союз состоится; когда нужно будет, это сделается– в этом нет сомнения. И тогда увидят, что брачный союз между высочайшими фамилиями может способствовать их единению, что бы о том ни думали некоторые люди с превратными понятиями. “Румянцев, витая в области всякого вздора, думает, что семейный союз не имеет никакого значения, что даже, наоборот, он должен привести к некоторому охлаждению, будто бы потому, что, поссорившись в один прекрасный день с императрицей, я, естественно, должен буду поссориться в с ее отцом. Он не знает, что император Наполеон никогда не поссорится со своей женой; что он не поссорился бы с нею и в том случае, если бы она во всех отношениях была во сто крат менее достойной, чем это есть на самом деле. Брачный союз значит, много, но, конечно, не все”.[499 - Mеmoires de Metternich, II, 365.] В течение разговора он несколько раз касался вопроса “о более тесных политических отношениях”,[500 - Id.] не выражая, однако, желания тотчас же связать себя подписью, ибо в глубине души всегда ставил союз с Веной в зависимость от того случая, если бы Россия вздумала совершенно отстраниться от него. Видя, что такое предложение делается все более вероятным, он хотел прочнее заручиться имеющейся у него в виду поддержкой. Подавая Австрии более серьезные надежды, он рассчитывал вернее удержать ее за собой, не связывая себя, однако, обязательствами, несовместимыми с теми обязательствами, на которых покоился его союз с Россией и которых он решил не порывать первым.
Между тем, в Вене, по крайней мере, в известных кругах, считали нужным торопиться. Там хотели поскорее приступить к делу и смотрели на союз с Наполеоном, как на неотложную необходимость. Успехи русских произвели в столице Австрии глубокое впечатление. По общему мнению, водворение русских в княжествах будет упрочено и вскоре завершится теперь уже неизбежным миром. Этот захват русских на нижнем Дунае должен был окончательно закрыть все выходы монархии, уже замкнутой на Западе французскими Германией и Италией. Теперь, вслед за Западом, закрывался и Восток, и как ни была подготовлена Австрия к этому результату войны, она возмутилась, видя близкое его осуществление. Окруженная двумя стремящимся к беспредельному расширению империями, сжатая между ними, как в тисках, она испытывала невыносимо тягостное чувство, – и мысль решиться на что-нибудь необычайное, – дабы высвободиться из этих тисков, сохранить за собой выход на Восток и добиться удаления русских с Дуная, приходила многим на ум.
Но как достигнуть этого? Мнения разделились, и на сцену выступил глубокий и жестокий раскол. Высшее общество, по-прежнему враждебно относившееся к Франции, перестало скрывать свои чувства, и, под влиянием графа Разумовского и его партии, возлагало надежду только на откровенное и сердечное объяснение с Россией. Царь, уверяли они, желает только одного – сговориться с Австрией. Появление Алопеуса в Вене как будто подтверждало их слова. Русский агент, про отъезд которого из Петербурга мы говорили выше и с инструкциями которого уже познакомились, только что появился в австрийской столице. Он остановился в ней, и, по неестественным натяжкам, к которым прибегал, чтобы продлить свое пребывание под предлогами частного и семейного характера, – предлогами, слишком прозрачными, чтобы ввести кого-нибудь в заблуждение, нетрудно было догадаться, что Неаполь никогда не дождется его визита и что ареной его деятельности назначена Вена. Он был принят императором и эрцгерцогами, старался втереться к ним в доверие, но, главным образом, стремился “завербовать приверженцев”[501 - Отто Шампаньи, 7 июля 1810 г.] в обществе и салонах и, нужно сказать, имел в этом полный успех. В этом направлении почва для него была отлично подготовлена Разумовским, его другом и старым товарищем. Еще до его приезда Разумовский постарался создать ему репутацию искуснейшего, почти гениального политика; говорил о нем, как об одном из самых выдающихся деятелей русской дипломатии и как о человеке, пользующемся доверием императора Александра. Благодаря таким высоким рекомендациям, Алопеус был принят в самых замкнутых кругах общества. Везде его встречали с почетом, носили на руках. Он разыгрывал роль непримиримого врага Франции, и, не стесняясь, говорил о создании новой лиги для освобождения Европы. Рядом с предметом столь высокого значения, прибавил он, стоит ли говорить о второстепенных интересах на Дунае? К тому же, говорил он далее, император Александр, не отказываясь от своих справедливых требований, желает оберегать интересы Австрии; он готов щадить ее самолюбие и при окончательном соглашении не прочь уступить ей хорошую долю. Отчего бы, говорили наперерыв члены английской и русской партии, не воспользоваться столь счастливыми обстоятельствами, отчего не ухватиться за эту нить и не добиться от царя соглашения на Востоке, пожертвовав союзом на Западе”.[502 - Correspondance de M. Otto, juin-juillet, ao?t, 1810 г., passim.]
Иного, но не менее решительного, мнения, держались лица, которые из принципа или выгоды были на стороне Меттернихов. Они, как и сам министр, верили в пользу кратковременного, но тесного сближения c Францией. В отсутствие своего главы, отец которого был плохим его заместителем, они пошли дальше его намерений. В настоящем кризисе они видели спасение только в Наполеоне. По их словам, следовало, как можно скорее перейти на сторону Наполеона, отдалить его от России и добиться, чтобы он наложил veto на княжества.
Эта партия, не столь многочисленная, как первая, была сформирована из менее высокой общественной среды и со времени брака занимала среди советников императора господствующее положение; она захватила власть, но не имела времени упрочить ее за собой. Несмотря на то, что император Франц вполне искренне оказывал предпочтение Франции, наши противники не пренебрегали никакими усилиями снова овладеть им. Они никогда и нигде не давали ему покоя. Это были самые неугомонные заговорщики против спокойствия монарха, уставшего от политики, любившего тихую спокойную жизнь. Во время недавнего путешествия в Богемию они постоянно приставали к нему с назойливыми советами. То же самое было, когда он поехал на воды в Баден, около Вены, имея в виду поправить здоровье и пожить в уединении, – и там он не избавился от агентов России, слова которых ввергали его в сомнение и нарушали его покой. Сознавая свою слабость, не уверенный в самом себе, он желал формального обязательства с Наполеоном, которое оградило бы его и от собственной слабохарактерности, и от назойливых советников. Он стремился связать себя обязательствами, хотел наложить на себя путы; отречься от свободной воли, которую боялся дурно использовать. Он говорил нашему посланнику: “Интриги прекратятся только с подписью договора о союзе”.[503 - Отто Шампаньи, 19 июля 1810 г.] Пользуясь настроением монарха, партия Меттерниха настояла на том, чтобы обратились к Наполеону с положительными предложениями и официально просили его вмешательства в дела на Дунае.
В начале июля князь Меттерних завел откровенный разговор с нашим посланником. С горечью указывая ему на успехи России, он закончил указанием на выгоды соглашения между Францией и Австрией с целью положить предел захватам варварского государства, которое производит угнетающее действие на всю Европу и грозит наложить на нее свое ярмо”.[504 - Id., 6 июля 1810.] В следующие за тем дни Отто только и слышал разглагольствования о русской опасности, “о страсти к завоеваниям, которая угрожает, поглотить все от Лапландии до Эгейского моря”.[505 - Id., 12 июня.] Ему говорилось, что следует во что бы то ни стало отдалить Наполеона от России, что нужно разрушить последний остаток союза, который, по признанию австрийских министров, ставил “Австрию в крайне затруднительное положение”. Князь Меттерних говорил, что Россия никогда не будет искренним другом Франции; что “каковы бы ни были личные взгляды императора Александра, ее самые влиятельные люди всегда будут на стороне Англии”;[506 - Отто Шампаньи, 6 июля.] что, чтобы сбросить с себя маску, она ждет только окончания войны с турками, т. е. момента, когда эти исконные союзники Франции будут поставлены вне возможности бороться. Действительно, как бы в подтверждение таких намерений России, наши официальные и тайные агенты говорят “о подозрительном поведении” петербургского кабинета, о его двойственной игре, о противоречии между его публичными заявлениями и тайными проделками его агентов. Они доносят “о странном поведении Алопеуса, про которого можно подумать, что он послан королем Георгом, а не императором Александром”;[507 - Id., 12 июля 1810 г.] сообщают, что эти интриги волнуют венское общество, подрывают кредит французской партии; что теперешнее министерство воодушевлено самыми лучшими намерениями, но, прибавляют они, будет ли оно в силах выдержать натиск враждебных элементов, если Франция не позволит ему рассчитывать на ее поддержку. Вот случай окончательно овладеть Австрией и закрепить принципы ее политики, какого, может быть, не представится более. Но император Наполеон должен, не теряя времени, воспользоваться этим случаем, иначе ни за что нельзя ручаться. “Все это держится на ниточке, – говорил князь Меттерних, – чтобы порвать ее, немного нужно”.[508 - Id.] Вместе с этим удвоилась и небескорыстная лесть по адресу Наполеона, и в этом отношении император Франц со свойственным ему простодушием не щадил самого себя. Он приходит в восторг, более того – он умиляется при известии, что Мария-Луиза вскоре подарит ему внука. Говоря о будущем римском короле, он произносит слова, о которых впоследствии ему пришлось более, чем забыть: “Этот ребенок всегда найдет во мне отеческие чувства”.[509 - Id., 8 ao?t.]
Когда, таким образом, почва была подготовлена, австрийской миссии было поручено приступить к делу и напрямик возбудить вопрос о княжествах. Не зная, находится ли Меттерних в Париже, так как он то извещал о своем возвращении в Вену, то откладывал отъезд, венский кабинет отправил инструкции князю Шварценбергу. Было бы большим счастьем, – говорилось в отправленных 17 июля инструкциях, – если бы Наполеон согласился присоединиться к Австрии с тем, чтобы помешать русским захватить что-либо по нижнему течению Дуная. Вероятно, совместного представления Франции и Австрии было бы вполне достаточно для достижения этой цели. Австрия охотно поддержит этот шаг военной демонстрацией, но необходимо, чтобы Наполеон начал дело дипломатическим путем и первый возвысил голос; теперь все усилия посольства должны быть направлены к тому, чтобы заставить его взять на себя инициативу по этому делу.[510 - Beer, Geschte der orientalischen Politik Cesterreicn's, 232.]
Это было уже нескрываемым натравливанием на Россию. С удивительным бесстыдством, с поразительной дерзостью Австрия открыто выступила в роли, которую до сих пор вела под сурдинку. Она без всякого стеснения просила Наполеона разорвать эрфуртский договор и толкала его на клятвопреступление. Меттерних был еще в Париже, когда прибыли инструкции от 17 июля. Шварценберг познакомил его с ними. Спокойный, уравновешенный Меттерних не одобрял такой поспешности. Он предпочитал, чтобы вместо того, чтобы забегать к императору, Австрия выждала, пока он сам обратится к ней. Тем не менее, он постарался исполнить желание своего двора. Предоставляя Шварценбергу действовать официальным и иерархическим путем, т. е., обратиться к министру, он, со своей стороны, обратился к самому императору и задал ему следующий вопрос: “Думает ли он сохранить полностью заключенные в Эрфурте обязательства, или, быть может, согласится заодно с Австрией сделать в Петербурге шаги, которые могли бы спасти княжества?”.[511 - Mеmoires de Metternich, II, 375.]
Ответ Наполеона был вполне определенный. “Я дал известные обязательства, – сказал он, – у меня нет ни причины, ни предлога нарушать их. Эти обязательства чрезвычайно чувствительны для меня; я усматриваю в них истинный вред для Франции, но ведь вы знаете, что меня привело к этому. Отречься при настоящих условиях от этих обязательств значит тотчас же доставить России предлог к войне, что не согласуется с моими видами и, сверх того, навсегда лишит меня права на доверие к моим обязательствам. Какую же гарантию могу я дать вам самим, если нарушу точное обязательство по той лишь причине, что, в силу изменившихся обязательств, я могу менее церемониться с государством, с которым я его заключил?[512 - Mеmoires de Metternich, II, 375.]
За этими полными достоинства словами скрывался политический расчет. Наполеон ничего не имел против того, чтобы Александр завладел княжествами, ибо это приобретение всего вернее разъединило бы Австрию и Россию; оно поставило бы между ними вечную преграду, направив их соперничество на Востоке на один пункт – низовье Дуная. Здесь, при своем стремлении на Юг, Россия встречала на своем пути последнее оставшееся открытым для австрийского расширения поприще, и, овладевая им, закрывала его для Австрии. Таким образом, интересы обоих государств должны были непримиримо столкнуться на этом пункте их честолюбивых стремлений. Пока участь княжеств не была решена, пока дело не было кончено, можно было опасаться, что какой-нибудь компромисс примирит притязания соперников. Но лишь только русские наложат руку на предмет спора, донельзя оскорбленная Австрия увидит, что, кроме нас, ей некуда идти; и если когда-нибудь обстоятельства вынудят Наполеона обратиться к ней, он может сделать это с большей уверенностью, что не встретит отказа.
Поэтому он не только отказал австрийцам в своей материальной и нравственной поддержке, но и убеждал их смириться и преклониться пред готовым совершиться фактом. Он высказал, что не запрещает, им оспаривать у России княжества и даже начать с ней из-за них войну, что готов предоставить им полную свободу, что будет соблюдать строгий нейтралитет и останется простым зрителем. Но будет ли им выгодно пускаться в одиночестве на ничего доброго не обещающее предприятие? Он не думает этого, и, конечно, не посоветует им ничего подобного. По его словам, было бы лучше всего, если бы Австрия, отказавшись от войны, дала туркам совет согласиться на уступку княжеств, дабы теперь же покончить с войной, начинавшей принимать тревожные размеры. Но, верный избранной им два месяца тому назад тактике, он не хотел, чтобы Меттерних вышел из его кабинета под гнетом слишком мрачных мыслей, и постарался оставить ему некоторую надежду на будущее. Он сказал, что, хотя он и смотрит на вопрос о княжествах, как на вопрос в настоящее время решенный, хотя лично никогда не заведет о нем разговора, но, что, может быть, в один прекрасный день Россия сама даст предлог поднять его, порвав с нами и перейдя на сторону наших врагов. За свою измену она тотчас же поплатится тем, что приобрела в Эрфурте; и, если Австрия сумеет занять в нашей дружбе место русских, она может наследовать признанные нами за русскими права на княжества. Тогда, – и только тогда, – он не откажется возобновить разговор о предмете, который теперь вне обсуждения. “В случае, – сказал он Меттерниху, если русские дойдут до безумия и поссорятся с нами, что будет им стоить Финляндии, Молдавии и Валахии, приобретенных ими благодаря союзу со мной, вы знаете, что можете рассчитывать на меня. Тогда вы сообщите мне ваши мысли, а я вам свои”. Этими подающими надежду словами он и закончил разговор.[513 - Mеmoires de Metternich, II, 375 – 376.]
Однако, он полагал, что за причиненную австрийцам неприятность следует доставить им некоторое утешение менее призрачного свойства. Он предлагает им протекторат над Сербией, не ведая, что это же самое предлагается им и императором Александрам. Он приглашает их вмешаться в дела Сербии, распространить на нее свое влияние и, в случае надобности, ввести в Белград некоторое количество войск.[514 - Id., 362, 370 – 373, 376.] Затем был еще один пункт, по которому, при известных условиях, он допускал немедленное соглашение с Австрией. Возможно было, что русские, опьяненные успехами, видя у ног своих бессильную Турцию, захотят перейти назначенный для них предел; что они забудутся до того, что потребуют от турок, кроме княжеств, еще некоторые земли на правом берегу Дуная; что они задумают, дабы уничтожить ту главную преграду, которая останется единственным средством защиты Оттоманской империи, удержать за собой по ту сторону реки, под видом залога, некоторые стратегические пункты и крепости или предмостные укрепления. В 1808 г. петербургский кабинет обещал удовольствоваться княжествами и не касаться других оттоманских владений. Отнесется ли он с уважением, как по букве, так и по духу, к этому обязательству? “Я хотел бы верить этому, – говорил Наполеон Меттерниху, – но аппетит приходит во время еды, теперь я не позволю себе потворствовать замыслам графа Румянцева”.[515 - Mеmoires de Metternich, II, 370.] Но, продолжал он, если Россия проявит хотя бы малейшее желание присвоить себе что-либо на запретном берегу, – он знает, что делать. Тогда он решительно выступит против такого намерения и тотчас же объявит о своем переходе на сторону Австрии.
Еще до этого разговора он приказал своему посланнику в Вене затронуть это предложение.[516 - Шампаньи Отто, 23 июля 1810 г.] В интимных беседах с Меттернихом он был более откровенен и точен. “Если русские, – сказал он, – возымеют намерение выйти из пределов заключенных с нами обязательств и, следовательно, нарушить их, – я буду считать себя свободным, и вы можете рассчитывать на меня во всех отношениях”[517 - Mеmoires de Metternich, II, 376.]. Впрочем, он не хотел оставлять русских в неведении и сообщил в Петербург, что он признает и чего не допустит, “Мне будет приятно, писал он, – если Турция заключит мир, уступив левый берег Дуная: это отвечает моим желаниям. Но если Россия удержит что-либо на правом берегу и вмешается в дела Сербии, она тем самым нарушит свои обязательства со мной. Насколько я доволен тем, что Россия кончает войну с Турцией, в той же мере я буду недоволен, если она удержит правый берег; даже одна крепость, удержанная Россией на правом берегу Дуная, покончит с независимостью Порты и совершенно изменит положение вещей”. Таким образом, несмотря на все усилия Австрии сбить его с почвы эрфуртского договора, он по-прежнему упорно держится на ней, но при этом объявляет, что ни на йоту не допустит выйти из пределов договора.
II
В Париже Наполеон застает и Меттерниха, – изящного, живого, сумевшего с каждым днем делаться все более полезным и почти необходимым. Даже в домашней жизни императорской четы ему стали отводить некоторую роль, прибегая к его услугам и посредничеству в интимных и деликатных случаях. Наполеон по-прежнему относился к Марии-Луизе с беспредельным вниманием, нежно, почти боязливо. Ему хотелось бы давать ей некоторые наставления, выработать в ней черты, которые требуются ее ролью императрицы, направлять ее неопытные шаги, но так, чтобы не было властного тона, чтобы это не носило характера замечаний, дабы не уподобиться ворчливому мужу”.[474 - Memories de Metternich, I, 106.]
Он стеснялся сам давать ей указания и воспользовался для передачи ей своих советов ловкостью и искусством Меттерниха. Он думал, что австрийский министр, которого императрица знала много лет и очень ценила, был предназначен самой судьбой для выполнения обязанностей авторитетного и в тo же время скромного советника. Через него-то Наполеон и убеждал Марию-Луизу не доверять просителям и интриганам, быть менее доступной, уклоняться от просьб своих приближенных, когда те захотят предcтавить или рекомендовать ей кого-либо, не доверять протекции своих любимцев, не покровительствовать их родственникам “и всевозможным кузенам”.[475 - Id, 1, 105.]
Притом он ничего не имел против того, чтобы был очевидец его внимания к императрице и чтобы об этом давался отчет в Вену, более того, он хотел, чтобы черты и особенности его характера, на которые, между прочим, неоднократно указывалось в сообщениях Меттерниха, выставили его в ином свете и опровергли его репутацию ужасного человека. Однажды утром он назначил Меттерниху свидание в гостиной императрицы. Там он оставил их вдвоем и, уходя, запер двери и положил ключ в карман. Спустя около часа он вернулся и, смеясь, спросил: “Хорошо ли побеседовали? Что, очень бранила меня императрица? Что она – смеялась или плакала? Я не спрашиваю у вас ответа: это ваши секреты, не касающиеся третьего лица, хотя бы то был муж”. На другой день, отведя Меттерниха в сторону, он непременно хотел узнать, что говорила ему императрица, и так как Меттерних не сразу ответил, томя его своим молчанием, он сказал: “Вероятно, императрица сказала вам, что она счастлива со мной, что ей не на что жаловаться. Надеюсь, вы скажете это вашему императору, и он поверит вам более, чем другим”.[476 - Id.]
В этой отчасти навязанной ему роли поверенного обоих супругов Меттерних вел себя тактично, избегая подавать повод к упрекам в нескромном вмешательстве и интригах. “За исключением приемных дней и других более или менее торжественных случаев”[477 - Id.] он не являлся к императрице без особого приглашения, да и то всегда ждал, чтобы император сам пригласил его. С другими членами императорской семьи он стеснялся гораздо менее. Обласканный сестрами императора, он, чтобы понравится им, пустил в ход все свои обаятельные таланты, которыми щедро наградила его природа. Блестящий собеседник, изящный, “хорошо сложенный, всегда со вкусом одетый”,[478 - Неизданные документы.] он умел изобретать игры и приятные развлечения, – на что его русский коллега совершенно не был способен, – и, благодаря этому, занял выдающуюся роль в интимной жизни принцесс. Этот в высшей степени светский человек, привыкший к успехам в свете, которые любил ради них самих и которых страстно добивался, видел в них одно из средств политической деятельности и пользовался своим привилегированным положением при дворе и среди близких к императору лиц, чтобы получить возможность от времени до времени беседовать с ним. Тогда он, как бы помимо воли, направлял разговор на деловую почву. Превосходно обо всем осведомленный, следя за всеми фазами переговоров о Польше, он ловил Наполеона в благоприятную минуту, – в те часы, когда тот особенно был недоволен Румянцевым, и, давая ему случай говорить а русских, старался еще более усилить его раздражение. Неудовольствие императора возрастало уже из-за того только, что он находил с кем поговорить по душам. При случае Меттерних, искусно вставлял свое слово, замечание, но такое, которое еще более разжигало разлад. В конце концов он начал говорить о Востоке, как будто одной Польши не было достаточно, чтобы довести до ссоры. Возвращаясь к этому вечному вопросу, он, чтобы вернее разъединить Францию о Россией, начал мало-помалу коварно выдвигать его вперед, внедряя его, подобно клину, между ними.
Скоро для этого представился вполне подходящий случай. Из только что полученных свежих известий о Дуная стало известно, что военные действия между русскими и турками, прекратившиеся зимой, возобновились с наступлением весны, и война началась в четвертый раз. Россия, недостаточно энергично ведшая и плохо закончившая последнюю кампанию, готовилась начать новую, имея в виду употребить в дело подавляющие силы. Она хотела во что бы то ни стало покончить с Турцией, завершить блестящим ударом тянувшуюся из года в год войну и, предписав Порте мир острием своей шпаги, добиться от нее бесспорного права владения провинциями, которые были предоставлены ей в Эрфурте. Все наводило на мысль, что турки, продержавшиеся в предыдущем году только благодаря благоприятному для них стечению непредвиденных обстоятельств, не устоят пред более мощным, искуснее направленным ударом и подчинятся закону, предписанному победителем. Договор, который будет им продиктован, очевидно, закрепит за Россией присоединение княжеств и, быть может, доставит русским и другие выгоды.
В Вене с грустью предвидели этот исход войны, считали его гибельным для австрийской монархии, но неизбежным. Тем не менее, австрийские министры были убеждены, что дать другое направление событиям зависит только от одного человека, что одно слово, един жест Наполеона вернее оставят русских, чем все вооруженные полчища, которыми располагал великий визирь. Почему бы, думали они, не обратиться к верховному вершителю европейских судеб, почему не попробовать добиться от Наполеона, чтобы он взял назад уступки, сделанные Александру, и, таким образом, теперь же извлечь пользу из создавшегося нового положения? Разве присоединение русскими княжеств не наносит вреда интересам Франции, равно как и интересам Австрии? Ведь в этом случае могли понести серьезный ущерб все государства, для которых поддержание равновесия на Востоке вошло в традицию или сделалось необходимостью. Поэтому, вскоре после путешествия, Меттерних обратил внимание императора на это обстоятельство.
– “Вы сами виноваты”, – ответил Наполеон, – и, приподнимая завесу над переговорами в Эрфурте, он указал, что, хотя Австрия и не присутствовала на знаменитом свидании, она в значительной степени обусловила его результаты; что ее вооружения, ее враждебные выходки, почти нескрываемое намерение объявить нам войну заставили нас по необходимости прибегнуть к содействию России и были причиной наших обязательств. Австрия сама создала свою судьбу. Она своим поведением вызвала “полученное императором Александром обещание, что он, Наполеон, не будет противиться присоединению княжеств к России”.[479 - Mеmoires de Metternich, II, 361.] Наполеон долго говорил об этом историческом вопросе, выражая при этом сожаление, “что был насильно выбит из своей колеи, которая несравненно более отвечала интересам Австрии и Порты, чем интересам России”.[480 - Id.] “Но разве нельзя поправить дела? – заметил Меттерних. Зло еще не свершилось, ибо русские пока еще не добились от Порты акта об уступке. Почему бы Франции и Австрии не сговориться, не вмешаться теперь же в восточные дела, и не направить их к такому решению, которое возможно более приближалось бы к положению дел, существовавшему до войны?”
Хотя и в замаскированных выражениях, это значило просить императора отречься от сделанного Александру подношения.
Здесь Наполеон прикинулся глухим. И было отчего. Австрия, правда, нерешительно, в виде намеков, но просила его не более, не менее, как о том, чтобы он разорвал торжественный акт и оскорбительным образом нарушил клятву. Этот поступок стал бы для русских справедливым и непосредственным поводом к конфликту. Если, в силу своего раздражения против России, он и мог пойти на разрыв с ней, тем не менее, он вовсе не был намерен умышленно стремиться к этому и, главным образом, не желал открыто брать на себя вину. Он дал понять Меттерниху, что у него просят невозможного. Но, предвидя, что ему нужны будут союзники в том, уже не казавшемся ему невероятным, случае, если бы Россия совершенно отстранилась от нас, он не хотел лишать Австрию надежды сойтись с ним, не хотел отваживать ее искать у него поддержки и потому не лишил ее надежды на общую с ним деятельность. Возвращаясь к своим дотильзитским мыслям, он указал, на то, что вопрос о сохранении Турции может послужить в недалеком будущем пунктом для сближения обоих государств: что, может быть, теперешний успех русских заставит другие государства прийти к соглашению для предупреждения более решительных успехов. Рассматривая присоединение княжеств, как факт уже совершившийся, он сказал: “Это-то расширение России и создаст в один прекрасный день основу для союза между Францией и Австрией”[481 - Mеmoires de Metternich. II, 361.]. Хотя он все еще откладывал австрийский союз как преждевременный и в данное время ненужный, тем не менее, в виду могущих произойти в будущем случайностей, он держал его в запасе.
Между тем, откровенность Меттерниха настроила его доверчиво. Увлекаясь страстью говорить и высказывая более, чем следует, он не скрывал уже своей все усиливающейся неприязни к России. Правда, он все еще притворяется, что отделяет императора Александра от его кабинета, и, браня Россию, не бранит царя. Когда ему приходится говорить о нем, он говорит без озлобления, но тоном пренебрежительной жалости. “У императора, – сказал он, – добрые намерения, но ведь он ребенок”. Привилегия воспламенять его гнев и служить мишенью его острот всегда остается за канцлером. Наполеон считает его пустым мечтателем, блуждающим “в заоблачных сферах”, неспособным разобраться в положительных возможностях, на которых строится политика. Он жестоко нападает нa Румянцева, перечисляет все, что у него накопилось против него, намекает даже на дело о браке, на теорию, высказанную Румянцевым по поводу брачных союзов. С чувством горечи вспоминает он об этом деле, и тем самым показывает, что рана, нанесенная его самолюбию, все еще кровоточит. В заключение он переходит к польскому договору и отстаивает все свои положения. С трудно объяснимой болтливостью, увлекаясь страстью повторять при всяком удобном случае сильные и картинные выражения, в которые он облекал свои мысли, увлекаясь желанием повторять придуманные им остроты и понравившиеся ему образные выражения, он и в разговоре с Меттернихом употребляет те же выражения, как с Шампаньи и Коленкуром: “Чтобы сказать, что Польша никогда не будет существовать, мне нужно быть Богом! – сказал он ему. Я могу обещать только то, что могу исполнить, Я не сделаю ни одного шага для ее восстановления… но я никогда не соглашусь на обязательство, выполнение которого не зависит от меня”. И, все более горячась и волнуясь, он делает крупную ошибку, давая заметить Меттерниху, заинтересованному в том, чтобы поссорить его с русскими, насколько их требования по польскому вопросу сердят его и выводят из терпения.
Однако нужно же когда-нибудь кончить с этим докучливым делом, которое вот уже скоро три месяца ждет решения. Ввиду того, что Коленкур не нашел ни “уловки”, ни приличной отговорки, а Россия по-прежнему настаивает на ответе на свой контрпроект, Наполеон берется, наконец, за доставление его. Он требует от Шампаньи заготовленную для передачи Куракину, до оставшуюся пока под сукном, ноту, прочитывает ее, обдумывает и переделывает. Все более склоняясь к мысли увернуться от всякого рода договора, он, как лукавый подьячий, думает поднять дело о полномочиях. Куракин не скрывал, что он не уполномочен допустить какое-либо изменение в представленном им тексте. Раз это так, то, по мнению Наполеона, не служит ли такое ограничение его полномочий помехой к успешному продолжению договоров? С какой стати разговаривать с бесправным посланником? Наполеон хочет, чтобы этой нотой Куракин был поставлен в необходимость точно высказать, до чего простирается его компетенция. Впрочем, он не решается еще бесповоротно сослаться на неприемлемость русского проекта, он только ведет к этому. Он согласен, чтобы в ноте были изложены вся суть и все подробности вопроса и чтобы в ней достаточно сильно были подчеркнуты его возражения. Это само собой вынуждало Россию к ответу, и, следовательно, не исключалась возможность прийти к соглашению.[482 - См. Archives nationales, AF, IV. 1699, разные конспекты, ноты и письма, написанные по этому поводу Шампаньи императору.] Он только что собирался формулировать окончательную редакцию, как из России прибыли новые курьеры.
Глубоко огорченный, оскорбленный его молчанием, Александр перестал уже ждать ответа на контрпроект и окончательно счел это молчание за недостаток внимания со стороны Наполеона. Слишком проницательный, чтобы не разобраться в довольно грубых хитростях, слишком гордый, чтобы жаловаться, он перестал настаивать и молчать; но его манера держать себя была полна значения.
По внешности, в его отношениях с нашим посланником не произошло никакой перемены. Он так же был доступен, так же приветлив, обращение его носило тот же характер сердечности и дружбы, как и прежде. Герцог Виченцы сохранял при дворе все свои преимущества, сопровождал императора на всех смотрах и маневрах, а в установленные дни обедал во дворце.
Когда посланник давал бал – Их Императорские Величества вменяли себе в обязанность показываться на балу и “оживляли его своим присутствием”[483 - Донесение Коленкура № 92, 23 мая.]. Его разговоры с Александром были так же часты, продолжительны и дружественны, как и прежде; разница была только в том, что они вращались теперь исключительно около вопросов, чуждых политике. На воскресном параде Александр говорил только о военных вопросах. С некоторым самодовольством указывал он ему на успехи своей армии с тех пор, как ввел в нее нашу систему обучения. Он обратил его внимание на своих солдат, избавившихся от “немецкой одеревенелости”; говорил, что сделал гибкими этих автоматов и дал им ловкую и вольную походку наших французов. Он был доволен, что покончил с “бесполезной стеснительностью старых прусских правил”, что во всем последовал нашему примеру, и с любезностью, далеко не искренней, прибавил, “что соединенные французские и русские войска могли бы сразу же маневрировать вместе – и ни в строю, ни в выполнении маневров не было бы заметно ни малейшей разницы”.[484 - Донесение Коленкура № 96, 29 июня.] В своем кабинете он охотно рассказывал герцогу о событиях при дворе и в свете, об интригах и скандалах. Коснулся даже своих интимных огорчений: говорил о горе, которое причинил ему окончательный разрыв с Нарышкиной. Он тщательно отмечал разницу между Коленкуром, своим личным другом, пользующимся его полным доверием, и Коленкуром, общественным деятелем, послом иностранной державы, и с каждым днем это различие становилось все ощутимее. Когда же Коленкур пытался прервать ледяное замалчивание царем политических вопросов и заговаривал об обстоятельствах, которые могли бы извинить наши проволочки, – одна улыбка, один жест давали понять, что его собеседника не проведешь подобными доводами. Александр тотчас же обрывал разговор на эту тему. Письма посланника, в которых он отдавал отчет о свои аудиенциях, бывшие прежде такими содержательными и объемистыми, неизменно состояли из нескольких фраз в таком роде: – 25 апреля. “Его Величественно удостоил меня продолжительной беседы, но не о делах политики. Он говорил со мной только о событиях в большом свете”. – 13 июля. “12-го я опять имел честь видеть Его Величестве на больших маневрах гарнизона. Он соблаговолил встретить меня с обычной благосклонностью и добротой, но не говорил со мной о делах”.[485 - Письмо к Шампаньи и донесение № 87.]
Иным было доведение Румянцева. Румянцев говорил много, жаловался гораздо больше своего государя, быть может, потому, что был более искренен, менее разочарован, не свыкся еще с мыслью о разрыве с Францией и все еще старался отделить истинные намерения нашего правительства от неясностей и противоречий нашей политики. Чтобы вырвать у Наполеона ответ, он прибег к уже применявшейся им плохо придуманной системе. Без сомнения, уместнее всего было бороться с непростительным молчанием императора твердой, полной достоинства настойчивостью по существу самого спора, т. е., договора. Румянцев предпочел действовать окольным путем – путем упреков и обвинений.
С некоторого времени он был встревожен и возмущался слухами и случайными разговорами, доходившими до него из Варшавы. Жители Варшавы с их обычным бахвальством и показным бравированием продолжали носиться со своими патриотическими надеждами и во всеуслышание предсказывали крупные события. Польша – по наблюдениям наших агентов – по преимуществу страна ложных известий. В легкомысленных умах ее обитателей воспринимается всякий звук, усиливается там, как в резонаторе, и затем, как эхо, разносится по всем направлениям. Ничтожнейшие события порождают вздорные мысли, которые прорываются наружу потоком дерзких речей. Варшава, снова ставшая столицей, была одним из тех городов в Европе, где более всего разглагольствовали. Светская жизнь приняла там свой старинный блеск; открылись многочисленные, кипящие деятельностью салоны; обольстительные женщины своими речами разжигали умы, и в этой блестящей и шумной среде, среди удовольствий и интриг, периодически рождались известия о войне, о предстоящих переменах, о близком и полном восстановлении Польши. Местные и иностранные газеты подхватывали эти слухи, выпускали сенсационные статьи, которые принимались к сведению теми, кому надлежало считаться с этим. Наполеон был чужд этим нелепым разговорам и статьям. Он даже порицал их, когда они доходили до его сведения. Не желая силой зажимать рот полякам, так как его двусмысленное положение по отношению к России все более вынуждало его поддерживать с ними добрые отношения, он, тем не менее, убеждал их быть спокойными и иногда жестоко распекал. Несмотря на это, Румянцев, вооружаясь всем, что говорилось и писалось в Польше или по поводу Польши, без согласия и часто без ведома императора Наполеона, хотел взвалить всю ответственность на него. Он вменяет ему в вину и слова, которые говорятся варшавскими дамами, и известия, которые попадаются в немецких газетах, и во всем этом отыскивает материал для бесконечных язвительных замечаний. Имея в своем распоряжении действительные поводы к жалобам, он ссылается на дурно обоснованные или вздорные, он выставляет обвинения, на которые очень нетрудна ответить, и которые, не принося никакой пользы делу, могут только портить отношения. Чтобы заставить Наполеона заговорить и объясниться, он постоянно наносит уколы его самолюбию, отпускает на его счет мелочные, но колкие и несносные остроты и изо всех сил старается раздразнить его едкими замечаниями и обидными намеками.
Сперва он говорит, что удивлен и огорчен тем, что в некоторых французских газетах снова встречаются для обозначения герцогства Варшавского и варшавской нации слова “Польша” и “поляки”. Затем он указывает на статью, появившуюся в Gasette de Hambourg. В этой весьма распространенной в Европе газете, которую читали, главным образом, в канцеляриях, в рубрике о Варшаве было упомянуто о появившемся слухе о восстановлении Польши. Эти строки были напечатаны в городе, занятом нашими войсками, а потому спрашивается: нужно ли считать такой факт за официальное поощрение запретных упований? Вот что спрашивают Румянцев и сам Александр, и они выслушивают от имени Наполеона ответ в успокоительном, но, вместе с тем, и пренебрежительном тоне.
“Император с огорчением узнал, – заставляет Наполеон писать Шампаньи, – какое важное значение придает император Александр статье – я не знаю, какой, – в Gasette de Hambourg. Разве русскому государю не известно, что, несмотря на надзор правительства, множество ложных слухов, ежедневно распространяемых газетами, являются следствием агитации; что эти газеты или находятся под влиянием Англии, или служат отголоском спекулянтов? Что удивительного, если подобная статья ускользнула от надзора Бурьенна (тогдашнего консула в Гамбурге), который, к тому же, не состоит цензором печатаемых в Гамбурге газет: он видит их только по выходе, и, следовательно, не может предупредить подобных неблаговидностей; он может только выразить свое неудовольствие редактору и лицам, стоящим во главе правительства. Но очевидно, что статья, в которой объявляется о восстановлении Польского королевства, до такой степени нелепа, в особенности, в глазах агентов Его Величества, – которые отлично знают, что вся политика императора состоит в том, чтобы поддерживать континент в его теперешнем состоянии и направлять его во всей его совокупности против Англии, – что ни один из них не мог предвидеть, чтобы подобная вызывающая улыбку сожаления, статья могла обеспокоить великую державу, и причинить неудовольствие другу и союзнику Франции”.[486 - Шампаньи Коленкуру, 18 мая 1810 г.]
Несколько дней спустя – новая тревога. Канцлер волнуется из-за брошюры, появившейся в герцогстве, написанной в национальном польском духе и подписанной именем, малоизвестным во Франции, но популярным в Варшаве, неким Коллонтаем, бывшим незадолго до этого одним из сподвижников Костюшки. Наполеон узнает об этой брошюре только благодаря тревоге, которую забила Россия. Он приходил в гнев, видя, что ему ставят в вину и это происшествие. “Герцог Кадорский, – пишет он своему министру, – я желаю чтобы вы поговорили с князем Куракиным по поводу письма герцога Виченцы от 29 мая. Скажите ему, что меня огорчили слова, сказанные графом Румянцевым герцогу Виченцы. Скажите ему что ни в одной французской газете не говорится о Польше, что я не имею никакого понятия о Коллонтае, что я не читал его брошюры, которая и не появлялась здесь, и что мне говорят о вещах, свалившихся с неба”.[487 - Неизвестное письмо. Archives nationales, AF. IV, 910.]
Это письмо ясно выдает все усиливающееся раздражение императора. Сквозь его выражения, которые делаются все более резкими, чувствуется, как нарастает, как бурной волной поднимается его гнев. Но он еще сдерживает себя, и, ввиду того, что Россия придает столько значения тому, что печатается и издается, он приказывает, чтобы в статье Journal de l'Empire уличили во лжи и хорошенько пробрали немецкие газеты, распространившие ложные слухи или употребившие запрещенные выражения.[488 - “Корреспонденты периодических изданий в Германии, – говорится по этому поводу в официальном органе, – обладают большой плодовитостью и выдумывает разные побасенки для зaбавы своих читателей и, как видно, в этом отношении жители берегов Эльбы не уступают в легковерии уроженцам берегов Гароны…” Номер от 18 июня.] Сверх того, 30 июня, в заметке, помещенной в Moniteur'e, еще раз подтверждается тесный союз обеих империй.
В этот же самый день к Шампаньи является Куракин и говорит, что ему поручено сделать важное сообщение. Ну, что такое? Князь читает длинное письмо Румянцева. В нем ему предписывается: “безотлагательно навести справки по поводу “договора, или, вернее, по поводу все более распространяющихся слухов о намерении императора Наполеона восстановить Польшу”. В этот раз обвинение имеет положительное основание. На чем же основано оно? Как и всегда, на толках некоторых газет, на слухах, на сплетнях, гуляющих по Варшаве. Вот на каких данных основываются подозрения России, и Наполеону приходится выслушивать сомнения в его слове, которое он столько раз и так торжественно давал!
От чувства досады и неудовольствия император переходит к нескрываемому, бурному и неудержимому гневу. Вечные жалобы, которые звенят в его ушах, как назойливый припев, становятся ему ненавистны. Его выводит из терпения эта тяжба, которую ведут с ним, преследуя совсем не ту цель, о которой говорят, и уж если Румянцев так упорно создает из всего повод к жалобам на него, даже ставит ему в вину агитацию, о которой ему ничего не известно, “делает его ответственным за газетные статьи, написанные за двести лье от Парижа или за брошюры, которые никогда не будут известны во Франции, равно как и их авторы”,[489 - Corresp. 16181.] то, в таком случае, он восстановит ответственность той и другой стороны и своим грозным ответом заставит замолчать Россию. В эту минуту он не старается уже ни скрывать своей досады, ни притворяться. Он становится великим, но забывает о дипломатическом искусстве. В достойном сожаления припадке высокомерия и ярости, он разоблачает свою политику и необдуманно высказывает свое мысли.
1 июля утром, в присутствии Шампаньи, явившегося к нему с докладом о представлении Куракина, он говорит о России, затем диктует письмо герцогу Виченцы и приказывает, чтобы его выражения были дословно переданы герцогу, дабы этот чересчур кроткий и мягкий посланник имел в этом послании руководство для своих речей, и знал, как нужно говорить с русскими. Итак, он сам, через избранного посредника, надлежащим образом ответит России. Он хлещет ее обидными словами, осыпает жестокими упреками; он перечисляет свои уступки, свои благодеяния; напоминает, что взамен он получил только двусмысленную поддержку до австрийской кампании, смехотворное содействие во время войны и теперь, в довершение всего, ни на чем не основанные жалобы, “достойные смеха намеки и оскорбительные подозрения”. И говоря, что его не сумели оценить, что на него клевещут, он вполне искренне убежден в этом. По склонности, свойственной цельным и гордым натурам, он обращает внимание только на ту сторону вопроса, в которой считает и чувствует себя неуязвимым. Не желая вспомнить, что его поведение, его затяжная игра, предоставленная полякам свобода действий – все это неоднократно давало право к подозрениям: он сосредоточивается на своем собственном я, на своих истинных намерениях, а в этом отношении, – нельзя не признать этого, – брошенное ему в лицо обвинение, в тех определенных выражениях, в каких оно высказывается, безусловно несправедливо. Конечно, говорит он, если Россия своими враждебными поступками создаст для него из восстановления Польши стратегическую необходимость, если она вынудит его восстановить Польшу, – он сделает это; но он не намерен восстанавливать Польши по собственному почину, у него нет такого умысла; он не сделает этого из принципа, по неправильно понимаемому чувству благородства, по донкихотству – последнее выражение он повторяет до пресыщения. Он не имеет ни малейшего желания с легким сердцем углубляться на Север, пускаться на громадное крайне рискованное предприятие только ради того, чтобы разбивать цепи чуждого ему народа, исправлять преступление прошлого века и приобретать себе славу без всякой выгоды для своей империи. Не было и нет государя, более далекого от мысли начать войну из-за идеи. Такой взгляд на вещи до такой степени не соответствует его исключительно практической и деловой манере смотреть на политику, что он не допускает, чтобы ему могли приписывать таковой без задней мысли. Наконец, он задает себе вопрос: искренна ли Россия в выражении своих страхов. Ему думается, что, под покровом ее слов, он видит затаенную, предательскую заднюю мысль. Не хочет ли Россия, напрашиваясь на ссору с ним, подготовить предлог бросить его; не хочет ли вернуться к Англии? Собрав плоды союза, не думает ли она отказаться от обязательств? Ну что же! Результатом ее измены будет война. Он откровенно, без обиняков и уверток, может сказать это, и слово – война, впервые брошенное России, сверкает в его речи, как блеск шпаги.
“Чего добивается Россия подобными речами? – восклицает он. – Войны, что ли? Откуда ее постоянные жалобы? К чему эти оскорбительные подозрения? Может быть, Россия хочет подготовить меня к своей измене? В тот же день, когда она заключит мир с Англией, я начну с ней войну. Разве не она собрала все плоды от союза? Разве Финляндия – предмет столь долгих вожделений и столь упорной борьбы, о приобретении хотя бы частицы которой не смела даже мечтать Екатерина II, не сделалась русской губернией на всем своем обширном протяжении? Разве, без союза, Валахия и Молдавия остались бы за Россией? А мне что дал союз? Предотвратил ли он войну с Австрией, из-за которой пришлось отложить все дела в Испании? Разве успехи этой войны обусловливались союзом? Я был в Вене прежде, чем сформировалась русская армия, – и, однако же, я не жаловался; значит, – не нужно жаловаться и на меня. Я не хочу восстанавливать Польши; я не хочу идти себе на погибель в ее бесплодные пески. Я должен жить для Франции – для ее интересов, и не возьмусь за оружие ради интересов, чуждых моему народу, если только меня не вынудят к этому. Но я не хочу обеспечить себя заявлением, что Польское королевство никогда не будет восстановлено; не хочу уподобляться Божеству и делаться смешным; не хочу запятнать моей памяти, утверждая своей подписью и печатью этот акт Макиавеллевской политики; ибо сказать, что Польша никогда не будет восстановлена, значит больше, чем признать ее раздел. Нет! Я не могу взять на себя обязательства поднять оружие на людей, которые мне ничего дурного не сделали, которые, напротив, хорошо служили мне и постоянно выказывали доброжелательство и глубокую преданность. Ради их собственной выгоды, ради России, я убеждаю их быть спокойными и покорными; но я не объявлю себя их врагом; скажу французам: вы должны проливать вашу кровь, дабы отдать Польшу в рабство России. Если я когда-либо подпишу, что Польское королевство никогда не будет восстановлено, это будет значить, что я имею намерение восстановить его. Это будет западня, которую я поставлю России, и позор подобного заявления будет заглажен поступком, который докажет, что мое заявление было обманом. Я старался удовлетворить Россию: ей послан заранее утвержденный договор. В нем заключалось все, что вполне разумно я мог обещать и что мог исполнить, в нем было даже больше того, чего имели права просить у меня; он так же хорошо удовлетворял своей цели, как первый и второй проект договора. Но Россия все-таки настаивает на своем проекте – по причинам, мне не понятным. Мне кажется, что это борьба из-за самолюбия. Все рассудительные люди согласны, что даже по выражениям, это – один и тот же договор, и сами русские того же мнения. Если бы захотели унизить меня, диктуя мне свою волю, не могли бы найти для этого лучшего средства, как предписать мне те же выражения, в которых я должен подписать акт, цель которого мне чужда, на который и соглашаюсь только из снисходительности и в котором для меня нет ни выгоды, ни необходимости”.[490 - Corresp., 16181.]
Но решится ли Наполеон в подтверждение своих жестких слов резко порвать со спором о договоре и просто-напросто взять обратно свои предложения? Может быть, ввиду того, что он предполагает у России враждебные поползновения, он откажется выдать ей обязательство в какой бы то ни было форме, и не даст ей против себя оружия? Однако, по мере того, как он диктует, он, видимо, смягчается и даже говорит о постоянстве своих чувств. “Хотя, диктует он, император недоволен заявлениями, которые делаются ему со стороны России, а также их тоном, он, тем не менее, твердо стоит за союз; он всегда шел прямо и без колебаний… По отношению к России император остается тем же, каким был все время с момента тильзитского мира”.[491 - Id.] Что же касается договора, он “согласен допустить некоторые изменения, но не омрачит своей памяти бесславным поступком”.[492 - Id.] Кончая диктовать, он сказал, что через несколько дней отправит Куракину ответную ноту. К несчастью, роковая случайность вынуждает его снова отложить передачу этой бумаги, вследствие чего откладывается на некоторое время и развязка, которой с таким мучительным нетерпением ожидали в России. Благодаря тому же несчастному случаю, гневу его предоставляется время созреть и принести плоды.
По возвращении Их Величеств в Сен-Клу, празднества и балы по случаю брака, прерванные на время пребывания в Компньене и путешествия на Север, возобновились. Париж, армия, принцы, иностранные представители поочередно старались оказать императорской чете всевозможные почести и придумывала развлечения. 10 июня был бал в городской ратуше с бенгальскими огнями и большой иллюминацией; 14 – сельский праздник у принцессы Полины в ее садах в Нейльи; 24 – гвардия дала бал в военном училище. Повсюду давались разнообразные развлечения, всюду веселились; небывалая роскошь и великолепие дошли до неслыханных размеров. Известно, что конец этого упоительного времени омрачился печальным событием и как бы зловещим заревом озарил будущее.
1 июля князь Шварценберг давал большой бал в своем отеле в улице Прованс. Отель по этому случаю был превращен в волшебный замок. На балу, которого ждали как крупного события, присутствовали в полном составе двор, высшее парижское общество и дипломатический корпус, во главе которого блистал почти выздоровевший князь Куракин. Их Величества по своем прибытии присутствовали в саду на представлении пасторали, а затем смотрели аллегорические картины, которые были поставлены в танцевальном зале, на устроенной из досок, роскошно убранной коврами и драпировками, эстраде. Вдруг загорелась одна из декораций, поставленная слишком близко к группе свечей. В одну минуту вся зала была в пламени. Наполеон вышел с императрицей, поддерживая и успокаивая ее. Он удалялся спокойно, неторопливыми шагами, стараясь сохранить свое достоинство и подать другим пример хладнокровия. Позади него собралась толпа. Приглашенные давили друг друга, не смея опередить его. Вдруг из этой обезумевшей от нетерпения и ужаса толпы раздался возглас: “Скорее!” Император ускорил шаг, повинуясь анонимному призыву. В этом зрелище, где непобедимый человеческими армиями Цезарь отступал перед возмутившейся стихией, перед надвигавшимся на него пламенем, – древний Цезарь, может быть, усмотрел бы знамение и прообраз будущей катастрофы. Отведя императрицу в безопасное место, Наполеон вернулся туда, где была наибольшая опасность, и вступил с нею в бой. Он организовал борьбу с пожаром, приняв меры для спасения остальных, нетронутых еще огнем частей дворца, затем для розыска жертв, погребенных под развалинами рухнувшей постройки. К несчастью, пострадавших было много. В числе их одним из первых был поднят князь Куракин со страшными ожогами на голове, лице и руках.[493 - “Я видел, и как будто в теперь еще вижу, – пишет в cвоих Воспоминаниях покойный герцог Бродли, – бедного, искалеченного подагрой, осыпанного брильянтами князя Куракина; вижу его огромную тушу, барахтающуюся под дымящимися обломками, и вместе с ним генерала Гюло, брата жены маршала Моро, старавшегося своей единственной рукой освободить его испод них” I. 118.]
Таким образом, этот до конца злополучный человек сходил со сцены в ту минуту, когда его присутствие было особенно нужно, когда он должен служить передаточной инстанцией наших последних предложений. В продолжение двенадцати дней жизнь его была в опасности, и, само собой разумеется, французский кабинет должен был воздержаться от всяких деловых отношений с ним. В этот промежуток времени император предавался размышлениям. Возмущение его против России возрастало с каждым днем, и, в конце концов, он остановился на мысли не касаться требований Александра по существу, а ограничиться только вопросом о полномочиях. В приготовленной Куракину растянутой ноте он приказал прибавить несколько коротких и сухих строк. “Нижеподписавшийся желает знать, – писал министр иностранных дел под его диктовку, – имеет ли посланник необходимые полномочия, чтобы подписать договор, который может – не менее трех других – достигнуть намеченной цели, но в котором некоторые выражения русского проекта, противные обычаям дипломатии, будут заменены равнозначащими. Подобное изменение необходимо, ибо только при этом условии этот акт может сделаться совместимым с достоинством Франции, и в то же время удовлетворить интересы России”.[494 - Arhives des affaires еtrang?res, Russie, 151. Этот документ помечен так: Dictеe de l'Empereur.]
На эту ноту ответил от имени своего больного начальника первый секретарь посольства Нессельроде. Согласно строгим предписаниям своего двора, он заявил, что русский представитель в Париже не уполномочен соглашаться на какую бы то ни было поправку; но, что, во всяком случае, он желает знать, какие изменения желательны Франции, дабы довести их до сведения своего правительства.[495 - Corresp., 16181.] На основании предыдущих слов Куракина, Наполеон предвидел этот ответ. Вызывая его, у него была только одна цель – лишний раз обвинить Россию, заставить ее самое признать, что ее притязания не укладываются ни в какие рамки, что ее политика ни с чем не считается, и – как следствие всего этого – доставить себе предлог окончательно уклониться от обсуждения дела. Лишь только он заручился этим предлогом, он поторопился ухватиться за него, запретил отвечать Нессельроде и приказал прекратить разговор о договоре – “этом предмете стольких споров”.[496 - Archives des affaires еtrang?res, Russie, 151.] Номинально Франция и Россия оставались союзниками, но стоявший между ними польский вопрос подтачивал их доверие, отравлял все их отношения и быстро вел к ссоре. С каждым днем исходный пункт разлада давал себя чувствовать все более; он все более выступал на первый план уже только потому, что громадные усилия, сделанные с целью объясниться и прийти к соглашению, оказались бесплодными.
В этих прениях, вертевшихся около одной фразы, – но фразы, за которой скрывались непримиримые стремления, основы права бесспорно были на стороне Наполеона. Он предложил все, на что позволяла ему согласиться его достоинство и интересы. Он сказал, что согласен отречься от Польши и ни при каких обстоятельствах не оказывать ей помощи. Россия хотела большего. Она хотела, чтобы он сам нанес Польше удар, чтобы он своей рукой доконал нацию, доказавшую ему свою преданность; чтобы он довел ее до окончательного падения, чтобы обязался и за своих наследников; чтобы взял на себя и даже усугубил преступление других, так как даже три поделившие Польшу государства не внесли в договор, что она никогда не оживет. Подобная формула, таившая, быть может, западню, во всяком случае, была нарушением международных обычаев; она не согласовалась с языком, который приличествует государям при постановке условий и заключении договоров. По всей справедливости, по долгу чести, Наполеон, имел право сказать, что подчиниться такому требованию значило унизить свое достоинство и омрачить свою славу. Но нужно признать, что своими неправильными действиями, то уклончивыми, то грубыми, утратившими мало-помалу характер законности, приличия и меры, он сам подорвал значение этих слов. Да и помимо того, его положение вершителя судеб, его обычные злоупотребления силой поставили его вне общепринятых правил, господствующих в международных сношениях, ему не к лицу было приглашать других держаться на почве международного права во всей его строгости после того, как сам он столько раз подчинял его нуждам своей политики, своей алчности, своему неукротимому гневу, Эта истина должна отныне стоять на первом плане при оценке его поступков. Если Наполеон и был прав в большинстве возникавших между ним и Европой вопросов, взятых в отдельности и разбираемых им с тем совершенством и искусством, с какими он один умел ставить и обсуждать их, то, во всей их совокупности, он был не прав, не прав по вездесущности своих притязаний и по огромному количеству дерзких, превосходящих всякую меру предприятий. Все это вполне оправдывало принимаемые против него исключительные меры предосторожности и узаконивало всеобщее недоверие.
ГЛАВА XI. НА ПУТИ К КОНФЛИКТУ
Меттерних пользуется минутой, когда император особенно раздражен русскими, чтобы указать ему на их успехи на Дунае. – Надежды подаваемые Австрии. – Состояние умов в Beне: две партии. – Министерство предлагает союз. – Личное вмешательство императора Франца. – Меттерних просит Наполеона нарушить эрфуртские обязательства и не давай России княжеств. – Отказ Наполеона; причины его честности. – Он запрещает России завоевывать что-либо за Дунаем. – Новые причины его недовольства Румянцевым; жестокие нападки на Румянцева. – Русские в курортах Германии; женская политика. – Русская колония в Вене. – Положение нашего посольства в Вене; аристократическая и светская оппозиция. – Король Вены. – Салон княгини Багратион. – Интриги Алопеуса. – Поццо ди Борго снова выступает на сцену. – Наполеон настаивает на его изгнании и просит отозвать графа Разумовского. Новый проступок русских в Вене. – Жалобы Наполеона; он замещает своего министра и лично берется за перо; ноты, переделанные и исправленные его рукой. – Переселение князя Куракина на дачу. – Разговор императора с братом Куракина. Грозные слова. – Взгляд императора на его отношения к России. – Необходимое условие мира – союз. – Какое впечатление производит на Европу и Россию сопротивление Испании. – Наполеон старается отдалить конфликт на Севере и не отказывается от мысли избегнуть его. – Характер его личных отношений с императором Александром. – Применение более строгих мер в борьбе с Англией; континентальная блокада; приготовления к морским экспедициям; неизменные виды Наполеона на Египет; в 1812 г. он намерен предпринять большую кампанию на морях. – Военные предосторожности в герцогстве Варшавском. – Продолжение русских интриг в Вене. – Тайная и официальная дипломатия. – Фиктивное отречение от Поццо ди Борго; его отправляют с секретным поручением в Константинополь. – Пропаганда в Польше. – Россия втихомолку начинает готовиться к войне: работы на Двине и Днестре; формирование нескольких армий. – Планы обороны и наступления. – Предвидя разрыв, Александр начинает первым готовиться к войне. – Ошибки и деспотизм Наполеона ускорят разрыв.
I
Последняя нота Куракину была продиктована 4 июля. На другой день вечером Меттерних поехал в Сен-Клу и настоял, чтобы его допустили к вечерней аудиенции императора, ссылаясь на то, что должен сделать Его Величеству интересные сообщения. Дело в том, что накануне в посольстве было получено известие, в котором сообщалось, что русская армия на Дунае, перейдя реку, овладела Силистрией, осадила в Шумле великого визиря и смело направилась в центральные части Турции. Авангардные колонны, перейдя Балканы, угрожали Варне. Это и были те важные, прибывшие через Вену из Бухареста известия, о которых император Наполеон должен был узнать прежде всех. Отправляясь в Сен-Клу, Меттерних взял с собой выдержки из бюллетеней, прибывших с театра военных действий.[497 - Mеmoires de Metternich, II, 364.]
Увидя его, Наполеон отпустил всех. При первых же словах австрийца он пошел за картой и принес ее уже развернутой. Булавки, воткнутые в том месте, где находится бассейн Дуная, указывали расположение воюющих сторон и пути следования различных корпусов. Это доказывало, с каким вниманием следил Наполеон за ходом русско-турецкой войны. По данным Меттерниха, он переставил булавки, отметивши таким образом успехи русских. После этого он более четверти часа, не говоря ни слова, рассматривал карту, желая дать себе отчет и хорошенько выяснить новое положение, дабы вывести из него заключение. Затем он сразу поставил диагноз: турки проиграли кампанию. Им остается только подписаться под требованиями победителя. С некоторым волнением он сказал: “Вот и мир! Да, это – мир: турки вынуждены заключить мир. Ну что же! Это значит, как я недавно говорил вам, союз между Францией и Австрией; теперь у нас общие интересы”. И он повторил несколько раз: “Да, вот истинный союз между нами, основанный на общих интересах, – единственный прочный союз”.[498 - Id.]
Между этими сорвавшимися с языка словами и словами, сказанными Австрии в виде простого поощрения три недели тому назад, была громадная разница; и эта разница в словах позволяла оценить, до какой степени в короткий промежуток времени Наполеон отдалился от России; она ясно определяла, какой ужасающий прогресс сделало отчуждение. Было ли дело только за тем, чтобы поймать императора на слове и немедленно согласиться на предложение? Оставалось ли тестю и зятю только условиться о выражениях, в каких следует формулировать принятый в принципе и в сущности уже состоявшийся союз? Дальнейший разговор выяснил, что такое толкование слов императора шло дальше его мысли. Хотя в начале разговора он и выразился в настоящем времени с целью произвести большее впечатление на собеседника, но тотчас же спохватился и далее говорил только о будущем. В настоящее время, сказал он, Австрия должна посвятить себя восстановлению своих сил и спокойно положиться на будущее. Уже одним тем, продолжал он, что установлена общность интересов, сделан большой шаг вперед. Союз состоится; когда нужно будет, это сделается– в этом нет сомнения. И тогда увидят, что брачный союз между высочайшими фамилиями может способствовать их единению, что бы о том ни думали некоторые люди с превратными понятиями. “Румянцев, витая в области всякого вздора, думает, что семейный союз не имеет никакого значения, что даже, наоборот, он должен привести к некоторому охлаждению, будто бы потому, что, поссорившись в один прекрасный день с императрицей, я, естественно, должен буду поссориться в с ее отцом. Он не знает, что император Наполеон никогда не поссорится со своей женой; что он не поссорился бы с нею и в том случае, если бы она во всех отношениях была во сто крат менее достойной, чем это есть на самом деле. Брачный союз значит, много, но, конечно, не все”.[499 - Mеmoires de Metternich, II, 365.] В течение разговора он несколько раз касался вопроса “о более тесных политических отношениях”,[500 - Id.] не выражая, однако, желания тотчас же связать себя подписью, ибо в глубине души всегда ставил союз с Веной в зависимость от того случая, если бы Россия вздумала совершенно отстраниться от него. Видя, что такое предложение делается все более вероятным, он хотел прочнее заручиться имеющейся у него в виду поддержкой. Подавая Австрии более серьезные надежды, он рассчитывал вернее удержать ее за собой, не связывая себя, однако, обязательствами, несовместимыми с теми обязательствами, на которых покоился его союз с Россией и которых он решил не порывать первым.
Между тем, в Вене, по крайней мере, в известных кругах, считали нужным торопиться. Там хотели поскорее приступить к делу и смотрели на союз с Наполеоном, как на неотложную необходимость. Успехи русских произвели в столице Австрии глубокое впечатление. По общему мнению, водворение русских в княжествах будет упрочено и вскоре завершится теперь уже неизбежным миром. Этот захват русских на нижнем Дунае должен был окончательно закрыть все выходы монархии, уже замкнутой на Западе французскими Германией и Италией. Теперь, вслед за Западом, закрывался и Восток, и как ни была подготовлена Австрия к этому результату войны, она возмутилась, видя близкое его осуществление. Окруженная двумя стремящимся к беспредельному расширению империями, сжатая между ними, как в тисках, она испытывала невыносимо тягостное чувство, – и мысль решиться на что-нибудь необычайное, – дабы высвободиться из этих тисков, сохранить за собой выход на Восток и добиться удаления русских с Дуная, приходила многим на ум.
Но как достигнуть этого? Мнения разделились, и на сцену выступил глубокий и жестокий раскол. Высшее общество, по-прежнему враждебно относившееся к Франции, перестало скрывать свои чувства, и, под влиянием графа Разумовского и его партии, возлагало надежду только на откровенное и сердечное объяснение с Россией. Царь, уверяли они, желает только одного – сговориться с Австрией. Появление Алопеуса в Вене как будто подтверждало их слова. Русский агент, про отъезд которого из Петербурга мы говорили выше и с инструкциями которого уже познакомились, только что появился в австрийской столице. Он остановился в ней, и, по неестественным натяжкам, к которым прибегал, чтобы продлить свое пребывание под предлогами частного и семейного характера, – предлогами, слишком прозрачными, чтобы ввести кого-нибудь в заблуждение, нетрудно было догадаться, что Неаполь никогда не дождется его визита и что ареной его деятельности назначена Вена. Он был принят императором и эрцгерцогами, старался втереться к ним в доверие, но, главным образом, стремился “завербовать приверженцев”[501 - Отто Шампаньи, 7 июля 1810 г.] в обществе и салонах и, нужно сказать, имел в этом полный успех. В этом направлении почва для него была отлично подготовлена Разумовским, его другом и старым товарищем. Еще до его приезда Разумовский постарался создать ему репутацию искуснейшего, почти гениального политика; говорил о нем, как об одном из самых выдающихся деятелей русской дипломатии и как о человеке, пользующемся доверием императора Александра. Благодаря таким высоким рекомендациям, Алопеус был принят в самых замкнутых кругах общества. Везде его встречали с почетом, носили на руках. Он разыгрывал роль непримиримого врага Франции, и, не стесняясь, говорил о создании новой лиги для освобождения Европы. Рядом с предметом столь высокого значения, прибавил он, стоит ли говорить о второстепенных интересах на Дунае? К тому же, говорил он далее, император Александр, не отказываясь от своих справедливых требований, желает оберегать интересы Австрии; он готов щадить ее самолюбие и при окончательном соглашении не прочь уступить ей хорошую долю. Отчего бы, говорили наперерыв члены английской и русской партии, не воспользоваться столь счастливыми обстоятельствами, отчего не ухватиться за эту нить и не добиться от царя соглашения на Востоке, пожертвовав союзом на Западе”.[502 - Correspondance de M. Otto, juin-juillet, ao?t, 1810 г., passim.]
Иного, но не менее решительного, мнения, держались лица, которые из принципа или выгоды были на стороне Меттернихов. Они, как и сам министр, верили в пользу кратковременного, но тесного сближения c Францией. В отсутствие своего главы, отец которого был плохим его заместителем, они пошли дальше его намерений. В настоящем кризисе они видели спасение только в Наполеоне. По их словам, следовало, как можно скорее перейти на сторону Наполеона, отдалить его от России и добиться, чтобы он наложил veto на княжества.
Эта партия, не столь многочисленная, как первая, была сформирована из менее высокой общественной среды и со времени брака занимала среди советников императора господствующее положение; она захватила власть, но не имела времени упрочить ее за собой. Несмотря на то, что император Франц вполне искренне оказывал предпочтение Франции, наши противники не пренебрегали никакими усилиями снова овладеть им. Они никогда и нигде не давали ему покоя. Это были самые неугомонные заговорщики против спокойствия монарха, уставшего от политики, любившего тихую спокойную жизнь. Во время недавнего путешествия в Богемию они постоянно приставали к нему с назойливыми советами. То же самое было, когда он поехал на воды в Баден, около Вены, имея в виду поправить здоровье и пожить в уединении, – и там он не избавился от агентов России, слова которых ввергали его в сомнение и нарушали его покой. Сознавая свою слабость, не уверенный в самом себе, он желал формального обязательства с Наполеоном, которое оградило бы его и от собственной слабохарактерности, и от назойливых советников. Он стремился связать себя обязательствами, хотел наложить на себя путы; отречься от свободной воли, которую боялся дурно использовать. Он говорил нашему посланнику: “Интриги прекратятся только с подписью договора о союзе”.[503 - Отто Шампаньи, 19 июля 1810 г.] Пользуясь настроением монарха, партия Меттерниха настояла на том, чтобы обратились к Наполеону с положительными предложениями и официально просили его вмешательства в дела на Дунае.
В начале июля князь Меттерних завел откровенный разговор с нашим посланником. С горечью указывая ему на успехи России, он закончил указанием на выгоды соглашения между Францией и Австрией с целью положить предел захватам варварского государства, которое производит угнетающее действие на всю Европу и грозит наложить на нее свое ярмо”.[504 - Id., 6 июля 1810.] В следующие за тем дни Отто только и слышал разглагольствования о русской опасности, “о страсти к завоеваниям, которая угрожает, поглотить все от Лапландии до Эгейского моря”.[505 - Id., 12 июня.] Ему говорилось, что следует во что бы то ни стало отдалить Наполеона от России, что нужно разрушить последний остаток союза, который, по признанию австрийских министров, ставил “Австрию в крайне затруднительное положение”. Князь Меттерних говорил, что Россия никогда не будет искренним другом Франции; что “каковы бы ни были личные взгляды императора Александра, ее самые влиятельные люди всегда будут на стороне Англии”;[506 - Отто Шампаньи, 6 июля.] что, чтобы сбросить с себя маску, она ждет только окончания войны с турками, т. е. момента, когда эти исконные союзники Франции будут поставлены вне возможности бороться. Действительно, как бы в подтверждение таких намерений России, наши официальные и тайные агенты говорят “о подозрительном поведении” петербургского кабинета, о его двойственной игре, о противоречии между его публичными заявлениями и тайными проделками его агентов. Они доносят “о странном поведении Алопеуса, про которого можно подумать, что он послан королем Георгом, а не императором Александром”;[507 - Id., 12 июля 1810 г.] сообщают, что эти интриги волнуют венское общество, подрывают кредит французской партии; что теперешнее министерство воодушевлено самыми лучшими намерениями, но, прибавляют они, будет ли оно в силах выдержать натиск враждебных элементов, если Франция не позволит ему рассчитывать на ее поддержку. Вот случай окончательно овладеть Австрией и закрепить принципы ее политики, какого, может быть, не представится более. Но император Наполеон должен, не теряя времени, воспользоваться этим случаем, иначе ни за что нельзя ручаться. “Все это держится на ниточке, – говорил князь Меттерних, – чтобы порвать ее, немного нужно”.[508 - Id.] Вместе с этим удвоилась и небескорыстная лесть по адресу Наполеона, и в этом отношении император Франц со свойственным ему простодушием не щадил самого себя. Он приходит в восторг, более того – он умиляется при известии, что Мария-Луиза вскоре подарит ему внука. Говоря о будущем римском короле, он произносит слова, о которых впоследствии ему пришлось более, чем забыть: “Этот ребенок всегда найдет во мне отеческие чувства”.[509 - Id., 8 ao?t.]
Когда, таким образом, почва была подготовлена, австрийской миссии было поручено приступить к делу и напрямик возбудить вопрос о княжествах. Не зная, находится ли Меттерних в Париже, так как он то извещал о своем возвращении в Вену, то откладывал отъезд, венский кабинет отправил инструкции князю Шварценбергу. Было бы большим счастьем, – говорилось в отправленных 17 июля инструкциях, – если бы Наполеон согласился присоединиться к Австрии с тем, чтобы помешать русским захватить что-либо по нижнему течению Дуная. Вероятно, совместного представления Франции и Австрии было бы вполне достаточно для достижения этой цели. Австрия охотно поддержит этот шаг военной демонстрацией, но необходимо, чтобы Наполеон начал дело дипломатическим путем и первый возвысил голос; теперь все усилия посольства должны быть направлены к тому, чтобы заставить его взять на себя инициативу по этому делу.[510 - Beer, Geschte der orientalischen Politik Cesterreicn's, 232.]
Это было уже нескрываемым натравливанием на Россию. С удивительным бесстыдством, с поразительной дерзостью Австрия открыто выступила в роли, которую до сих пор вела под сурдинку. Она без всякого стеснения просила Наполеона разорвать эрфуртский договор и толкала его на клятвопреступление. Меттерних был еще в Париже, когда прибыли инструкции от 17 июля. Шварценберг познакомил его с ними. Спокойный, уравновешенный Меттерних не одобрял такой поспешности. Он предпочитал, чтобы вместо того, чтобы забегать к императору, Австрия выждала, пока он сам обратится к ней. Тем не менее, он постарался исполнить желание своего двора. Предоставляя Шварценбергу действовать официальным и иерархическим путем, т. е., обратиться к министру, он, со своей стороны, обратился к самому императору и задал ему следующий вопрос: “Думает ли он сохранить полностью заключенные в Эрфурте обязательства, или, быть может, согласится заодно с Австрией сделать в Петербурге шаги, которые могли бы спасти княжества?”.[511 - Mеmoires de Metternich, II, 375.]
Ответ Наполеона был вполне определенный. “Я дал известные обязательства, – сказал он, – у меня нет ни причины, ни предлога нарушать их. Эти обязательства чрезвычайно чувствительны для меня; я усматриваю в них истинный вред для Франции, но ведь вы знаете, что меня привело к этому. Отречься при настоящих условиях от этих обязательств значит тотчас же доставить России предлог к войне, что не согласуется с моими видами и, сверх того, навсегда лишит меня права на доверие к моим обязательствам. Какую же гарантию могу я дать вам самим, если нарушу точное обязательство по той лишь причине, что, в силу изменившихся обязательств, я могу менее церемониться с государством, с которым я его заключил?[512 - Mеmoires de Metternich, II, 375.]
За этими полными достоинства словами скрывался политический расчет. Наполеон ничего не имел против того, чтобы Александр завладел княжествами, ибо это приобретение всего вернее разъединило бы Австрию и Россию; оно поставило бы между ними вечную преграду, направив их соперничество на Востоке на один пункт – низовье Дуная. Здесь, при своем стремлении на Юг, Россия встречала на своем пути последнее оставшееся открытым для австрийского расширения поприще, и, овладевая им, закрывала его для Австрии. Таким образом, интересы обоих государств должны были непримиримо столкнуться на этом пункте их честолюбивых стремлений. Пока участь княжеств не была решена, пока дело не было кончено, можно было опасаться, что какой-нибудь компромисс примирит притязания соперников. Но лишь только русские наложат руку на предмет спора, донельзя оскорбленная Австрия увидит, что, кроме нас, ей некуда идти; и если когда-нибудь обстоятельства вынудят Наполеона обратиться к ней, он может сделать это с большей уверенностью, что не встретит отказа.
Поэтому он не только отказал австрийцам в своей материальной и нравственной поддержке, но и убеждал их смириться и преклониться пред готовым совершиться фактом. Он высказал, что не запрещает, им оспаривать у России княжества и даже начать с ней из-за них войну, что готов предоставить им полную свободу, что будет соблюдать строгий нейтралитет и останется простым зрителем. Но будет ли им выгодно пускаться в одиночестве на ничего доброго не обещающее предприятие? Он не думает этого, и, конечно, не посоветует им ничего подобного. По его словам, было бы лучше всего, если бы Австрия, отказавшись от войны, дала туркам совет согласиться на уступку княжеств, дабы теперь же покончить с войной, начинавшей принимать тревожные размеры. Но, верный избранной им два месяца тому назад тактике, он не хотел, чтобы Меттерних вышел из его кабинета под гнетом слишком мрачных мыслей, и постарался оставить ему некоторую надежду на будущее. Он сказал, что, хотя он и смотрит на вопрос о княжествах, как на вопрос в настоящее время решенный, хотя лично никогда не заведет о нем разговора, но, что, может быть, в один прекрасный день Россия сама даст предлог поднять его, порвав с нами и перейдя на сторону наших врагов. За свою измену она тотчас же поплатится тем, что приобрела в Эрфурте; и, если Австрия сумеет занять в нашей дружбе место русских, она может наследовать признанные нами за русскими права на княжества. Тогда, – и только тогда, – он не откажется возобновить разговор о предмете, который теперь вне обсуждения. “В случае, – сказал он Меттерниху, если русские дойдут до безумия и поссорятся с нами, что будет им стоить Финляндии, Молдавии и Валахии, приобретенных ими благодаря союзу со мной, вы знаете, что можете рассчитывать на меня. Тогда вы сообщите мне ваши мысли, а я вам свои”. Этими подающими надежду словами он и закончил разговор.[513 - Mеmoires de Metternich, II, 375 – 376.]
Однако, он полагал, что за причиненную австрийцам неприятность следует доставить им некоторое утешение менее призрачного свойства. Он предлагает им протекторат над Сербией, не ведая, что это же самое предлагается им и императором Александрам. Он приглашает их вмешаться в дела Сербии, распространить на нее свое влияние и, в случае надобности, ввести в Белград некоторое количество войск.[514 - Id., 362, 370 – 373, 376.] Затем был еще один пункт, по которому, при известных условиях, он допускал немедленное соглашение с Австрией. Возможно было, что русские, опьяненные успехами, видя у ног своих бессильную Турцию, захотят перейти назначенный для них предел; что они забудутся до того, что потребуют от турок, кроме княжеств, еще некоторые земли на правом берегу Дуная; что они задумают, дабы уничтожить ту главную преграду, которая останется единственным средством защиты Оттоманской империи, удержать за собой по ту сторону реки, под видом залога, некоторые стратегические пункты и крепости или предмостные укрепления. В 1808 г. петербургский кабинет обещал удовольствоваться княжествами и не касаться других оттоманских владений. Отнесется ли он с уважением, как по букве, так и по духу, к этому обязательству? “Я хотел бы верить этому, – говорил Наполеон Меттерниху, – но аппетит приходит во время еды, теперь я не позволю себе потворствовать замыслам графа Румянцева”.[515 - Mеmoires de Metternich, II, 370.] Но, продолжал он, если Россия проявит хотя бы малейшее желание присвоить себе что-либо на запретном берегу, – он знает, что делать. Тогда он решительно выступит против такого намерения и тотчас же объявит о своем переходе на сторону Австрии.
Еще до этого разговора он приказал своему посланнику в Вене затронуть это предложение.[516 - Шампаньи Отто, 23 июля 1810 г.] В интимных беседах с Меттернихом он был более откровенен и точен. “Если русские, – сказал он, – возымеют намерение выйти из пределов заключенных с нами обязательств и, следовательно, нарушить их, – я буду считать себя свободным, и вы можете рассчитывать на меня во всех отношениях”[517 - Mеmoires de Metternich, II, 376.]. Впрочем, он не хотел оставлять русских в неведении и сообщил в Петербург, что он признает и чего не допустит, “Мне будет приятно, писал он, – если Турция заключит мир, уступив левый берег Дуная: это отвечает моим желаниям. Но если Россия удержит что-либо на правом берегу и вмешается в дела Сербии, она тем самым нарушит свои обязательства со мной. Насколько я доволен тем, что Россия кончает войну с Турцией, в той же мере я буду недоволен, если она удержит правый берег; даже одна крепость, удержанная Россией на правом берегу Дуная, покончит с независимостью Порты и совершенно изменит положение вещей”. Таким образом, несмотря на все усилия Австрии сбить его с почвы эрфуртского договора, он по-прежнему упорно держится на ней, но при этом объявляет, что ни на йоту не допустит выйти из пределов договора.
II