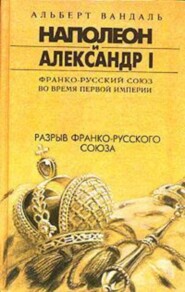По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Второй брак Наполеона. Упадок союза
Автор
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Русское правительство давно уже готовило выпуск займа в Париже. Куракин усердно хлопотал о нем, видя в этом главное дело, вверенное в настоящее время его попечениям. Но, несмотря на официальное содействие французского правительства, операция, по-видимому, должна была провалиться. Со временя неудачи с брачным проектом французские капиталисты, следившие за ходом политики, инстинктивно отстранились от России. Тогда Россия вообразила, что Наполеон может предписать доверие и таким образом доставить успех предприятию. Думая, что на нее мало обращают внимания, она становилась более требовательной и в резкой форме ссылалась на свои права союзницы. Куракин выразил желание, чтобы заем был гарантирован Францией, чтобы Наполеон поручился и принял на себя ответственность за императора Александра. Это значило, вместо содействия в устройстве займа, просить нечто вроде правительственной ссуды. И в период наилучших отношений Наполеон счел бы это притязание чрезмерным; тем паче при настоящих условиях у него не было ни малейшей охоты согласиться на это. Чтобы отклонить такое притязание, он сослался на строгости конституции, я кстати вспомнил, что основным законом VIII года запрещалось отдавать в заем денежные средства страны без согласования Законодательного Корпуса.[419 - Шампаньи Коленкуру, 20 апреля 1810 г.] Узнав, что требование ее сочтено неприемлемым, Россия обиделась, отказалась от внешнего займа и открыла подписку на внутренний. На смену ей явилось австрийское правительство и начало хлопоты по займу для себя. Оно также нуждалось для покрытия неотложных нужд и издержек по последней войне во внешнем займе и обратилось с просьбой выпустить его на биржах Парижа, Брюсселя и Женевы. Действуя более обдуманно, избегая создавать затруднения, Австрия удовольствовалась выгодами, предоставленными ей объявлением о займе в Moniteur'e и допущение котировки займа на парижской бирже. Наполеон легко согласился на все эти пункты, даже оказал содействие, таким образом, разрешил Австрии получить капиталы, на которые рассчитывала Россия.[420 - Mеmoires de Metternich, II, 381 – 485.]
Такая перемена в симпатиях Наполеона, такое роковое вытеснение одного государства другим с каждым днем становились все более заметными. Это особенно бросалось в глаза в то время, когда императрица торжественно проезжала через Германию, направляясь из Вены в Париж. Наполеон хотел, чтобы путешествие совершилось быстро, но торжественно. Бертье, руководивший путешествием, распоряжался с чисто военной аккуратностью и энергией, как подобает начальнику штаба великой армии. Он заранее точно назначил этапы, довел до минимума остановки и приказал ехать с возможной быстротой. Но, несмотря на все это, торжественные встречи, устраиваемые по правилам этикета на протяжении всего пути, подчеркивали на каждом шагу, с бьющим в глаза тщеславием, картины возрастающего между французами и австрийцами единения.
В тот день, когда императрица, при торжественной обстановке покидает Вену, большая часть города украшается трехцветными флагами, оркестры играют наши национальные мотивы, и это вторжение революционных напевов в столице Священной Империи поражает, как знамение времени. Далее имеет место передача императрицы избранным императором комиссарам. Это происходит в Браунау, в павильоне, разделенном на две половины: французскую и австрийскую, где представители самой гордой аристократии Европы обмениваются любезностями и дружескими уверениями с вновь испеченной знатью, завоевавшей на поле битвы свои титулы. В то время, когда солдаты обоих конвоев – аристократическая гвардия Вены и французские стрелки, венгерские гусары и гренадеры Фриана – собираются вокруг одних и тех же столов, под зеленой сенью дерев и весело братаются и чокаются, подобно тому, как недавно еще французы и русские чокались на пиру в Тильзите, дочь Габсбургов, которую встречает и приветствует неаполитанская королева, передается одной из рода Бонапартов. Далее на пути следования – немецкие города Мюнхен, Аугсбург, Ульм, Штутгарт, Раштадт украшаются драпировками, цветами, флагами и зажигаются иллюминации. Это короли и принцы Конфедерации приветствуют высокую новобрачную и в своих изъявлениях верноподданнического долга соединяют воедино сегодняшнего покровителя со вчерашним верховным владыкой – Наполеона с Францем, и повсюду население, не способное уловить оттенки, не умеющее отличить семейных уз от политического единения, простого примирения от союза, приветствует радостными кликами брак как симптом союза, заключенного между двумя императорскими домами с целью общими силами положить основу нового мирового порядка. Повсюду говорится о несуществующем еще союзе. Его прославляют в прозе и стихах, в речах, тостах, поэмах; изображают в виде аллегорий, метафор, группами из мифологии. О нем возвещают – в громких и торжественных выражениях – в надписях на триумфальных арках, в девизах, изображенных на складках развевающихся по ветру знамен и драпировок. О том же говорится и на щитах с изображением римского орла Наполеона с геральдическим австрийским орлом. Официальный лиризм соперничает в изобретательности с наивным восторгом толпы; пылкое французское воображение соединяется с немецкой сентиментальностью, и союз двух государств изображается символически в тысяче видов. На громадном протяжении выставляются на показ его эмблемы, и на расстоянии четырехсот лье от Вены до Парижа, на территории пяти государств и двадцати городов, воздвигаются в честь его прозрачные аллегории.[421 - Письмо князя Невшательского императору, Archives nationales, AF, IV 1675, Moniteurs de mars 1810; Correspondance du comte Otto; Helfert, 114 – 124.]
Но в этом бурном потоке дружеских излияний, среда знаменательных встреч и манифестаций, нигде не появилось имени России – этой официальной и законной союзницы Франции. О ней как будто забыли, как будто пренебрегли ею. Держась в стороне, вдали от всего, забытая, оставленная в одиночестве, она прислушивалась к доходившему до нее шуму празднеств и с неприязненным любопытством созерцала несущийся вдали от нее поток великолепных зрелищ. “Итак, вы приближаетесь к развязке, – писал Коленкур Талейрану, – а мы издали смотрим на это со своих позиций.[422 - Предыдущее письмо на стр. 309.] Русский посланник в Вене, граф Шувалов, отмечал с своего обсервационного пункта все события во время путешествия. Он не скупился на язвительные замечания по адресу императрицы, указывал на неожиданно появившиеся в ней черты характера – надменность и повелительный тон; подчеркивал, как легко по желанию Наполеона рассталась она в Мюнхене с своим другом, – воспитательницей графиней Лазанской. В малейших мелочах он находил указания на то, что Австрия беззаветно отдается Франции”.[423 - Шувалов Румянцеву, апрель-май 1810 г. Archives de Saint-Pеtersbourg.] Наконец, он сообщил о факте, имеющем не только важное, но даже тревожное значение. Граф Меттерних только что уехал в Париж с тем, чтобы присутствовать при въезде императрицы и остаться там на некоторое время. Шувалов сообщал далее, что, уезжая из Вены, Меттерних предоставил временное управление министерством своему отцу, князю Меттерниху; но что этот престарелый государственный человек будет только подставным лицом, так как внешней политикой империи по-прежнему будет ведать его сын; что, таким образом, вместе о Меттернихом переместился в Париж и венский кабинет, и, вероятно, это делается с той целью, чтобы окончательно выработать союзный договор, которого так боялся в Петербурге; что выбор эрцгерцогини обозначил помолвку Наполеона с Австрией: приезд же Меттерниха в Париж, совпадающий с приездом Марии-Луизы, по-видимому, имеет целью дополнить и довести до конца дело единения.
22 марта Мария-Луиза переехала через Рейн около Страсбурга и вступила на французскую землю. Дальнейший путь шел на Нанси и Реймс. Встреча супругов должна была произойти вблизи Суассона, в палатке, украшенной пурпуром и золотом. Здесь, па древнему обычаю, императрица должна была преклонить колено пред своим повелителем и государем и, как первая из его подданных, присягнуть в верности. Известно, что Наполеон избавил ее от этой церемонии. Выехав ей навстречу он проехал вместе с нею прямо в Компьен. Князь Шварценберг, графиня Меттерних и незадолго до этого приехавший в Париж граф Меттерних были приглашены в эту резиденцию. Наполеону хотелось, чтобы, при выходе из кареты императрица увидела около себя дружеские лица, чтобы присутствие ее соотечественников дало ей иллюзию второй родины, чтобы видя их, она не так трусила и не чувствовала себя столь одинокой в среде, где все ей было незнакомо и ново.
В следующие затем дни эти трое австрийцев, которым отведены были покои в замке и которые были допущены к императорскому столу, пользовались исключительными прерогативами. 31 марта Меттерних сопровождал императорскую чету из Компьена в Сен-Клу по шедшему мимо столицы пути, который парижские женщины усыпали цветами. 1 апреля он с Шварценбергом и двумя соотечественниками, графами Шенборном и Клари, были единственными иностранцами, присутствовавшими при гражданском браке, совершенном великим канцлером в галерее Сен-Клу в присутствии императорской семьи, придворных и высших чинов государства. При виде почестей, вполне естественных в подобном случае, толпа царедворцев не сомневалась более, что симпатии императора обратились к Австрии. Она повернулась лицом к восходящему солнцу и начала ухаживать за австрийцами, делая вид, что все это делается по собственному побуждению, что внимание оказывается из личной симпатии, так сказать, по сродству душ, а не только потому, что это желательно их повелителю.
Почести, которыми пользовался Меттерних, далеко превосходили обычные почести. Он с тем большим удовольствием наслаждался своим настоящим положением, что видел в этом указании на упадок значения соперничающего с Австрией двора. “В настоящее время, – писал он своему государю, – положение посланника Вашего Величества в Париже такое же, каким было положение русского посланника до последней войны”.[424 - Mеmoires, I, 332.] Для довершения контраста вдруг распространился слух, что князь Куракин не будет присутствовать на церемонии церковного брака, которой предстояло быть в Париже и которою должны были завершиться празднества. В свое оправдание посланник России будто бы ссылался на свои немощи. Этот слух не подтвердился. Тем не менее, мы увидим, что неожиданное стечение обстоятельств осудит представителя царя до самого конца играть или жалкую, или тягостную роль – оно всюду выставит Австрию в милости, Россию – в опале.
2 апреля наступил торжественный день. Рано утром, когда император с императрицей в сопровождении свиты выехали из Сен-Клу и направились в Париж, большинство приглашенных из привилегированного класса, – все, что было в городе самого высокого по рангу, состоянию, официальному или общественному положению, собралось в Лувре. Одни – в большой художественной галерее, другие – в зале Аполлона, превращенной в капеллу. Первые были допущены смотреть на свадебное шествие, которое должно было следовать из Тюльери в Лувр внутренними покоями дворца; вторые – для присутствия при религиозной церемонии. К десяти часам утра места были уже заняты, съезд почти закончился. Четыре тысячи роскошно одетых дам в придворных мантиях занимали хоры капеллы и ряды скамеек, поставленных по обеим сторонам галерей. На улицах непрерывно гремели залпы из орудий. Начавшись при въезде высочайших особ в город, они по мере движения процессии приближались к Лувру и обозначали ее ход. По все более учащавшимся выстрелам узнали, что император проследовал под Триумфальной аркой, что он спускается по Гранд-Авеню, что он прибыл на площадь Конкордия. Он приближался к Лувру при звуках труб, окруженный военной свитой и толпой своих маршалов, приветствуемый на всем пути следования войсками. Впереди него шла кавалерия его гвардии, затем церемониймейстеры, герольды, его двор, двор трех королей и трех королев. Он ехал шагом в парадной карете, запряженной восьмериком украшенных панашами лошадей. Карета представляла из себя движущееся, построенное из хрусталя и золота здание, через прозрачные стенки которого можно было видеть римский профиль Цезаря с увенчанным лаврами чехлом, и рядом с ним украшенную императорской диадемой, изумленную молодую женщину, которую он показывал своему народу как свое самое драгоценное завоевание. Красота упряжки и ливрей, вновь введенная роскошь придворных нарядов, блеск оружия создавали вокруг него ослепительное сияние. Восторженная толпа склонялась перед ним с чувством обожания, и на возгласы солдат: “Да здравствует император!” отвечала неумолкаемыми криками.
Это глубокое и почти религиозное настроение не проникло еще в здание Лувра, где долгое ожидание притупило любопытство и ослабило напряжение умов. Многие оставляли свои места, и в зависимости от взаимных симпатий или даже случайных встреч, составлялись группы. Приглашенные в капеллу смещались с приглашенными в галерею, где играла музыка “и обносили прохладительными напитками”.[425 - Moniteur от 10 апреля.] Эта часть дворца, украшенная художественными произведениями, большая часть которых были победными трофеями, приняла вид громадного, нарядного салона, где прогуливались, болтали, злословили и свободно обменивались впечатлениями. Одни старались предусмотреть инциденты, которые могли бы внести нечто пикантное и неожиданное в предстоящий великий акт, другие подмечали забавные стороны, которые всегда можно найти и в величественных зрелищах, и в человеческих страстях и страданиях.
Несмотря на большие толки, вызванные отсутствием в рядах духовенства тринадцати кардиналов, протестовавших против процедуры развода без вмешательства папского престола, прибытие дипломатического корпуса ожидалось с большим нетерпением. Всех интересовало, явится ли посол России князь Куракин. Иностранные миссии, собравшись по особому приглашению в здании австрийского посольства, вошли все вместе в установленном порядке. Князь Куракин появился среди своих коллег более великолепный, чем обыкновенно, сияя орденами, покрытый золотом и драгоценностями, неся на себе два миллиона драгоценных камней, но бледный и похудевший, едва держась на ногах, достойный жалости и смеха. Он рассказывал о своих страданиях и выражал свой восторг в такой преувеличенной форме, что для всех было ясно, как неловко он себя чувствует.
Ни за что на свете, говорил он, не согласился бы он отсутствовать на таком прекрасном торжестве. Его государь никогда не простил бы ему, если бы он заболел в такой день. Уже это одно заставило его собрать последние силы, превозмочь жестокие боли и приказать донести себя до капеллы. Он в продолжение долгого времени упорно подчеркивал все эти мелочи, желая, чтобы все знали о его героизме и оценили причины, побудившие его к этому. Из своего присутствия он желал создать целое событие, и думая таким путем опровергнуть распространившийся слух, что в России недовольны этим браком, он, наоборот, еще больше подтвердил этот слух и придал ему еще большее значение.[426 - Бюллетени полиции. Archives nationales, AF, IV, 1508.]
Его натянутый и неискренний тон выделялся еще более рядом с поразительной простотой и полной достоинства непринужденностью, с какими Меттерних принимал поздравления и знаки почтения. Тот весь сиял, рассыпался в любезностях, ухитрялся всегда быть на виду и играть первую роль. Он очень скоро дал яркое доказательство своего искусства, Так как все перипетии церемонии должны были следовать друг за другом без перерыва и, следовательно, получившие приглашение должны были оставаться во дворце в продолжение всего дня, то граф Рено-де-Сен-Жан-д’Анжели приказал приготовить изысканный завтрак в одной из зал, отведенных для занятий государственного совета, где он председательствовал на секциях министерства внутренних дел. Такое любезное внимание относилось, главным образом, к дипломатическому корпусу. Австрийцы первые воспользовались им. Во время завтрака на Меттерниха нашло внезапное вдохновение. Этот вельможа не пренебрегал при случае публичными манифестациями и, когда считал это нужным, умел говорить с толпой. Он взял бокал, подошел к открытому окну, выходившему в переполненные народом проходы между зданиями дворца, и, показываясь перед собравшейся любопытной и гуляющей толпой, с чувством воскликнул, поднимая бокал: “За Римского Короля”.[427 - Souvenirs du baron de Barante. I, 318.]
Впечатление получилось поразительное. Всем было известно, что первенец императора должен был носить титул Римского Короля, а, с другой стороны, не было секретом, что даже после Аустерлица австрийский дом не переставал требовать вернуть ему корону римлян, как простой знак достоинства, охраняемого им с ревнивой заботливостью. Благодаря такому упреждающему события признанию похищенного у него титула, австрийский дом как бы узаконил захват; он отрекался в пользу молодой империи от своих самых высоких привилегий и устанавливал их за нею. Это проявление необычайной уступчивости, указывавшее на преданность и поклонение Австрии императору французов, прогремело на всю Европу. В особенности этим были испуганы и возмущены русские. Они увидели в этом лишнее доказательство того, что Австрия беззаветно отдалась Франции. Один из русских в письме из Вены говорил о Меттернихе: “Министр, который; устроив брак, мог воскликнуть: “Монархия спасена!”; который за завтраком у Рено-де-Сен-Жан-д'Анжели, в день бракосочетания императрицы Maрта-Луизы в Париже, мог, не будучи на то вызван, пить за здоровье будущего римского короля (вопреки священной для каждого австрийца памяти о титуле римского короля), этот министр – говорю я – чтобы быть последовательным, неизбежно должен стараться вовлечь своего государя в союз с французским правительством”.[428 - Штакельберг Румянцеву, 15 – 27 ноября 1810 г. Archives du Saint-Pеtersbourg.]
Уже по провозглашении Меттернихом его тоста и после того, как завтрак был уже окончен, гости увидели, что в залу идут члены русского посольства, которые тоже желали подкрепить свои силы; но сил заблудились и беспомощно бродили по залам дворца, где на них не обращалось уже особенного внимания. “Это доставило обильную пищу для насмешек над Россией, которая прозрела слишком поздно”.[429 - Souvenirs du baron de Barante, I, 318.]
Под конец Куракин решился удалиться отдохнуть в отдельной комнате, предоставленной в его распоряжение. И – о, жестокая ирония судьбы! – он отправился туда поддерживаемый с одной стороны Меттернихом, с другой – Шварценбергом, которые предложили ему опереться на их руки.[430 - Бюллетень полиции. Archives nationales, AF, IV, 1508, 3 апреля 1810 г. “Некоторые шутники, говорится в бюллетене, видя, что Меттерних ведет Куракина, говорили: “Это в порядке вещей, кому же другому выпроваживать его за дверь”. Впрочем, престарелый князь скоро оправился от временного упадка сил и, как только было объявлено о прибытии высочайших особ и начале службы, снова явился в капеллу. Когда он увидал Марию-Луизу, он счел нужным разразиться по ее адресу потоком восторженных фраз. По его словам, с тех пор, как он видел ее в Вене, он нашел в ней удивительную перемену к лучшему. “Она хороша, как ангел!” – с восхищением повторял он. Выведенный из терпения этим тоном, звучавшим фальшиво и начинавшим производить дурное впечатление, Меттерних нашел необходимым умерить неуместный восторг князя и установить тон, в каком надлежало восхвалять императрицу. “Правда, сказал он, Ее Величество замечательно развилась в течение последних трех-четырех лет; черты лица ее определились, в ней много грации и достоинства; здоровье ее великолепно, не будучи хорошенькой, она прекрасна”. [Предыдущий бюллетень полиции.] Впрочем, престарелый князь скоро оправился от временного упадка сил и, как только было объявлено о прибытии высочайших особ и начале службы, снова явился в капеллу. Когда он увидал Марию-Луизу, он счел нужным разразиться по ее адресу потоком восторженных фраз. По его словам, с тех пор, как он видел ее в Вене, он нашел в ней удивительную перемену к лучшему. “Она хороша, как ангел!” – с восхищением повторял он. Выведенный из терпения этим тоном, звучавшим фальшиво и начинавшим производить дурное впечатление, Меттерних нашел необходимым умерить неуместный восторг князя и установить тон, в каком надлежало восхвалять императрицу. “Правда, сказал он, Ее Величество замечательно развилась в течение последних трех-четырех лет; черты лица ее определились, в ней много грации и достоинства; здоровье ее великолепно, не будучи хорошенькой, она прекрасна”[431 - Предыдущий бюллетень полиции.].
Церемония шла своим чередом с величественной торжественностью. К пышности, которую воскресил или даже создал Наполеон, религия присоединила свою традиционную, веками не сокрушимую торжественность. Никто не избег чарующего впечатления того момента, когда шествие в величественном и строгом порядка проходило по галерее, когда в сопровождении длинной вереницы Величеств и Высочеств император вел императрицу, шлейф которой поддерживало три королевы и две принцессы крови. Никогда еще в этом дворце, где всюду оживало воспоминание о двух расах, монархия не выполняла в таком порядке, с таким достоинством и блеском своих обязанностей по поддержанию величия и блеска. Отчего же эта бесподобная сцена не дала зрителям полного удовлетворения? Почему, хотя у многих из присутствующих взоры и были ослеплены, сердца их оставались холодными, и они были счастливы только потому, что это было им приказано? Наполеон отучил своих подданных верить в его благоразумие. Он слишком сильно давал им чувствовать, что, если ему суждено быть вечно счастливым, то только в силу его чудесной судьбы, попирающей все законы природы и разума. Еще недавно на австрийский брак указывали, как на узду для его воинственных порывов, теперь же стали видеть в нем предзнаменование новых войн. Мысль о далекой России неотступно преследовала многих. Ее поведение, невзирая на то, что оно было и предусмотрено, и предсказанного, и объяснено надлежащим образом, заставляло бояться со стороны императора внезапной вспышки гнева, влечения к неизвестному, смелости, превосходящей всякие границы. Во время шествия была подхвачена зловещая фраза. “Все это, – будто бы сказал Мунье, – не помешает вам в недалеком будущем найти смерть в Бессарабии”.[432 - Souvenirs du baron de Barante, I, 317.] Об этой участи, подобной участи Карла XII, от которой Камбасерес, как осторожный и мудрый советник, предостерегал Наполеона, говорили теперь и другие, – правда, вполголоса, но с грубой откровенностью. Многие с невозмутимой покорностью смотрели на ее приближение и ясно различали на Севере величайшую опасность.
Правда, эти имеющие уже основание страхи, эти откровенно высказываемые опасения не распространялись далее официальной и великосветской среды, далее политических и мыслящих кругов. За стеками дворца громадная толпа, привлеченная в Париж объявлением о торжественных празднествах, всецело отдавалась развлечениям, уже не без пресыщения, которое является неизбежным спутником дней, богатых великими зрелищами и сильными душевными волнениями. Она разлилась по всему городу, ища повсюду обещанных удовольствий и ожидая ночи, когда предполагались грандиознейшие зрелища, столь же интересные, как и дневные. Она наполняла Тюльерийский сад, где перед появившейся на балконе дворца императорской четой проходили церемониальным маршем гвардейские части. Затем наступала очередь драгун, улан, стрелков и гренадеров. Пламенный, искренний восторг этих прославившихся солдат был неиссякаем. Подняв на саблях кивера и каски, неистовыми криками приветствовали они своего главу, свое божество, видя в дочери австрийского императора только лишний трофей, завоеванный его гением и их храбростью.
Среди тех французов, у которых военная карьера не поддерживала постоянно приподнятого восторженного настроения, проявлялось иное чувство. Несмотря на то, что они хранили теплое воспоминание о Жозефине и сожалели об этой доброй императрице, они снисходительно относились к Марии-Луизе, видя в ней залог мира, знамение примирения Франции с Европой. Повсюду повторяемые слова о согласии и единении на короткое время создали иллюзию всемирного покоя; они успокоили на время душевные тревоги народа, привыкшего уже верить в роковую неизбежность борьбы: они заставили его забыть свои страдания, мешали ему слышать глухой рокот пушек, гудевший вдали за Пиренеями и обращавший их внимание на все еще длившуюся войну – на это преступное деяние, которое не могло оставаться без возмездия. Поклонение и преданность императору, сильно пошатнувшиеся за последние два года, снова начали овладевать всеми. Мечтали о несбыточном; надеялись, что наконец-то он почиет на лаврах счастья и славы, что исполнение его самых заветных желаний облегчит страдания его подданных. “Вот прекраснейший момент его царствования. – писал верный его слуга, – да принесет он ему счастье, а нам лучшие времена”.[433 - Коленкур Талейрану, 25 февраля 1810 г. Archives des affaires еtrang?res, Russis, 150.] Это-то желание, в осуществление которого до сих пор не смели верить, нашло отклик в глубине миллионов французских сердец. Нация слишком часто испытывала опьяняющую радость победы, чтобы и теперь гоняться за нею и находить в ней удовольствие. Она праздновала брак с Марией-Луизой, как залог забвения прошлого, как залог устойчивости, как зарю более милостивой эры, как победу над войной.
С своей стороны, Наполеон ничего не щадил, чтобы придать своему браку успокоительное значение. В это время он, действительно, старался сделать себя менее грозным для Европы. Он принимал серьезные меры, чтобы уверить династии в их безопасности и отвратить от себя ненависть народов. Он отозвал свои войска из Германии и приказал им отойти за Рейн: очистил территорию Конфедерации, решив оставить там только две дивизии: одну – для занятия ганзейских городов с целью закрыть туда доступ английским товарам, другую – для охраны Вестфалии и надзора за Пруссией. Он торопился окончить денежные споры с Пруссией, отсрочил присоединение Голландии, предоставив царствовать там королю Людовику и поставив ему условием полнейшую покорность, – он нетерпеливо желал кончить все дела. Перенеся свое внимание на слишком небрежно веденную испанскую войну, он собирался путем целого ряда лучше проведенных операций сломить сопротивление мятежников, загнать на окраину полуострова и выбросить из Европы единственную армию – великобританскую. Конечно, если Англия упорно будет оспаривать его завоевания, он будет действовать против нее везде с удвоенной энергией. В нем возрождается его вечная надежда, что примирение с Австрией, обеспечивая прочный мир на континенте, позволит ему обновить и необычайно развить средства к морской войне. Но прежде чем начать против своей соперницы истребительную кампанию, он обращается к ней со словами примирения. Он напрашивается на переговоры, предлагает – как предварительное для переговоров условие – смягчить строгие меры блокады, лишь бы только британские министры отменили свои постановления, посягающие на свободу морей. “Само собой разумеется, – пишет он, – что мир может состояться только тогда, когда война будет вестись не так жестоко”.[434 - Corresp. 16352.]
Слишком поздняя, недолговечная умеренность и, к тому же, бесполезная! Борьбе Франции с Англией, этому постоянному препятствию к всеобщему умиротворению, суждено было быть дуэлью на смерть, которая могла прекратиться только или с возвращением Франции в ее прежние границы, или с полнейшим разгромом Англии. Этот характер, который был придан борьбе с первых же завоеваний республики, развивался неуклонно, с беспощадной энергией. Чтобы не оставаться под пушками Антверпена и не дать Франции завладеть Шельдой, Англия создала коалицию и платила Европе жалованье. Благодаря такому способу ее действий, дело дошло до того, что Наполеон, победив одного за другим всех врагов, выдвигаемых ею против него, начал угрожать ей самой непосредственно и прицеливаться в нее отовсюду: с острова Текселя, из Гамбурга, Данцига, Триеста, Корфу, Италии и Испании, повсюду выставив против нее французскую Европу. Не желая признавать за победителем хотя бы некоторой доли его сверхъестественных завоеваний, Англия должна была упорно, до конца, вести борьбу, которая истощала ее средства, подвергала ее стойкость величайшим испытаниям, но зато, заставляя Наполеона ставить все на карту в делающихся все более отдаленными и рискованными предприятиях, оставляла ей надежду вернуть все обратно, и эта надежда росла и оправдывалась с каждым днем. Тщетно Франция в последний раз старается поверить, что Наполеон хочет и может сдержать себя, что он намерен закончить свою карьеру завоевателя и спокойно ждать морского мира. Лучше осведомленная история не может разделять этой мечты. В мирной победе 1810 года она ясно различает точку отправления новых осложнений в Европе, более грозных, чем все предыдущие. Она не может, руководствуясь своими личными симпатиями, отвратить взоры от будущего и остановить их с полным удовлетворением на этом светлом, но скоропреходящем моменте: она не может отделить этого момента от последующих событий, ибо нельзя вырвать нити из непрерывной, сплошной ткани, которую ткет Провидение – ткани, в которой все тесно связано, все вытекает одно из другого, где успех вчерашнего дня неизбежно готовит борьбу на завтра. Уже теперь, по ту сторону покоренной или зачарованной Европы, она различает Россию, которая в страшной тревоге спешит вооружиться и готовится к борьбе. Она видит императора Александра таким, как он рисуется в секретных мемуарах; как он, дошедши до последней степени страха, с искаженными чертами, с “неподвижным” и почти “диким”[435 - Mеmoires du prince Czartoryski, II, 233.] взором, играет при крушении своей политики роль простого зрителя, как он сознает свои ошибки и приходят к убеждению, что Наполеон захочет заставить его искупить их ценой раздробления его империи. Истории известно, что он не только боится нападения, но уже предвидит время нападения, и предсказывает, что оно будет сделано на следующий год; ей известно, что он готовится к обороне и даже думает первым напасть на своего противника. Для обоих императоров близится час непримиримой вражды и роковой борьбы. Счастливая звезда Наполеона все еще (сияет бесподобным блеском, но вдали собирается гроза. Австрийский брак – его последнее торжество, он – предтеча бедствий, и за сияющей картиной этого грандиозного апофеоза уже виднеется зловещий горизонт.
ГЛАВА IX. СЕКРЕТ ЦАРЯ
Князь Адам Чарторижский в кабинете императора Александра. – Начало их отношений. – Петербург в 1796 г. – Встреча в Таврическом саду. – Достопамятная сцена. – Уроки Лагарпа. – Врожденное великодушие и высокие порывы Александра. – Его желание успокоить и утешить Польшу. – Радость и надежды Чарторижского. – Александр сталкивается в действительностью. – Полная перемена во взглядах Александра. – Под влиянием страха перед Наполеоном в уме царя возникает желание восстановить Польшу, присоединив ее к России. – Первая мысль о наступательной войне с Францией. – Русская партия в Варшаве. – Предложение, переданное Голицыным. – Александр просит совета у Чарторижского. – Взаимное недоверие. – Различие во взглядах царя и его канцлера. – Представитель традиций. – Дело о конвенции остается в неопределенном положении. – Отправка в Париж русского контрпроекта; к Наполеону предъявляется требование подписать дипломатическую капитуляцию. – Тревоги Александра растут. – Аустерлицкий взор. – Новый разговор с Чарторижским. – Проект напасть врасплох на великое герцогство и овладеть им. – Разные комбинации. – Секретная политика Александра, которую он ведет сам непосредственно. – Попытки воздействия на Австрию. – Алопеус. – Фиктивное назначение послом к Мюрату; действительное поручение в Вене. – Соблазнительные предложения. – Яблоко раздора между Петербургом и Веной. – Александр упорно стремится присоединить княжества и предлагает Австрии компенсацию. – Сербия. – Великий проект 1808 г. – Хорошо рассчитанная болтливость. – Тайные усилия Александра отвлечь от Наполеона Польшу и Австрию. – Параллельно с возобновлением переговоров он приступает к дипломатической кампании против Франции.
В то время, как Франция и большая часть Европа праздновали свадьбу нового Карла Великого, в кабинете императора Александра происходили тяжелые сцены. Снедаемый беспокойством и заботами, царь обратился к человеку, который был хранителем его первых тайн, скорее другом, чем министром. Князь Адам Чарторижский вернулся в Петербург прошлой осенью после годового отсутствия. В продолжение нескольких: недель Александр искал случая приблизить его к себе и вызвать на дружеские беседы. Когда вопрос а Польше сделался для него слишком мучительным, он решил поверить свое горе польскому вельможе и просить его помощи. Патриотизм князя не был для него секретом, но он знал его преданность и высоко ценил ее.
Их дружба тянулась уже четырнадцать лет. Она завязалась при трогательной и романтической обстановке. После окончательного раздела Польши в 1795 г. императрица Екатерина потребовала, чтобы знаменитая семья Чарторижских доверила ее попечениям своих сыновей и тем дала залог своей покорности. В награду за это она позволила им надеяться на смягчение суровых мер и на возврат конфискованных имений. Молодой князь Адам был выдан ей заложником. В Петербурге он был пожалован офицером, гвардии, как символ рабства, носил русский мундир. Императрица была к нему милостива, общество старалось доставить ему развлечения и удовольствия, но безуспешно – ничто не могло рассеять грусть и меланхолию гордого узника. По приезде в Петербург он был замечен великим князем Александром, тогда еще восемнадцатилетним юношей, старшим сыном цесаревича Павла, наследником престола во второй степени. По прошествии некоторого времени Александр выразил желание поговорить с ним наедине. Свидание произошло в садах Таврического дворца, в один из тех весенних дней, когда пробуждается северная природа и, как бы торопясь жить, распускается во всем своем кратковременном блеске. С первых же слов непреодолимая симпатия влечет их друг к другу; взаимное влечение душ сближает их, и при дворе, где представитель осужденного на смерть народа читает на всех лицах только равнодушие или обидную жалость, сам наследник Екатерины пожелал быть поверенным его дум.
Было бы напрасной тратой времени отыскивать подобие этой сцены в истории; ее надо искать в одном из великих творений драматического гения; надо вспомнить, в каких чертах немецкий поэт обрисовал сына Филиппа II, Дон-Карлоса, который в душе проклинал жестокую политику отца, поклонялся справедливости и добродетели, страдал от великодушных стремлений, и в преданном друге нашел живой образ своих дум и терзаний. Александр – Карлос Испанский, Чарторижский – Поза.
Русская императрица с ревнивой заботливостью воспитывала своего внука под непосредственным своим наблюдением. Она видела в нем надежду своего народа, продолжателя ее дела. Однако, умея искусно льстить писателям и мыслителям Запада, привлекая к себе этих творцов общественного мнения, которые наделяли славой и бессмертием, она выбрала в наставники великому князю одного из их учеников, женевца Лагарпа. Она считала полезным, чтобы будущий самодержец мог щегольнуть либеральными и философскими идеями, блеснуть которыми она сама умела с редким искусством. Но оказалось, что молодой великий князь был одарен крайней восприимчивостью и экзальтированным воображением, что в нем была врожденная потребность верить и сильно увлекаться. Принципы, которые развивал пред ним Лагарп, отвечая его врожденным возвышенным и пока еще бессознательным чувствам, не коснулись его только поверхностно, но глубоко внедрились в него и завладели им. Его великая душа раскрылась под влиянием идеала, который пронесся над веком. Он начинает мечтать о всемирном царстве справедливости и счастья, “его сердце бьется для человечества”, и когда Чарторижский говорит ему об освобождении крестьян о свободе, – его слова находят в нем сочувственный отклик и вызывают благородные стремления.
Счастливый, что нашел, кому открыть свою душу, кому поверить свои тайны, Александр дает волю идеям, которые до сих пор скрывал и таил в себе, так как, к несчастью, постоянный надзор выработал в нем склонность и привычку скрывать свои чувства. Он признается Чарторижскому, что в душе ненавидит все, чему принужден поклоняться всенародно. Он восстает против существующих основ государства, возмущается преступлениями, к которым они ведут и которым потворствуют; отказывается чтить умелою рукой поддерживаемое самодержавие, величественное олицетворение которого видит в Екатерине. Из слов его видно, что ему нравятся только свободные учреждения. Слово “республика” производит на него мистическое обаяние. Везде он на стороне угнетенных; его влечет к тем, которые борются или страдают; он желает побед французской республике, борьба которой с коалицией монархий, идущая вдали от России, рисуется перед его взорами; но в особенности в нем пробуждается беспредельная жалость при имени Польши. Он жалеет поляков; говорит, что преклонялся пред их последними усилиями, что хотел бы видеть их счастливыми, и обещает со временем сделаться их утешением. При этих словах Чарторижский был потрясен до глубины души. Все существо его трепетало от радости и волнения. Он благодарит Провидение за сотворенное чудо; он славословит его за то, что оно внушило такие намерения великому князю, который, по всем данным, был призван продолжать политику железа и крови. Теперь они вдвоем строят планы туманного будущего, говорят о восстановлении Польши, о том, чтобы, соединив ее братскими узами с Россией, вернуть жизнь ее народу. В юноше с вдохновенным взором, с чудными чертами лица, который говорит ему слова надежды и ободрения, Чарторижский надеется обрести сверхчеловека, на которого Проведение возложило миссию восстановить Польшу, и приветствует в нем ангела-освободителя своей родины.[436 - Mеmoires du prince Adam Czartoryski, опубликованные в 1887 г. Мазадом, 1, 94 – 99. Эти мемуары представляют исторический документ громадной ценности.]
Четыре года спустя Александр вступил на престол после катастрофы, воспоминанию о которой суждено было постоянно мучить его совесть. Став у кормила правления, он столкнулся с действительностью; ему пришлось считаться со вверенными ему интересами и традициями государства. Он не дерзнул порвать эти узы, не решился проводить в жизнь свои высокие мечты, покорился необходимости царствовать так, как царствовали его предшественники, но думал иначе, чем они. Тем не менее, его дружба с Чарторижским, нe прекращавшаяся с их первого свидания, существовала по-прежнему. Он пригласил князя в тайный совет, где рассуждали о разных мерах а духе либерализма и где вырабатывались наброски реформ. Иногда имя Польши появлялось на его устах, “но это было совсем не то”.[437 - Id. I, 279.] Правда, он обещал улучшить участь присоединенных провинций и в единичных случаях возвращал конфискованные имения, но мысль об автономной Польше, которая входила бы в империю, как отдельный, одаренный жизнью, элемент, слабела и меркла в нем. Теперь он смотрел на этот план, как на несбыточную мечту, хотя и говорил, что все еще любит и хранит ее в глубине своего сердца; что очень жалеет о том времени, когда мог предаваться этой благородной утопии. “Это была ребяческая мысль, но она была божественна хороша!”.[438 - Schiller, Don Carlos.]
Позднее Чарторижский был призван к высоким, ответственным обязанностям: его назначили товарищем министра иностранных дел, a в 1804 и 1805 гг. он один управлял министерством. За это время он безрезультатно представил много проектов о восстановлении Польши, и все они были совместимы с сохранением целости и даже с расширением русского государства. В 1805 г. он почти добился обещания, но оно было тотчас взято обратно, и, мало-помалу, роковое стечение обстоятельств довело Александра до того, что он стал смотреть на возрождение Польши под каким бы то ни было видом, как на самую серьезную опасность, которая может угрожать безопасности и единству его империи. Всегда мягко и человечно относившийся к людям, с болью в сердце прибегая к строгостям, он делался суровым и непреклонным. Когда затрагивались основные принципы русской политики. Вот откуда вытекало его ожесточение против польской идеи, вот почему он стал преследовать все ее проявления, задался целью подавить ее и сделаться “главным гонителем”[439 - Mеmoires de Czartoryski, II, 211.] нации, которой боялся, но к которой не питал предвзятой ненависти. В первую половину его царствования его общая политика несколько раз меняла свое направление. Его неустойчивая мысль увлекала его по разным путям, но ни на одном он не нашел спокойствия и счастья.
И в самом деле, он испробовал все, и ничто ему не удалось. В начале царствования он хотел сыграть среди государей роль умиротворителя, хотел избавить Европу от посягательств Бонапарта и восстановить ее на началах разума и справедливости. При дворах, которые он приобщил к этому делу, он встретил только бессердечность, эгоистичные и бессовестные стремления, недостаток мужества или обман. Испытанные им в политике разочарования были не менее жестоки, чем поражения его войск. Получив отвращение к союзникам, он перешел на сторону победителя. Он подпал под влияние гения, поклялся идти по стопам Наполеона и брать с него пример. Он захотел сделаться завоевателем, испытать опьяняющий трепет военных успехов, вернуться к завоевательным планам своих предшественников и далеко оставить их за собой на этом пути. Он начал повсюду расширять границы своего государства и на дне чаши с опьяняющим напитком (нашел горечь. Полученные результаты, несмотря на их наглядность, были ненадежны, зависели от чужой воли, и притом ценой какого опасного заискивания нужно было их приобрести! Разочаровавшись в Наполеоне, Александр остановился, наконец, на решении вести двусмысленную и сложную игру: сохранить союз, не исполняя вытекавших из него обязательств; избавиться от необходимости действовать заодно с честолюбивым императором, но при этом поддерживать с ним наилучшие отношения, медовыми речами льстить его самолюбию и на словах выражать ему преданность и уступчивость. Без сомнения, он рассчитывал такой ценой приобрести право жить спокойно; получить возможность удалиться от европейских дел, всецело посвятить себя заботам внутри страны и не столько думать о величии своего государства, сколько о счастье своих подданных. Последняя и бесплодная мечта! Наполеон не мог допустить, чтобы Александр отдавался ему только вполовину; он потребовал, чтобы тот вполне определенно перешел на его сторону, и на отказ Александра дать доказательство беззаветной преданности ответил переходом к системе, в которой Россия усматривает намерения вредить ей, желание напасть на нее, правда, пока еще скрываемое. Александр думает, что война, от которой он целым рядом отсрочек и полумер надеялся избавить территорию самой России, теперь уже близка, что она вскоре настанет и захватит его врасплох за его трудами по обновлению России. В 1810 г., когда только что были выработаны проекты реформ по улучшению внутреннего строя, когда он рассчитывал собрать плоды жертв и трудов, понесенных ради сохранения мира с Францией, ему снова нужно думать о средствах к войне, готовиться к борьбе за существование и снова окунуться в эру душевных тревог и крови. Пред взорами его уже рисуется грозное нашествие. Ему всюду чудятся симптомы и предвестники этого нашествия, и мстительный рок делает то, что еще недавно бывшая предметом его сострадания Польша, от которой он затем отвернулся и которую, в конце концов, стал жестко и упорно преследовать, делается в руках его противника драгоценным оружием, одним из средств к нападению и орудием пытки.
Тогда с душевной тревогой, он спрашивает себя: не взглянул ли он яснее и глубже на дело в годы своей восторженной юности; не заблуждается ли он теперь, когда смотрит на вещи с точки зрения эгоистичного расчета главы государства и политика; не предписывает ли ему государственная польза, не задумываясь более, отдаться чувствам справедливости и великодушия; не в его ли интересах осуществить в действительности роман, набросанный некогда в садах Таврического дворца? Может быть, еще не слишком поздно загладить преступление, таким тяжким бременем тяготеющее над судьбами империи? Может быть, еще можно предупредить Наполеона в деле возрождения Польши, которую тот хочет восстановить ради своих честолюбивых целей и из ненависти к России? Может быть, еще можно воспользоваться ею для борьбы с ним и для победы над ним? Во владении России, думает царь, находится наибольшая часть прежнего королевства и наибольшее количество его жителей. До сих пор Россия думала только о том, чтобы держать под гнетом эти миллионы людей, чтобы изгладить у них всякую память, всякое сожаление о прошлом. Но ей не удалось этого достигнуть. Не удастся ли, дав им равноправие, добиться того, чтобы они без всякого давления, по собственному желанию, соединили свою судьбу с судьбой России? Теперь Александр только владеет ими; а если он сделается их главой, если возвратит им имя, законы, учреждения, язык; если дарует им народное представительство; превратит их страну в отдельное королевство, неразрывно соединенное и связанное с его империей; если восстановит польскую корону и возложит ее на свою главу так же, как возложит и царскую корону – тогда возрожденное государство сделается притягательной силой для других частей раздробленной нации, и вскоре все они, включая и герцогство Варшавское, вольются в него и в нем найдут предел своих стремлений. Царь думает, что с этого момента русская Польша должна сделаться для поляков той притягательной силой, которую в настоящее время они видят в великом герцогстве. Ведь варшавяне примкнули к Наполеону только потому, что в его покровительстве видят единственное средство возрождения их родины. Если на их границе покажут им воскресшую, жизнеспособную Польшу, которая примет их в свои объятия, они бросятся к ней и покинут Наполеона, подающего только надежды, ради Александра, который осуществит их мечту.
– В тот самый час, – думает далее Александр, – когда он провозгласит себя польским королем, его войска внезапно вторгнутся в очищенное французами герцогство. Варшавская армия, предупрежденная об этом, подготовленная к этому заранее, возмутится против власти саксонского короля и отречется от тягостного при данных условиях союза с завоевателем. Она прорвет свои ряды ради того, чтобы построиться около монарха своего народа, покинет знамена, чтобы пойти навстречу своей родине, и этой выгодной для нее изменой, быть может, подаст Европе сигнал к восстанию. Бесполезно, это будет война с Наполеоном, война наступательная, без явной и осязаемой причины, начатая одним из тех вероломных, внезапных нападений, за которые Австрия и Пруссия поочередно так жестоко были наказаны. Это значило бы взять на себя ответственную роль зачинщика и иметь против себя, если не право по существу, то во всяком случае, внешний вид права. Ну, так что же! Александр до такой степени убежден в неизбежности войны с Францией, что задает себе вопрос, не будет ли лучше начать ее самому, не выгоднее ли предупредить противника, выиграть во времени и прийти до него на Вислу и Одер. В его воображении зарождаются дерзкие планы, которые он по своей слабохарактерности никогда не решится привести в исполнение. Бывают минуты, когда, чтобы спастись от преследующего его призрака, он не прочь броситься в действительную опасность, в ужасное предприятие, и именно страх, дошедший в нем до крайних пределов, толкает его на самые отважные поступки.
Нужно заметить, что его надежды не были основаны на чисто умозрительных данных. Они основывались на действительном факте, на существовании в Польше, и даже в Варшаве, русской партии. Еще недавно эта партия играла большую роль и исповедовала доктрину, которая имела много сторонников. В конце восемнадцатого века, когда Речь Посполитая, обессиленная раздорами, изнуренная интригами, не способна была создать учреждений, необходимых в жизни современных государств; когда она, окруженная алчными соседями, нетерпеливо ждавшими ее конца, неудержимо приближалась к своему падению, некоторые из ее лучших граждан, – между прочим отец и дядя князя Адама, – только в России видели ее спасение и убежище. По их мнению, Польша могла избегнуть раздела, т. е. казни и окончательной гибели, только при условии, если бы она вся целиком подчинилась великому славянскому государству, стала бы под его защиту и вступила с ним в тесную, неразрывную связь. Путем этой жертвы она сохранила бы за собой право управляться по своим законам, сохранила бы свою индивидуальность и неприкосновенность территории, обеспечила бы за собой могущественное покровительство и ценою независимости спасла бы свою национальность.
Позднее политика Екатерины, ее участие в тройном разделе, суровые меры, которые она применяла в выпавших на ее долю провинциях, жестоко опровергли эти предложения. Несмотря на все это, русская партия существовала по-прежнему. Порою она обращала на внука Екатерины взоры, полные надежды, и еще не так давно дала замечательное доказательство своей живучести. В 1809 г., во время войны с Австрией, когда армия князя Голицына после целого ряда проволочек перешла, наконец, границу, группа варшавских вельмож и галицийских магнатов в глубокой тайне обратилась к русскому главнокомандующему и передала ему следующее предложение, если император Александр согласен восстановить прежнюю Польшу, взяв ее под свою державную руку и возвратив ей ее прежние границы, вся партия польской знати тотчас же признает его польским королем, и ее пример, может быть, увлечет за собой и остальных.
Захваченный врасплох этим предложением, переданным ему и поддержанным Голицыным, Александр не воспользовался им. Он еще надеялся путем соглашения с императором французов, не допустить восстановления Польши в каком бы то ни было виде. Но так как восстание в Галиции увеличивало его опасения, а добросовестность Наполеона делалась все более подозрительной, то он не счел нужным вполне разочаровывать партию, которая ручалась, что заставит Польшу перейти на его сторону. Если, думал он, допустить предположение, что Польша неминуемо должна ожить, не лучше ли, чтобы она воскресла по милости России, чем при содействии французов? Поэтому в ответе, данном магнатам 27 июня 1808 г., на всякий случай высказывалась следующая, руководящая для будущего времени идея. Царь, говорилось в ней, никогда не уступит провинций, включенных в его империю, для того чтобы слить их вместе с другими провинциями прежней Польши в одно автономное государство; но если обстоятельства будут тому способствовать, он не прочь был бы царствовать над Польшей, лежащей вне его границ, в состав которой вошли бы и великое герцогство с Галицией.[440 - В Приложении под цифрой II текст письма Голицына и ответ на него. Оба документа взяты из архивов С. Петербурга.]
В следующие затем месяцы, приняв Чарторижского, вернувшегося из-за границы и по-прежнему защищавшего дело своих соотечественников, Александр был с ним холоден и сдержан. Тем не менее, в разговоре с ним, “опустив глаза и не окончив фразы”,[441 - Mеmoires de Czartoryski, II, 211.] он ввернул несколько слов утешения. Даже, как-то раз, в январе 1810 г., как бы невольно поддаваясь влиянию восторженных речей князя, он намекнул на их прежний план и дал понять, что не относится к нему неодобрительно.
Это было как раз то время, когда он лихорадочно обсуждал с Коленкуром договор об уничтожении Польши и, следовательно, не мог говорить с поляками вполне искренне, а только условно, на тот случай, если бы Наполеон не скрепил своей подписью их смертный приговор. Он хотел восстановить Польшу в свою пользу только в том случае, если бы стало невозможность удержать ее в могиле. Шесть недель спустя возврат неутвержденного договора вместе с неожиданным, как удар грома, известием об австрийском браке, по-видимому, убедил его в такой невозможности и сразу же заставил вернуться к планам юности. Эти неожиданные события сделали то, что отринутый десять лет тому назад проект снова овладел им и занял его мысли. Вне себя, потеряв голову, он спрашивает себя, не в этом ли смелом плане его спасение, и признавая, что этот план в дальнейшем своем развитии чреват самыми серьезными последствиями, он все-таки покоряется необходимости в самой же России дать самоуправление своим польским провинциям и создать из них ядро будущего королевства. Именно в это-то время он пожелал видеть Чарторижского, пригласил его к себе, и мы снова видим их друг перед другом, вернувшихся после долгих испытаний к первым временам своей дружбы.
Во время первого разговора происходившего в марте месяце, ни Александр, ни Чарторижский не решались еще высказаться и вернуться к прежним откровенным беседам. Но так или иначе, надо было начать. Александр не прямо подошел к вопросу. Сначала он осыпал князя уверениями в своей личной дружбе к нему, затем заговорил об амнистии, о примирении, о забвении прошлого.[442 - Чарторижский в своих Мемуарах, II, 226 – 234, подробно рассказывает о своих двух разговорах о Александром в марте и апреле 1810 г. Все цитаты взяты из этой части его труда.]
Он хотел бы доказать полякам, говорил он, что он им не враг, что искренне желает им счастья, что его цель – заслужить их любовь и доверие, и что дело князя указать ему средства для этого. Для начала он выразил желание создать из тех восьми губерний, которые достались России по разделам, одно национальное тело с присущим ему управлением и привилегированным положением. Чарторижскому нетрудно бы разгадать в нем желание создать русскую Польшу, задачей которой было бы привлечь и поглотить созданную Наполеоном на Висле французскую Польшу.
В другое время князь с восторгом приветствовал бы этот план, теперь же он плохо верит в него; он смутен. Несмотря на величайшее отвращение его к Наполеону и искреннюю привязанность к Александру, любовь к родине делала свое дело; он стал колебаться между Петербургом и Варшавой. В настоящее время, когда спасение Польши, по всем данным, шло с Запада, имел ли право один из ее сынов мешать этому, не совершал ли он преступления, выдвигая другие комбинации? Быть может, отдавшись видам царя, он собственными руками отдаст на растерзание родину, разделит ее на враждебные лагеря, ввергнет в междоусобную войну и своим преступным вмешательством нанесет смертельный удар отчизне-матери и помешает делу национального возрождения? Сверх того, был ли искренен Александр? Вытекал ли возврат его к идеям прошлого из возвышенного и прочного чувства? Или же нужно видеть в этом только скоропреходящее действие известных обстоятельств, обусловленных исключительно страхом перед Наполеоном, одно слово, одна улыбка которого, может быть, рассеет все это в прах? Чарторижский слишком хорошо изучил непостоянный и скрытный характер своего собеседника, чтобы и теперь относиться к нему с тем же доверием, которое составляло главную прелесть их первых отношений; теперь он то боялся, что царь отступит, то искал в его словах задней мысли. “Император Александр, – писал он как-то, – приучил своих приближенных во всех его решениях искать совсем не те поводы, на которые он ссылается”.[443 - Mеmoires., II, 225.]
Тем не менее после убедительных просьб он обещал изложить письменно свои мысли о способах, которые всего вернее могут привлечь к царю сердца поляков. Александр спросил, когда можно рассчитывать на получение этой записки, и отложил дальнейший разговор до того времени. Имея только намерение – заронить в душу Чарторижского первую и беспредельную надежду, он не решился преждевременно открыть ему все планы, которые носились в его уме.
В сущности, переговоры с Францией, хотя и сильно скомпрометированные, не были еще прерваны. В петербургский кабинет поступило вполне определенное предложение, по которому ему нужно было высказаться. Перед ним находился договор о гарантиях, правда, измененный Наполеоном, но, тем не менее, договор был предложен и утвержден заранее. Правда, Александр думал, что без первой статьи, без столь жестокой по своей краткости фразы: “Польша никогда не будет восстановлена”, весь акт целиком, лишится всякого значения и силы. Но можно было думать, что, настаивая решительнее, делая некоторые уступки по другим статьям, можно было бы добиться от Наполеона, чтобы он взял обратно свой отказ и принял формулу, которая избавила бы от всяких сюрпризов. В особенности, за надежду заставить императора французов принять соглашение, которое позволило бы сохранить союз, цеплялся канцлер Румянцев. Все другoe, вне этого соглашения, казалось ему только опасными и праздными мечтами. Воспитанный в школе Екатерины, пропитанный ее непреклонными принципами, Румянцев не допускал никакой сделки с неосновательной Польшей; он считал ее неспособной к нормальной жизни,[444 - “Поляки, говорил он, похожи на шампанское, которое играет, но скоро выдыхается. Они не в состоянии быть самостоятельной нацией”. Коленкур императору, 2 августа 1809 г.] видел в ней только беспокойный элемент и стремился вполне покончить с опасностью, тогда как его государь мечтал только на время отвратить ее. С другой стороны, он склонен был думать, что Наполеон, все внимание которого было направлено на войну с англичанами, преклонится пред требованием, если оно будет энергично поддержано. Он находил, что Россия слишком часто грешила недостатком мужества и решимости, что она должна, наконец, показать характер, сделаться непреклонной и упорно стоять на своих требованиях. Он думал, что, повторяя их, она, без сомнения, добьется своего, что она восторжествует. Александр, которому были известны взгляды Румянцева, не счел нужным посвящать его в свои разговоры с Чарторижским; он предоставил ему идти своей дорогой; решил действовать с ним заодно, не отказываясь от намерения, в случае надобности, тайно от него вступить на другой путь.
Петербургская канцелярия составила новый договор, – третий по счету. Против французского контрпроекта она выставила русский контрпроект и тщательно воспроизвела в нем фразу, которая была главным камнем преткновения. Она ограничилась только тем, что предпослала ей другую фразу и этим как бы подготавливала к ней. Вместо того, чтобы сказать: статья первая: “Польское королевство никогда не будет восстановлено”, были употреблены следующие слова: статья первая: “Е. В. Император Французов, стремясь дать своему союзнику и Европе доказательство своего желания отнять у врагов мира на континенте всякую надежду нарушать его, обязуется, равно как и Е. В. Император Всероссийский, что Польское королевство никогда не будет восстановлено”.[445 - См. серию статей в Correspondanse de Napoleon, XX, 177 – 178, в Примечании.] В первом русском проекте эта была смерть без фраз; во втором заключался тот же приговор, но с объяснениями и мотивами. Что же касается следующих статей, то в обоих текстах не было существенной разницы. Александр пожелал только, чтобы отмена знаков отличия была тотчас выражена.
Русский контрпроект был отправлен из Петербурга 17 марта на имя князя Куракина; он снабжен был собственноручными заметками императора. Посланник должен был представить его к подписи французскому монарху, не допуская никаких изменений, не позволяя ни вычеркнуть, ни прибавить ни одного слова. Таким образом, в то самое время, когда царь начал протягивать руку полякам и льстить их надеждам, он в последний раз просил Наполеона покончить с ними и закрыть пред ними будущее.
Как примирить эти две совершенно противоположные задачи, которые, в случае надобности, должны были заменить одна другую? Слух о готовящемся договоре дошел до поляков. Он взволновал их, привел в ужас. Да и понятно. Он вовсе не был таким, чтобы расположить их слушать внушения той самой России, которая вырабатывала акт, задачей которого было довершить их несчастье. Чарторижский не мог удержаться, чтобы не указать царю на это противоречие. Он выразил удивление, что “ввиду переговоров с Францией о конвенции”, Его Величество интересуют вопросы, о которых он беседует с ним. Может быть Наполеон отказался утвердить ее? – робко спросил он.
Немного смутясь, Его Величество ответил, что дело не в этом, а что Шампаньи хотел поместить в договоре выражения и статьи, клонившиеся к уничтожению самого названия поляков, но что он изменил эти статьи и что договор, таким образом, измененный. снова отправлен в Париж”. Итак, смело говоря как раз обратное тому, что было на самом деле, Александр приписывал парижскому кабинету свои собственные жестокие требования. Он приписывал ему инициативу этого дела, сваливая на него всю ответственность и возбуждая к нему ненависть поляков. После всего этого, ошибался ли Наполеон, думая, что целью России было не столько связать его нравственно, сколько уронить в глазах поляков и, таким образом, лишить материальных средств к защите; что она хотела не столько связать его честным словом, сколько лишить его оружия?
Не вполне доверяя объяснениям Александра, Чарторижский все-таки принялся за работу, которой от него требовали. После нескольких дней, посвященных изучению и размышлению, он составил записку и отнес ее императору. Со времени их первого разговора прошло приблизительно три недели. За это время события далеко шагнули вперед. Празднование в Париже бракосочетания с его характерными особенностями, с каждым днем возрастающие внешние проявления дружбы между Францией и Австрией произвели на Александра глубокое, ужас наводящее впечатление. Сомнениям более не было места. Это был окончательный удар его политике, крушение всех его надежд, дипломатический Аустерлиц. Чарторижский был поражен его “унылым и полным отчаяния видом”. В это-то время он и уловил опять в его взгляде выражение оцепенения, которое он уже раз видел после ужасного дня 2 декабря 1805 г., когда молодой монарх и его свита, увлеченные после проигранного сражения общим потоком бегства, галопом покидали поле битвы, а вдали, позади них, раздавались несмолкаемые радостные клики торжествующих французов, приветствовавших проезжающего вдоль их рядов императора.[446 - Mеmoires de Czartoryski, II, 409.] Теперь, как и в 1805 г., не сумели ничего ни предвидеть, ни предупредить, дали бедствию обрушиться, как снег на голову, и последствия этого бедствия сыпались со всех сторон все с большей скоростью. Думая, что ему угрожает неотвратимая опасность, что она по пятам преследует его, Александр требовал во что бы то ни стало средства для спасения и инстинктивно искал оружие, чтобы защититься.
Чарторижский прочел свою записку Александру, который внимательно прослушал ее. Плохо осведомленный относительно истинных намерений царя, не зная, в каком состоянии его отношения с Францией, он поневоле вынужден был выражаться неопределенно. Что касается поляков, русских подданных, то он советовал смело вступить на путь мягкой и великодушной политики, напоминал о столько раз уже указанной им необходимости “восстановить Польшу, дабы упредить Бонапарта”, но не подсказывал никакого способа действия. Да и не было ли уж слишком поздно снова приниматься за проект, который, на несчастье, был отложен? В каждой строчке записки сквозил упрек России в том, что она никогда не умела действовать своевременно и занималась только тем, что пропускала удобные случаи. Александр не отрицал этой истины. Он вместе с Чарторижским внимательно разобрал свое поведение, раскаялся, что не восстановил Польшу в 1805 г., позволил сказать себе, что в 1809 г. его поведение было “самое дурное”, но не допускал, чтобы не было средства исправить ошибки и что, следовательно, нужно отказаться от мысли изменить ставшее невыносимым положение. “Он дал понять, как велико его желание сделать с своей стороны, все, чтобы устроить дела Польши каким бы то ни было способом”, но при этом не скрыл, что это желание отчасти обусловлено серьезным, имеющим основание беспокойством, которое причиняла ему Франция. Конечно, говорил он, Наполеон не жалеет для него успокоительных фраз – доказательство этого у него на письменном столе; но что эти заявления, цену которым он знает, не в силах уже убедить его; чтобы быть уверенным в своей безопасности, ему недостаточно нравственной гарантии; ему необходимo материальное обеспечение, факт, т. е. уничтожение великого герцогства. Но, спрашивается, каким путем заставить герцогство слиться с Польшей, которая будет создана именно для того, чтобы поглотить его? Каким способом можно склонить его жителей к перемене их маленькой родины на большую, которую даст им Россия?
На настойчивые просьбы ответить на этот вопрос Чарторижский всякий раз уклонялся, ссылаясь на отсутствие связей в Варшаве, и на то, что не знает, как будут приняты там русские предложения. Но Александра не убедили эти доводы, и он кончил тем, что высказал соображение, на котором основывалась его надежда. “Ну! – сказал он, – и не будучи на месте, не трудно знать, что думают в провинциях и в герцогстве. Это можно выразить в двух словах. Поляки пойдут за самым дьяволом, если он поведет их к восстановлению родины”. Тогда перешли к более подробному обсуждению вопроса и рассмотрели разные способы его выполнения. Чарторижский всегда исходил из того предположения, что Россия попробует войти в соглашение с Наполеоном; что она постарается добиться его соглашения на упразднение герцогства, предоставив Франции значительные выгоды в других местах и, сверх того, компенсацию для саксонского короля. Ему и в голову не приходило, чтобы Александр, не будучи вынужден крайней необходимостью, мог допускать мысль о вооруженном столкновении с победителем при Аустерлице и Фридланде, и чтобы он сам, по собственному почину, пошел на разрыв. Каково же было его удивление, когда он узнал, что царь не исключал подобного исхода, а тем более, когда ему был предложен вопрос: “нельзя ли начать фиктивную войну с герцогством; причем, по взаимному соглашению, русские войска могли бы дойти до тех позиций, на которых, по присоединении к ним польских войск, они могли бы держаться против французов? При таких условиях все желания Польши были бы исполнены”.
Спешим добавить, что дело шло пока об одной из затей, выделившейся из хаоса идей Александра. Через минуту, видя, что Чарторижский содрогнулся при мысли о войне с Наполеоном, “с ее весьма сомнительными шансами на успех”, он совершенно неожиданно перешел к другой крайности, дал другое направление своей фантазии и вторично несказанно удивил своего собеседника, высказав мысль – разоружить завоевателя уступчивостью и предупредительностью. Не будет ли достигнута эта цель, спросил он, если не ставить препятствий для образования Польского королевства из великого герцогства и Галии, в позволить жителям польских провинций России переходить туда на службу, как в их собственную страну? После такого удовольствия, – продолжал он, – поляки не будут иметь причины враждебно относиться к России; они успокоятся, и у Франции не будет уже повода к войне с Россией, так как между нею и Россией не будет этого постоянного яблока раздора”. Но серьезно ли говорил Александр в этот раз? Не хотел ли он просто испытать Чарторижского, посмотреть, не обрадуется ли он надежде на восстановление Польши, даже если она будет восстановлена вне пределов России? Впрочем, снова противореча себе, он вслед затем высказал убеждение, что конфликт за всяком случае неизбежен, что Наполеон вызовет его на это, если только Россия не упредит его. Эта роковая мысль была единственной, упорно засевшей в его неустойчивом уме. “Он с глубоким убеждением сказал, что не думает, что это произойдет уже в этом роду, ибо Наполеон всецело занят своим браком, но что он ждет кризиса в будущем году. Теперь у нас апрель, – продолжал он, – значит, это будет через девять месяцев.
Такая перемена в симпатиях Наполеона, такое роковое вытеснение одного государства другим с каждым днем становились все более заметными. Это особенно бросалось в глаза в то время, когда императрица торжественно проезжала через Германию, направляясь из Вены в Париж. Наполеон хотел, чтобы путешествие совершилось быстро, но торжественно. Бертье, руководивший путешествием, распоряжался с чисто военной аккуратностью и энергией, как подобает начальнику штаба великой армии. Он заранее точно назначил этапы, довел до минимума остановки и приказал ехать с возможной быстротой. Но, несмотря на все это, торжественные встречи, устраиваемые по правилам этикета на протяжении всего пути, подчеркивали на каждом шагу, с бьющим в глаза тщеславием, картины возрастающего между французами и австрийцами единения.
В тот день, когда императрица, при торжественной обстановке покидает Вену, большая часть города украшается трехцветными флагами, оркестры играют наши национальные мотивы, и это вторжение революционных напевов в столице Священной Империи поражает, как знамение времени. Далее имеет место передача императрицы избранным императором комиссарам. Это происходит в Браунау, в павильоне, разделенном на две половины: французскую и австрийскую, где представители самой гордой аристократии Европы обмениваются любезностями и дружескими уверениями с вновь испеченной знатью, завоевавшей на поле битвы свои титулы. В то время, когда солдаты обоих конвоев – аристократическая гвардия Вены и французские стрелки, венгерские гусары и гренадеры Фриана – собираются вокруг одних и тех же столов, под зеленой сенью дерев и весело братаются и чокаются, подобно тому, как недавно еще французы и русские чокались на пиру в Тильзите, дочь Габсбургов, которую встречает и приветствует неаполитанская королева, передается одной из рода Бонапартов. Далее на пути следования – немецкие города Мюнхен, Аугсбург, Ульм, Штутгарт, Раштадт украшаются драпировками, цветами, флагами и зажигаются иллюминации. Это короли и принцы Конфедерации приветствуют высокую новобрачную и в своих изъявлениях верноподданнического долга соединяют воедино сегодняшнего покровителя со вчерашним верховным владыкой – Наполеона с Францем, и повсюду население, не способное уловить оттенки, не умеющее отличить семейных уз от политического единения, простого примирения от союза, приветствует радостными кликами брак как симптом союза, заключенного между двумя императорскими домами с целью общими силами положить основу нового мирового порядка. Повсюду говорится о несуществующем еще союзе. Его прославляют в прозе и стихах, в речах, тостах, поэмах; изображают в виде аллегорий, метафор, группами из мифологии. О нем возвещают – в громких и торжественных выражениях – в надписях на триумфальных арках, в девизах, изображенных на складках развевающихся по ветру знамен и драпировок. О том же говорится и на щитах с изображением римского орла Наполеона с геральдическим австрийским орлом. Официальный лиризм соперничает в изобретательности с наивным восторгом толпы; пылкое французское воображение соединяется с немецкой сентиментальностью, и союз двух государств изображается символически в тысяче видов. На громадном протяжении выставляются на показ его эмблемы, и на расстоянии четырехсот лье от Вены до Парижа, на территории пяти государств и двадцати городов, воздвигаются в честь его прозрачные аллегории.[421 - Письмо князя Невшательского императору, Archives nationales, AF, IV 1675, Moniteurs de mars 1810; Correspondance du comte Otto; Helfert, 114 – 124.]
Но в этом бурном потоке дружеских излияний, среда знаменательных встреч и манифестаций, нигде не появилось имени России – этой официальной и законной союзницы Франции. О ней как будто забыли, как будто пренебрегли ею. Держась в стороне, вдали от всего, забытая, оставленная в одиночестве, она прислушивалась к доходившему до нее шуму празднеств и с неприязненным любопытством созерцала несущийся вдали от нее поток великолепных зрелищ. “Итак, вы приближаетесь к развязке, – писал Коленкур Талейрану, – а мы издали смотрим на это со своих позиций.[422 - Предыдущее письмо на стр. 309.] Русский посланник в Вене, граф Шувалов, отмечал с своего обсервационного пункта все события во время путешествия. Он не скупился на язвительные замечания по адресу императрицы, указывал на неожиданно появившиеся в ней черты характера – надменность и повелительный тон; подчеркивал, как легко по желанию Наполеона рассталась она в Мюнхене с своим другом, – воспитательницей графиней Лазанской. В малейших мелочах он находил указания на то, что Австрия беззаветно отдается Франции”.[423 - Шувалов Румянцеву, апрель-май 1810 г. Archives de Saint-Pеtersbourg.] Наконец, он сообщил о факте, имеющем не только важное, но даже тревожное значение. Граф Меттерних только что уехал в Париж с тем, чтобы присутствовать при въезде императрицы и остаться там на некоторое время. Шувалов сообщал далее, что, уезжая из Вены, Меттерних предоставил временное управление министерством своему отцу, князю Меттерниху; но что этот престарелый государственный человек будет только подставным лицом, так как внешней политикой империи по-прежнему будет ведать его сын; что, таким образом, вместе о Меттернихом переместился в Париж и венский кабинет, и, вероятно, это делается с той целью, чтобы окончательно выработать союзный договор, которого так боялся в Петербурге; что выбор эрцгерцогини обозначил помолвку Наполеона с Австрией: приезд же Меттерниха в Париж, совпадающий с приездом Марии-Луизы, по-видимому, имеет целью дополнить и довести до конца дело единения.
22 марта Мария-Луиза переехала через Рейн около Страсбурга и вступила на французскую землю. Дальнейший путь шел на Нанси и Реймс. Встреча супругов должна была произойти вблизи Суассона, в палатке, украшенной пурпуром и золотом. Здесь, па древнему обычаю, императрица должна была преклонить колено пред своим повелителем и государем и, как первая из его подданных, присягнуть в верности. Известно, что Наполеон избавил ее от этой церемонии. Выехав ей навстречу он проехал вместе с нею прямо в Компьен. Князь Шварценберг, графиня Меттерних и незадолго до этого приехавший в Париж граф Меттерних были приглашены в эту резиденцию. Наполеону хотелось, чтобы, при выходе из кареты императрица увидела около себя дружеские лица, чтобы присутствие ее соотечественников дало ей иллюзию второй родины, чтобы видя их, она не так трусила и не чувствовала себя столь одинокой в среде, где все ей было незнакомо и ново.
В следующие затем дни эти трое австрийцев, которым отведены были покои в замке и которые были допущены к императорскому столу, пользовались исключительными прерогативами. 31 марта Меттерних сопровождал императорскую чету из Компьена в Сен-Клу по шедшему мимо столицы пути, который парижские женщины усыпали цветами. 1 апреля он с Шварценбергом и двумя соотечественниками, графами Шенборном и Клари, были единственными иностранцами, присутствовавшими при гражданском браке, совершенном великим канцлером в галерее Сен-Клу в присутствии императорской семьи, придворных и высших чинов государства. При виде почестей, вполне естественных в подобном случае, толпа царедворцев не сомневалась более, что симпатии императора обратились к Австрии. Она повернулась лицом к восходящему солнцу и начала ухаживать за австрийцами, делая вид, что все это делается по собственному побуждению, что внимание оказывается из личной симпатии, так сказать, по сродству душ, а не только потому, что это желательно их повелителю.
Почести, которыми пользовался Меттерних, далеко превосходили обычные почести. Он с тем большим удовольствием наслаждался своим настоящим положением, что видел в этом указании на упадок значения соперничающего с Австрией двора. “В настоящее время, – писал он своему государю, – положение посланника Вашего Величества в Париже такое же, каким было положение русского посланника до последней войны”.[424 - Mеmoires, I, 332.] Для довершения контраста вдруг распространился слух, что князь Куракин не будет присутствовать на церемонии церковного брака, которой предстояло быть в Париже и которою должны были завершиться празднества. В свое оправдание посланник России будто бы ссылался на свои немощи. Этот слух не подтвердился. Тем не менее, мы увидим, что неожиданное стечение обстоятельств осудит представителя царя до самого конца играть или жалкую, или тягостную роль – оно всюду выставит Австрию в милости, Россию – в опале.
2 апреля наступил торжественный день. Рано утром, когда император с императрицей в сопровождении свиты выехали из Сен-Клу и направились в Париж, большинство приглашенных из привилегированного класса, – все, что было в городе самого высокого по рангу, состоянию, официальному или общественному положению, собралось в Лувре. Одни – в большой художественной галерее, другие – в зале Аполлона, превращенной в капеллу. Первые были допущены смотреть на свадебное шествие, которое должно было следовать из Тюльери в Лувр внутренними покоями дворца; вторые – для присутствия при религиозной церемонии. К десяти часам утра места были уже заняты, съезд почти закончился. Четыре тысячи роскошно одетых дам в придворных мантиях занимали хоры капеллы и ряды скамеек, поставленных по обеим сторонам галерей. На улицах непрерывно гремели залпы из орудий. Начавшись при въезде высочайших особ в город, они по мере движения процессии приближались к Лувру и обозначали ее ход. По все более учащавшимся выстрелам узнали, что император проследовал под Триумфальной аркой, что он спускается по Гранд-Авеню, что он прибыл на площадь Конкордия. Он приближался к Лувру при звуках труб, окруженный военной свитой и толпой своих маршалов, приветствуемый на всем пути следования войсками. Впереди него шла кавалерия его гвардии, затем церемониймейстеры, герольды, его двор, двор трех королей и трех королев. Он ехал шагом в парадной карете, запряженной восьмериком украшенных панашами лошадей. Карета представляла из себя движущееся, построенное из хрусталя и золота здание, через прозрачные стенки которого можно было видеть римский профиль Цезаря с увенчанным лаврами чехлом, и рядом с ним украшенную императорской диадемой, изумленную молодую женщину, которую он показывал своему народу как свое самое драгоценное завоевание. Красота упряжки и ливрей, вновь введенная роскошь придворных нарядов, блеск оружия создавали вокруг него ослепительное сияние. Восторженная толпа склонялась перед ним с чувством обожания, и на возгласы солдат: “Да здравствует император!” отвечала неумолкаемыми криками.
Это глубокое и почти религиозное настроение не проникло еще в здание Лувра, где долгое ожидание притупило любопытство и ослабило напряжение умов. Многие оставляли свои места, и в зависимости от взаимных симпатий или даже случайных встреч, составлялись группы. Приглашенные в капеллу смещались с приглашенными в галерею, где играла музыка “и обносили прохладительными напитками”.[425 - Moniteur от 10 апреля.] Эта часть дворца, украшенная художественными произведениями, большая часть которых были победными трофеями, приняла вид громадного, нарядного салона, где прогуливались, болтали, злословили и свободно обменивались впечатлениями. Одни старались предусмотреть инциденты, которые могли бы внести нечто пикантное и неожиданное в предстоящий великий акт, другие подмечали забавные стороны, которые всегда можно найти и в величественных зрелищах, и в человеческих страстях и страданиях.
Несмотря на большие толки, вызванные отсутствием в рядах духовенства тринадцати кардиналов, протестовавших против процедуры развода без вмешательства папского престола, прибытие дипломатического корпуса ожидалось с большим нетерпением. Всех интересовало, явится ли посол России князь Куракин. Иностранные миссии, собравшись по особому приглашению в здании австрийского посольства, вошли все вместе в установленном порядке. Князь Куракин появился среди своих коллег более великолепный, чем обыкновенно, сияя орденами, покрытый золотом и драгоценностями, неся на себе два миллиона драгоценных камней, но бледный и похудевший, едва держась на ногах, достойный жалости и смеха. Он рассказывал о своих страданиях и выражал свой восторг в такой преувеличенной форме, что для всех было ясно, как неловко он себя чувствует.
Ни за что на свете, говорил он, не согласился бы он отсутствовать на таком прекрасном торжестве. Его государь никогда не простил бы ему, если бы он заболел в такой день. Уже это одно заставило его собрать последние силы, превозмочь жестокие боли и приказать донести себя до капеллы. Он в продолжение долгого времени упорно подчеркивал все эти мелочи, желая, чтобы все знали о его героизме и оценили причины, побудившие его к этому. Из своего присутствия он желал создать целое событие, и думая таким путем опровергнуть распространившийся слух, что в России недовольны этим браком, он, наоборот, еще больше подтвердил этот слух и придал ему еще большее значение.[426 - Бюллетени полиции. Archives nationales, AF, IV, 1508.]
Его натянутый и неискренний тон выделялся еще более рядом с поразительной простотой и полной достоинства непринужденностью, с какими Меттерних принимал поздравления и знаки почтения. Тот весь сиял, рассыпался в любезностях, ухитрялся всегда быть на виду и играть первую роль. Он очень скоро дал яркое доказательство своего искусства, Так как все перипетии церемонии должны были следовать друг за другом без перерыва и, следовательно, получившие приглашение должны были оставаться во дворце в продолжение всего дня, то граф Рено-де-Сен-Жан-д’Анжели приказал приготовить изысканный завтрак в одной из зал, отведенных для занятий государственного совета, где он председательствовал на секциях министерства внутренних дел. Такое любезное внимание относилось, главным образом, к дипломатическому корпусу. Австрийцы первые воспользовались им. Во время завтрака на Меттерниха нашло внезапное вдохновение. Этот вельможа не пренебрегал при случае публичными манифестациями и, когда считал это нужным, умел говорить с толпой. Он взял бокал, подошел к открытому окну, выходившему в переполненные народом проходы между зданиями дворца, и, показываясь перед собравшейся любопытной и гуляющей толпой, с чувством воскликнул, поднимая бокал: “За Римского Короля”.[427 - Souvenirs du baron de Barante. I, 318.]
Впечатление получилось поразительное. Всем было известно, что первенец императора должен был носить титул Римского Короля, а, с другой стороны, не было секретом, что даже после Аустерлица австрийский дом не переставал требовать вернуть ему корону римлян, как простой знак достоинства, охраняемого им с ревнивой заботливостью. Благодаря такому упреждающему события признанию похищенного у него титула, австрийский дом как бы узаконил захват; он отрекался в пользу молодой империи от своих самых высоких привилегий и устанавливал их за нею. Это проявление необычайной уступчивости, указывавшее на преданность и поклонение Австрии императору французов, прогремело на всю Европу. В особенности этим были испуганы и возмущены русские. Они увидели в этом лишнее доказательство того, что Австрия беззаветно отдалась Франции. Один из русских в письме из Вены говорил о Меттернихе: “Министр, который; устроив брак, мог воскликнуть: “Монархия спасена!”; который за завтраком у Рено-де-Сен-Жан-д'Анжели, в день бракосочетания императрицы Maрта-Луизы в Париже, мог, не будучи на то вызван, пить за здоровье будущего римского короля (вопреки священной для каждого австрийца памяти о титуле римского короля), этот министр – говорю я – чтобы быть последовательным, неизбежно должен стараться вовлечь своего государя в союз с французским правительством”.[428 - Штакельберг Румянцеву, 15 – 27 ноября 1810 г. Archives du Saint-Pеtersbourg.]
Уже по провозглашении Меттернихом его тоста и после того, как завтрак был уже окончен, гости увидели, что в залу идут члены русского посольства, которые тоже желали подкрепить свои силы; но сил заблудились и беспомощно бродили по залам дворца, где на них не обращалось уже особенного внимания. “Это доставило обильную пищу для насмешек над Россией, которая прозрела слишком поздно”.[429 - Souvenirs du baron de Barante, I, 318.]
Под конец Куракин решился удалиться отдохнуть в отдельной комнате, предоставленной в его распоряжение. И – о, жестокая ирония судьбы! – он отправился туда поддерживаемый с одной стороны Меттернихом, с другой – Шварценбергом, которые предложили ему опереться на их руки.[430 - Бюллетень полиции. Archives nationales, AF, IV, 1508, 3 апреля 1810 г. “Некоторые шутники, говорится в бюллетене, видя, что Меттерних ведет Куракина, говорили: “Это в порядке вещей, кому же другому выпроваживать его за дверь”. Впрочем, престарелый князь скоро оправился от временного упадка сил и, как только было объявлено о прибытии высочайших особ и начале службы, снова явился в капеллу. Когда он увидал Марию-Луизу, он счел нужным разразиться по ее адресу потоком восторженных фраз. По его словам, с тех пор, как он видел ее в Вене, он нашел в ней удивительную перемену к лучшему. “Она хороша, как ангел!” – с восхищением повторял он. Выведенный из терпения этим тоном, звучавшим фальшиво и начинавшим производить дурное впечатление, Меттерних нашел необходимым умерить неуместный восторг князя и установить тон, в каком надлежало восхвалять императрицу. “Правда, сказал он, Ее Величество замечательно развилась в течение последних трех-четырех лет; черты лица ее определились, в ней много грации и достоинства; здоровье ее великолепно, не будучи хорошенькой, она прекрасна”. [Предыдущий бюллетень полиции.] Впрочем, престарелый князь скоро оправился от временного упадка сил и, как только было объявлено о прибытии высочайших особ и начале службы, снова явился в капеллу. Когда он увидал Марию-Луизу, он счел нужным разразиться по ее адресу потоком восторженных фраз. По его словам, с тех пор, как он видел ее в Вене, он нашел в ней удивительную перемену к лучшему. “Она хороша, как ангел!” – с восхищением повторял он. Выведенный из терпения этим тоном, звучавшим фальшиво и начинавшим производить дурное впечатление, Меттерних нашел необходимым умерить неуместный восторг князя и установить тон, в каком надлежало восхвалять императрицу. “Правда, сказал он, Ее Величество замечательно развилась в течение последних трех-четырех лет; черты лица ее определились, в ней много грации и достоинства; здоровье ее великолепно, не будучи хорошенькой, она прекрасна”[431 - Предыдущий бюллетень полиции.].
Церемония шла своим чередом с величественной торжественностью. К пышности, которую воскресил или даже создал Наполеон, религия присоединила свою традиционную, веками не сокрушимую торжественность. Никто не избег чарующего впечатления того момента, когда шествие в величественном и строгом порядка проходило по галерее, когда в сопровождении длинной вереницы Величеств и Высочеств император вел императрицу, шлейф которой поддерживало три королевы и две принцессы крови. Никогда еще в этом дворце, где всюду оживало воспоминание о двух расах, монархия не выполняла в таком порядке, с таким достоинством и блеском своих обязанностей по поддержанию величия и блеска. Отчего же эта бесподобная сцена не дала зрителям полного удовлетворения? Почему, хотя у многих из присутствующих взоры и были ослеплены, сердца их оставались холодными, и они были счастливы только потому, что это было им приказано? Наполеон отучил своих подданных верить в его благоразумие. Он слишком сильно давал им чувствовать, что, если ему суждено быть вечно счастливым, то только в силу его чудесной судьбы, попирающей все законы природы и разума. Еще недавно на австрийский брак указывали, как на узду для его воинственных порывов, теперь же стали видеть в нем предзнаменование новых войн. Мысль о далекой России неотступно преследовала многих. Ее поведение, невзирая на то, что оно было и предусмотрено, и предсказанного, и объяснено надлежащим образом, заставляло бояться со стороны императора внезапной вспышки гнева, влечения к неизвестному, смелости, превосходящей всякие границы. Во время шествия была подхвачена зловещая фраза. “Все это, – будто бы сказал Мунье, – не помешает вам в недалеком будущем найти смерть в Бессарабии”.[432 - Souvenirs du baron de Barante, I, 317.] Об этой участи, подобной участи Карла XII, от которой Камбасерес, как осторожный и мудрый советник, предостерегал Наполеона, говорили теперь и другие, – правда, вполголоса, но с грубой откровенностью. Многие с невозмутимой покорностью смотрели на ее приближение и ясно различали на Севере величайшую опасность.
Правда, эти имеющие уже основание страхи, эти откровенно высказываемые опасения не распространялись далее официальной и великосветской среды, далее политических и мыслящих кругов. За стеками дворца громадная толпа, привлеченная в Париж объявлением о торжественных празднествах, всецело отдавалась развлечениям, уже не без пресыщения, которое является неизбежным спутником дней, богатых великими зрелищами и сильными душевными волнениями. Она разлилась по всему городу, ища повсюду обещанных удовольствий и ожидая ночи, когда предполагались грандиознейшие зрелища, столь же интересные, как и дневные. Она наполняла Тюльерийский сад, где перед появившейся на балконе дворца императорской четой проходили церемониальным маршем гвардейские части. Затем наступала очередь драгун, улан, стрелков и гренадеров. Пламенный, искренний восторг этих прославившихся солдат был неиссякаем. Подняв на саблях кивера и каски, неистовыми криками приветствовали они своего главу, свое божество, видя в дочери австрийского императора только лишний трофей, завоеванный его гением и их храбростью.
Среди тех французов, у которых военная карьера не поддерживала постоянно приподнятого восторженного настроения, проявлялось иное чувство. Несмотря на то, что они хранили теплое воспоминание о Жозефине и сожалели об этой доброй императрице, они снисходительно относились к Марии-Луизе, видя в ней залог мира, знамение примирения Франции с Европой. Повсюду повторяемые слова о согласии и единении на короткое время создали иллюзию всемирного покоя; они успокоили на время душевные тревоги народа, привыкшего уже верить в роковую неизбежность борьбы: они заставили его забыть свои страдания, мешали ему слышать глухой рокот пушек, гудевший вдали за Пиренеями и обращавший их внимание на все еще длившуюся войну – на это преступное деяние, которое не могло оставаться без возмездия. Поклонение и преданность императору, сильно пошатнувшиеся за последние два года, снова начали овладевать всеми. Мечтали о несбыточном; надеялись, что наконец-то он почиет на лаврах счастья и славы, что исполнение его самых заветных желаний облегчит страдания его подданных. “Вот прекраснейший момент его царствования. – писал верный его слуга, – да принесет он ему счастье, а нам лучшие времена”.[433 - Коленкур Талейрану, 25 февраля 1810 г. Archives des affaires еtrang?res, Russis, 150.] Это-то желание, в осуществление которого до сих пор не смели верить, нашло отклик в глубине миллионов французских сердец. Нация слишком часто испытывала опьяняющую радость победы, чтобы и теперь гоняться за нею и находить в ней удовольствие. Она праздновала брак с Марией-Луизой, как залог забвения прошлого, как залог устойчивости, как зарю более милостивой эры, как победу над войной.
С своей стороны, Наполеон ничего не щадил, чтобы придать своему браку успокоительное значение. В это время он, действительно, старался сделать себя менее грозным для Европы. Он принимал серьезные меры, чтобы уверить династии в их безопасности и отвратить от себя ненависть народов. Он отозвал свои войска из Германии и приказал им отойти за Рейн: очистил территорию Конфедерации, решив оставить там только две дивизии: одну – для занятия ганзейских городов с целью закрыть туда доступ английским товарам, другую – для охраны Вестфалии и надзора за Пруссией. Он торопился окончить денежные споры с Пруссией, отсрочил присоединение Голландии, предоставив царствовать там королю Людовику и поставив ему условием полнейшую покорность, – он нетерпеливо желал кончить все дела. Перенеся свое внимание на слишком небрежно веденную испанскую войну, он собирался путем целого ряда лучше проведенных операций сломить сопротивление мятежников, загнать на окраину полуострова и выбросить из Европы единственную армию – великобританскую. Конечно, если Англия упорно будет оспаривать его завоевания, он будет действовать против нее везде с удвоенной энергией. В нем возрождается его вечная надежда, что примирение с Австрией, обеспечивая прочный мир на континенте, позволит ему обновить и необычайно развить средства к морской войне. Но прежде чем начать против своей соперницы истребительную кампанию, он обращается к ней со словами примирения. Он напрашивается на переговоры, предлагает – как предварительное для переговоров условие – смягчить строгие меры блокады, лишь бы только британские министры отменили свои постановления, посягающие на свободу морей. “Само собой разумеется, – пишет он, – что мир может состояться только тогда, когда война будет вестись не так жестоко”.[434 - Corresp. 16352.]
Слишком поздняя, недолговечная умеренность и, к тому же, бесполезная! Борьбе Франции с Англией, этому постоянному препятствию к всеобщему умиротворению, суждено было быть дуэлью на смерть, которая могла прекратиться только или с возвращением Франции в ее прежние границы, или с полнейшим разгромом Англии. Этот характер, который был придан борьбе с первых же завоеваний республики, развивался неуклонно, с беспощадной энергией. Чтобы не оставаться под пушками Антверпена и не дать Франции завладеть Шельдой, Англия создала коалицию и платила Европе жалованье. Благодаря такому способу ее действий, дело дошло до того, что Наполеон, победив одного за другим всех врагов, выдвигаемых ею против него, начал угрожать ей самой непосредственно и прицеливаться в нее отовсюду: с острова Текселя, из Гамбурга, Данцига, Триеста, Корфу, Италии и Испании, повсюду выставив против нее французскую Европу. Не желая признавать за победителем хотя бы некоторой доли его сверхъестественных завоеваний, Англия должна была упорно, до конца, вести борьбу, которая истощала ее средства, подвергала ее стойкость величайшим испытаниям, но зато, заставляя Наполеона ставить все на карту в делающихся все более отдаленными и рискованными предприятиях, оставляла ей надежду вернуть все обратно, и эта надежда росла и оправдывалась с каждым днем. Тщетно Франция в последний раз старается поверить, что Наполеон хочет и может сдержать себя, что он намерен закончить свою карьеру завоевателя и спокойно ждать морского мира. Лучше осведомленная история не может разделять этой мечты. В мирной победе 1810 года она ясно различает точку отправления новых осложнений в Европе, более грозных, чем все предыдущие. Она не может, руководствуясь своими личными симпатиями, отвратить взоры от будущего и остановить их с полным удовлетворением на этом светлом, но скоропреходящем моменте: она не может отделить этого момента от последующих событий, ибо нельзя вырвать нити из непрерывной, сплошной ткани, которую ткет Провидение – ткани, в которой все тесно связано, все вытекает одно из другого, где успех вчерашнего дня неизбежно готовит борьбу на завтра. Уже теперь, по ту сторону покоренной или зачарованной Европы, она различает Россию, которая в страшной тревоге спешит вооружиться и готовится к борьбе. Она видит императора Александра таким, как он рисуется в секретных мемуарах; как он, дошедши до последней степени страха, с искаженными чертами, с “неподвижным” и почти “диким”[435 - Mеmoires du prince Czartoryski, II, 233.] взором, играет при крушении своей политики роль простого зрителя, как он сознает свои ошибки и приходят к убеждению, что Наполеон захочет заставить его искупить их ценой раздробления его империи. Истории известно, что он не только боится нападения, но уже предвидит время нападения, и предсказывает, что оно будет сделано на следующий год; ей известно, что он готовится к обороне и даже думает первым напасть на своего противника. Для обоих императоров близится час непримиримой вражды и роковой борьбы. Счастливая звезда Наполеона все еще (сияет бесподобным блеском, но вдали собирается гроза. Австрийский брак – его последнее торжество, он – предтеча бедствий, и за сияющей картиной этого грандиозного апофеоза уже виднеется зловещий горизонт.
ГЛАВА IX. СЕКРЕТ ЦАРЯ
Князь Адам Чарторижский в кабинете императора Александра. – Начало их отношений. – Петербург в 1796 г. – Встреча в Таврическом саду. – Достопамятная сцена. – Уроки Лагарпа. – Врожденное великодушие и высокие порывы Александра. – Его желание успокоить и утешить Польшу. – Радость и надежды Чарторижского. – Александр сталкивается в действительностью. – Полная перемена во взглядах Александра. – Под влиянием страха перед Наполеоном в уме царя возникает желание восстановить Польшу, присоединив ее к России. – Первая мысль о наступательной войне с Францией. – Русская партия в Варшаве. – Предложение, переданное Голицыным. – Александр просит совета у Чарторижского. – Взаимное недоверие. – Различие во взглядах царя и его канцлера. – Представитель традиций. – Дело о конвенции остается в неопределенном положении. – Отправка в Париж русского контрпроекта; к Наполеону предъявляется требование подписать дипломатическую капитуляцию. – Тревоги Александра растут. – Аустерлицкий взор. – Новый разговор с Чарторижским. – Проект напасть врасплох на великое герцогство и овладеть им. – Разные комбинации. – Секретная политика Александра, которую он ведет сам непосредственно. – Попытки воздействия на Австрию. – Алопеус. – Фиктивное назначение послом к Мюрату; действительное поручение в Вене. – Соблазнительные предложения. – Яблоко раздора между Петербургом и Веной. – Александр упорно стремится присоединить княжества и предлагает Австрии компенсацию. – Сербия. – Великий проект 1808 г. – Хорошо рассчитанная болтливость. – Тайные усилия Александра отвлечь от Наполеона Польшу и Австрию. – Параллельно с возобновлением переговоров он приступает к дипломатической кампании против Франции.
В то время, как Франция и большая часть Европа праздновали свадьбу нового Карла Великого, в кабинете императора Александра происходили тяжелые сцены. Снедаемый беспокойством и заботами, царь обратился к человеку, который был хранителем его первых тайн, скорее другом, чем министром. Князь Адам Чарторижский вернулся в Петербург прошлой осенью после годового отсутствия. В продолжение нескольких: недель Александр искал случая приблизить его к себе и вызвать на дружеские беседы. Когда вопрос а Польше сделался для него слишком мучительным, он решил поверить свое горе польскому вельможе и просить его помощи. Патриотизм князя не был для него секретом, но он знал его преданность и высоко ценил ее.
Их дружба тянулась уже четырнадцать лет. Она завязалась при трогательной и романтической обстановке. После окончательного раздела Польши в 1795 г. императрица Екатерина потребовала, чтобы знаменитая семья Чарторижских доверила ее попечениям своих сыновей и тем дала залог своей покорности. В награду за это она позволила им надеяться на смягчение суровых мер и на возврат конфискованных имений. Молодой князь Адам был выдан ей заложником. В Петербурге он был пожалован офицером, гвардии, как символ рабства, носил русский мундир. Императрица была к нему милостива, общество старалось доставить ему развлечения и удовольствия, но безуспешно – ничто не могло рассеять грусть и меланхолию гордого узника. По приезде в Петербург он был замечен великим князем Александром, тогда еще восемнадцатилетним юношей, старшим сыном цесаревича Павла, наследником престола во второй степени. По прошествии некоторого времени Александр выразил желание поговорить с ним наедине. Свидание произошло в садах Таврического дворца, в один из тех весенних дней, когда пробуждается северная природа и, как бы торопясь жить, распускается во всем своем кратковременном блеске. С первых же слов непреодолимая симпатия влечет их друг к другу; взаимное влечение душ сближает их, и при дворе, где представитель осужденного на смерть народа читает на всех лицах только равнодушие или обидную жалость, сам наследник Екатерины пожелал быть поверенным его дум.
Было бы напрасной тратой времени отыскивать подобие этой сцены в истории; ее надо искать в одном из великих творений драматического гения; надо вспомнить, в каких чертах немецкий поэт обрисовал сына Филиппа II, Дон-Карлоса, который в душе проклинал жестокую политику отца, поклонялся справедливости и добродетели, страдал от великодушных стремлений, и в преданном друге нашел живой образ своих дум и терзаний. Александр – Карлос Испанский, Чарторижский – Поза.
Русская императрица с ревнивой заботливостью воспитывала своего внука под непосредственным своим наблюдением. Она видела в нем надежду своего народа, продолжателя ее дела. Однако, умея искусно льстить писателям и мыслителям Запада, привлекая к себе этих творцов общественного мнения, которые наделяли славой и бессмертием, она выбрала в наставники великому князю одного из их учеников, женевца Лагарпа. Она считала полезным, чтобы будущий самодержец мог щегольнуть либеральными и философскими идеями, блеснуть которыми она сама умела с редким искусством. Но оказалось, что молодой великий князь был одарен крайней восприимчивостью и экзальтированным воображением, что в нем была врожденная потребность верить и сильно увлекаться. Принципы, которые развивал пред ним Лагарп, отвечая его врожденным возвышенным и пока еще бессознательным чувствам, не коснулись его только поверхностно, но глубоко внедрились в него и завладели им. Его великая душа раскрылась под влиянием идеала, который пронесся над веком. Он начинает мечтать о всемирном царстве справедливости и счастья, “его сердце бьется для человечества”, и когда Чарторижский говорит ему об освобождении крестьян о свободе, – его слова находят в нем сочувственный отклик и вызывают благородные стремления.
Счастливый, что нашел, кому открыть свою душу, кому поверить свои тайны, Александр дает волю идеям, которые до сих пор скрывал и таил в себе, так как, к несчастью, постоянный надзор выработал в нем склонность и привычку скрывать свои чувства. Он признается Чарторижскому, что в душе ненавидит все, чему принужден поклоняться всенародно. Он восстает против существующих основ государства, возмущается преступлениями, к которым они ведут и которым потворствуют; отказывается чтить умелою рукой поддерживаемое самодержавие, величественное олицетворение которого видит в Екатерине. Из слов его видно, что ему нравятся только свободные учреждения. Слово “республика” производит на него мистическое обаяние. Везде он на стороне угнетенных; его влечет к тем, которые борются или страдают; он желает побед французской республике, борьба которой с коалицией монархий, идущая вдали от России, рисуется перед его взорами; но в особенности в нем пробуждается беспредельная жалость при имени Польши. Он жалеет поляков; говорит, что преклонялся пред их последними усилиями, что хотел бы видеть их счастливыми, и обещает со временем сделаться их утешением. При этих словах Чарторижский был потрясен до глубины души. Все существо его трепетало от радости и волнения. Он благодарит Провидение за сотворенное чудо; он славословит его за то, что оно внушило такие намерения великому князю, который, по всем данным, был призван продолжать политику железа и крови. Теперь они вдвоем строят планы туманного будущего, говорят о восстановлении Польши, о том, чтобы, соединив ее братскими узами с Россией, вернуть жизнь ее народу. В юноше с вдохновенным взором, с чудными чертами лица, который говорит ему слова надежды и ободрения, Чарторижский надеется обрести сверхчеловека, на которого Проведение возложило миссию восстановить Польшу, и приветствует в нем ангела-освободителя своей родины.[436 - Mеmoires du prince Adam Czartoryski, опубликованные в 1887 г. Мазадом, 1, 94 – 99. Эти мемуары представляют исторический документ громадной ценности.]
Четыре года спустя Александр вступил на престол после катастрофы, воспоминанию о которой суждено было постоянно мучить его совесть. Став у кормила правления, он столкнулся с действительностью; ему пришлось считаться со вверенными ему интересами и традициями государства. Он не дерзнул порвать эти узы, не решился проводить в жизнь свои высокие мечты, покорился необходимости царствовать так, как царствовали его предшественники, но думал иначе, чем они. Тем не менее, его дружба с Чарторижским, нe прекращавшаяся с их первого свидания, существовала по-прежнему. Он пригласил князя в тайный совет, где рассуждали о разных мерах а духе либерализма и где вырабатывались наброски реформ. Иногда имя Польши появлялось на его устах, “но это было совсем не то”.[437 - Id. I, 279.] Правда, он обещал улучшить участь присоединенных провинций и в единичных случаях возвращал конфискованные имения, но мысль об автономной Польше, которая входила бы в империю, как отдельный, одаренный жизнью, элемент, слабела и меркла в нем. Теперь он смотрел на этот план, как на несбыточную мечту, хотя и говорил, что все еще любит и хранит ее в глубине своего сердца; что очень жалеет о том времени, когда мог предаваться этой благородной утопии. “Это была ребяческая мысль, но она была божественна хороша!”.[438 - Schiller, Don Carlos.]
Позднее Чарторижский был призван к высоким, ответственным обязанностям: его назначили товарищем министра иностранных дел, a в 1804 и 1805 гг. он один управлял министерством. За это время он безрезультатно представил много проектов о восстановлении Польши, и все они были совместимы с сохранением целости и даже с расширением русского государства. В 1805 г. он почти добился обещания, но оно было тотчас взято обратно, и, мало-помалу, роковое стечение обстоятельств довело Александра до того, что он стал смотреть на возрождение Польши под каким бы то ни было видом, как на самую серьезную опасность, которая может угрожать безопасности и единству его империи. Всегда мягко и человечно относившийся к людям, с болью в сердце прибегая к строгостям, он делался суровым и непреклонным. Когда затрагивались основные принципы русской политики. Вот откуда вытекало его ожесточение против польской идеи, вот почему он стал преследовать все ее проявления, задался целью подавить ее и сделаться “главным гонителем”[439 - Mеmoires de Czartoryski, II, 211.] нации, которой боялся, но к которой не питал предвзятой ненависти. В первую половину его царствования его общая политика несколько раз меняла свое направление. Его неустойчивая мысль увлекала его по разным путям, но ни на одном он не нашел спокойствия и счастья.
И в самом деле, он испробовал все, и ничто ему не удалось. В начале царствования он хотел сыграть среди государей роль умиротворителя, хотел избавить Европу от посягательств Бонапарта и восстановить ее на началах разума и справедливости. При дворах, которые он приобщил к этому делу, он встретил только бессердечность, эгоистичные и бессовестные стремления, недостаток мужества или обман. Испытанные им в политике разочарования были не менее жестоки, чем поражения его войск. Получив отвращение к союзникам, он перешел на сторону победителя. Он подпал под влияние гения, поклялся идти по стопам Наполеона и брать с него пример. Он захотел сделаться завоевателем, испытать опьяняющий трепет военных успехов, вернуться к завоевательным планам своих предшественников и далеко оставить их за собой на этом пути. Он начал повсюду расширять границы своего государства и на дне чаши с опьяняющим напитком (нашел горечь. Полученные результаты, несмотря на их наглядность, были ненадежны, зависели от чужой воли, и притом ценой какого опасного заискивания нужно было их приобрести! Разочаровавшись в Наполеоне, Александр остановился, наконец, на решении вести двусмысленную и сложную игру: сохранить союз, не исполняя вытекавших из него обязательств; избавиться от необходимости действовать заодно с честолюбивым императором, но при этом поддерживать с ним наилучшие отношения, медовыми речами льстить его самолюбию и на словах выражать ему преданность и уступчивость. Без сомнения, он рассчитывал такой ценой приобрести право жить спокойно; получить возможность удалиться от европейских дел, всецело посвятить себя заботам внутри страны и не столько думать о величии своего государства, сколько о счастье своих подданных. Последняя и бесплодная мечта! Наполеон не мог допустить, чтобы Александр отдавался ему только вполовину; он потребовал, чтобы тот вполне определенно перешел на его сторону, и на отказ Александра дать доказательство беззаветной преданности ответил переходом к системе, в которой Россия усматривает намерения вредить ей, желание напасть на нее, правда, пока еще скрываемое. Александр думает, что война, от которой он целым рядом отсрочек и полумер надеялся избавить территорию самой России, теперь уже близка, что она вскоре настанет и захватит его врасплох за его трудами по обновлению России. В 1810 г., когда только что были выработаны проекты реформ по улучшению внутреннего строя, когда он рассчитывал собрать плоды жертв и трудов, понесенных ради сохранения мира с Францией, ему снова нужно думать о средствах к войне, готовиться к борьбе за существование и снова окунуться в эру душевных тревог и крови. Пред взорами его уже рисуется грозное нашествие. Ему всюду чудятся симптомы и предвестники этого нашествия, и мстительный рок делает то, что еще недавно бывшая предметом его сострадания Польша, от которой он затем отвернулся и которую, в конце концов, стал жестко и упорно преследовать, делается в руках его противника драгоценным оружием, одним из средств к нападению и орудием пытки.
Тогда с душевной тревогой, он спрашивает себя: не взглянул ли он яснее и глубже на дело в годы своей восторженной юности; не заблуждается ли он теперь, когда смотрит на вещи с точки зрения эгоистичного расчета главы государства и политика; не предписывает ли ему государственная польза, не задумываясь более, отдаться чувствам справедливости и великодушия; не в его ли интересах осуществить в действительности роман, набросанный некогда в садах Таврического дворца? Может быть, еще не слишком поздно загладить преступление, таким тяжким бременем тяготеющее над судьбами империи? Может быть, еще можно предупредить Наполеона в деле возрождения Польши, которую тот хочет восстановить ради своих честолюбивых целей и из ненависти к России? Может быть, еще можно воспользоваться ею для борьбы с ним и для победы над ним? Во владении России, думает царь, находится наибольшая часть прежнего королевства и наибольшее количество его жителей. До сих пор Россия думала только о том, чтобы держать под гнетом эти миллионы людей, чтобы изгладить у них всякую память, всякое сожаление о прошлом. Но ей не удалось этого достигнуть. Не удастся ли, дав им равноправие, добиться того, чтобы они без всякого давления, по собственному желанию, соединили свою судьбу с судьбой России? Теперь Александр только владеет ими; а если он сделается их главой, если возвратит им имя, законы, учреждения, язык; если дарует им народное представительство; превратит их страну в отдельное королевство, неразрывно соединенное и связанное с его империей; если восстановит польскую корону и возложит ее на свою главу так же, как возложит и царскую корону – тогда возрожденное государство сделается притягательной силой для других частей раздробленной нации, и вскоре все они, включая и герцогство Варшавское, вольются в него и в нем найдут предел своих стремлений. Царь думает, что с этого момента русская Польша должна сделаться для поляков той притягательной силой, которую в настоящее время они видят в великом герцогстве. Ведь варшавяне примкнули к Наполеону только потому, что в его покровительстве видят единственное средство возрождения их родины. Если на их границе покажут им воскресшую, жизнеспособную Польшу, которая примет их в свои объятия, они бросятся к ней и покинут Наполеона, подающего только надежды, ради Александра, который осуществит их мечту.
– В тот самый час, – думает далее Александр, – когда он провозгласит себя польским королем, его войска внезапно вторгнутся в очищенное французами герцогство. Варшавская армия, предупрежденная об этом, подготовленная к этому заранее, возмутится против власти саксонского короля и отречется от тягостного при данных условиях союза с завоевателем. Она прорвет свои ряды ради того, чтобы построиться около монарха своего народа, покинет знамена, чтобы пойти навстречу своей родине, и этой выгодной для нее изменой, быть может, подаст Европе сигнал к восстанию. Бесполезно, это будет война с Наполеоном, война наступательная, без явной и осязаемой причины, начатая одним из тех вероломных, внезапных нападений, за которые Австрия и Пруссия поочередно так жестоко были наказаны. Это значило бы взять на себя ответственную роль зачинщика и иметь против себя, если не право по существу, то во всяком случае, внешний вид права. Ну, так что же! Александр до такой степени убежден в неизбежности войны с Францией, что задает себе вопрос, не будет ли лучше начать ее самому, не выгоднее ли предупредить противника, выиграть во времени и прийти до него на Вислу и Одер. В его воображении зарождаются дерзкие планы, которые он по своей слабохарактерности никогда не решится привести в исполнение. Бывают минуты, когда, чтобы спастись от преследующего его призрака, он не прочь броситься в действительную опасность, в ужасное предприятие, и именно страх, дошедший в нем до крайних пределов, толкает его на самые отважные поступки.
Нужно заметить, что его надежды не были основаны на чисто умозрительных данных. Они основывались на действительном факте, на существовании в Польше, и даже в Варшаве, русской партии. Еще недавно эта партия играла большую роль и исповедовала доктрину, которая имела много сторонников. В конце восемнадцатого века, когда Речь Посполитая, обессиленная раздорами, изнуренная интригами, не способна была создать учреждений, необходимых в жизни современных государств; когда она, окруженная алчными соседями, нетерпеливо ждавшими ее конца, неудержимо приближалась к своему падению, некоторые из ее лучших граждан, – между прочим отец и дядя князя Адама, – только в России видели ее спасение и убежище. По их мнению, Польша могла избегнуть раздела, т. е. казни и окончательной гибели, только при условии, если бы она вся целиком подчинилась великому славянскому государству, стала бы под его защиту и вступила с ним в тесную, неразрывную связь. Путем этой жертвы она сохранила бы за собой право управляться по своим законам, сохранила бы свою индивидуальность и неприкосновенность территории, обеспечила бы за собой могущественное покровительство и ценою независимости спасла бы свою национальность.
Позднее политика Екатерины, ее участие в тройном разделе, суровые меры, которые она применяла в выпавших на ее долю провинциях, жестоко опровергли эти предложения. Несмотря на все это, русская партия существовала по-прежнему. Порою она обращала на внука Екатерины взоры, полные надежды, и еще не так давно дала замечательное доказательство своей живучести. В 1809 г., во время войны с Австрией, когда армия князя Голицына после целого ряда проволочек перешла, наконец, границу, группа варшавских вельмож и галицийских магнатов в глубокой тайне обратилась к русскому главнокомандующему и передала ему следующее предложение, если император Александр согласен восстановить прежнюю Польшу, взяв ее под свою державную руку и возвратив ей ее прежние границы, вся партия польской знати тотчас же признает его польским королем, и ее пример, может быть, увлечет за собой и остальных.
Захваченный врасплох этим предложением, переданным ему и поддержанным Голицыным, Александр не воспользовался им. Он еще надеялся путем соглашения с императором французов, не допустить восстановления Польши в каком бы то ни было виде. Но так как восстание в Галиции увеличивало его опасения, а добросовестность Наполеона делалась все более подозрительной, то он не счел нужным вполне разочаровывать партию, которая ручалась, что заставит Польшу перейти на его сторону. Если, думал он, допустить предположение, что Польша неминуемо должна ожить, не лучше ли, чтобы она воскресла по милости России, чем при содействии французов? Поэтому в ответе, данном магнатам 27 июня 1808 г., на всякий случай высказывалась следующая, руководящая для будущего времени идея. Царь, говорилось в ней, никогда не уступит провинций, включенных в его империю, для того чтобы слить их вместе с другими провинциями прежней Польши в одно автономное государство; но если обстоятельства будут тому способствовать, он не прочь был бы царствовать над Польшей, лежащей вне его границ, в состав которой вошли бы и великое герцогство с Галицией.[440 - В Приложении под цифрой II текст письма Голицына и ответ на него. Оба документа взяты из архивов С. Петербурга.]
В следующие затем месяцы, приняв Чарторижского, вернувшегося из-за границы и по-прежнему защищавшего дело своих соотечественников, Александр был с ним холоден и сдержан. Тем не менее, в разговоре с ним, “опустив глаза и не окончив фразы”,[441 - Mеmoires de Czartoryski, II, 211.] он ввернул несколько слов утешения. Даже, как-то раз, в январе 1810 г., как бы невольно поддаваясь влиянию восторженных речей князя, он намекнул на их прежний план и дал понять, что не относится к нему неодобрительно.
Это было как раз то время, когда он лихорадочно обсуждал с Коленкуром договор об уничтожении Польши и, следовательно, не мог говорить с поляками вполне искренне, а только условно, на тот случай, если бы Наполеон не скрепил своей подписью их смертный приговор. Он хотел восстановить Польшу в свою пользу только в том случае, если бы стало невозможность удержать ее в могиле. Шесть недель спустя возврат неутвержденного договора вместе с неожиданным, как удар грома, известием об австрийском браке, по-видимому, убедил его в такой невозможности и сразу же заставил вернуться к планам юности. Эти неожиданные события сделали то, что отринутый десять лет тому назад проект снова овладел им и занял его мысли. Вне себя, потеряв голову, он спрашивает себя, не в этом ли смелом плане его спасение, и признавая, что этот план в дальнейшем своем развитии чреват самыми серьезными последствиями, он все-таки покоряется необходимости в самой же России дать самоуправление своим польским провинциям и создать из них ядро будущего королевства. Именно в это-то время он пожелал видеть Чарторижского, пригласил его к себе, и мы снова видим их друг перед другом, вернувшихся после долгих испытаний к первым временам своей дружбы.
Во время первого разговора происходившего в марте месяце, ни Александр, ни Чарторижский не решались еще высказаться и вернуться к прежним откровенным беседам. Но так или иначе, надо было начать. Александр не прямо подошел к вопросу. Сначала он осыпал князя уверениями в своей личной дружбе к нему, затем заговорил об амнистии, о примирении, о забвении прошлого.[442 - Чарторижский в своих Мемуарах, II, 226 – 234, подробно рассказывает о своих двух разговорах о Александром в марте и апреле 1810 г. Все цитаты взяты из этой части его труда.]
Он хотел бы доказать полякам, говорил он, что он им не враг, что искренне желает им счастья, что его цель – заслужить их любовь и доверие, и что дело князя указать ему средства для этого. Для начала он выразил желание создать из тех восьми губерний, которые достались России по разделам, одно национальное тело с присущим ему управлением и привилегированным положением. Чарторижскому нетрудно бы разгадать в нем желание создать русскую Польшу, задачей которой было бы привлечь и поглотить созданную Наполеоном на Висле французскую Польшу.
В другое время князь с восторгом приветствовал бы этот план, теперь же он плохо верит в него; он смутен. Несмотря на величайшее отвращение его к Наполеону и искреннюю привязанность к Александру, любовь к родине делала свое дело; он стал колебаться между Петербургом и Варшавой. В настоящее время, когда спасение Польши, по всем данным, шло с Запада, имел ли право один из ее сынов мешать этому, не совершал ли он преступления, выдвигая другие комбинации? Быть может, отдавшись видам царя, он собственными руками отдаст на растерзание родину, разделит ее на враждебные лагеря, ввергнет в междоусобную войну и своим преступным вмешательством нанесет смертельный удар отчизне-матери и помешает делу национального возрождения? Сверх того, был ли искренен Александр? Вытекал ли возврат его к идеям прошлого из возвышенного и прочного чувства? Или же нужно видеть в этом только скоропреходящее действие известных обстоятельств, обусловленных исключительно страхом перед Наполеоном, одно слово, одна улыбка которого, может быть, рассеет все это в прах? Чарторижский слишком хорошо изучил непостоянный и скрытный характер своего собеседника, чтобы и теперь относиться к нему с тем же доверием, которое составляло главную прелесть их первых отношений; теперь он то боялся, что царь отступит, то искал в его словах задней мысли. “Император Александр, – писал он как-то, – приучил своих приближенных во всех его решениях искать совсем не те поводы, на которые он ссылается”.[443 - Mеmoires., II, 225.]
Тем не менее после убедительных просьб он обещал изложить письменно свои мысли о способах, которые всего вернее могут привлечь к царю сердца поляков. Александр спросил, когда можно рассчитывать на получение этой записки, и отложил дальнейший разговор до того времени. Имея только намерение – заронить в душу Чарторижского первую и беспредельную надежду, он не решился преждевременно открыть ему все планы, которые носились в его уме.
В сущности, переговоры с Францией, хотя и сильно скомпрометированные, не были еще прерваны. В петербургский кабинет поступило вполне определенное предложение, по которому ему нужно было высказаться. Перед ним находился договор о гарантиях, правда, измененный Наполеоном, но, тем не менее, договор был предложен и утвержден заранее. Правда, Александр думал, что без первой статьи, без столь жестокой по своей краткости фразы: “Польша никогда не будет восстановлена”, весь акт целиком, лишится всякого значения и силы. Но можно было думать, что, настаивая решительнее, делая некоторые уступки по другим статьям, можно было бы добиться от Наполеона, чтобы он взял обратно свой отказ и принял формулу, которая избавила бы от всяких сюрпризов. В особенности, за надежду заставить императора французов принять соглашение, которое позволило бы сохранить союз, цеплялся канцлер Румянцев. Все другoe, вне этого соглашения, казалось ему только опасными и праздными мечтами. Воспитанный в школе Екатерины, пропитанный ее непреклонными принципами, Румянцев не допускал никакой сделки с неосновательной Польшей; он считал ее неспособной к нормальной жизни,[444 - “Поляки, говорил он, похожи на шампанское, которое играет, но скоро выдыхается. Они не в состоянии быть самостоятельной нацией”. Коленкур императору, 2 августа 1809 г.] видел в ней только беспокойный элемент и стремился вполне покончить с опасностью, тогда как его государь мечтал только на время отвратить ее. С другой стороны, он склонен был думать, что Наполеон, все внимание которого было направлено на войну с англичанами, преклонится пред требованием, если оно будет энергично поддержано. Он находил, что Россия слишком часто грешила недостатком мужества и решимости, что она должна, наконец, показать характер, сделаться непреклонной и упорно стоять на своих требованиях. Он думал, что, повторяя их, она, без сомнения, добьется своего, что она восторжествует. Александр, которому были известны взгляды Румянцева, не счел нужным посвящать его в свои разговоры с Чарторижским; он предоставил ему идти своей дорогой; решил действовать с ним заодно, не отказываясь от намерения, в случае надобности, тайно от него вступить на другой путь.
Петербургская канцелярия составила новый договор, – третий по счету. Против французского контрпроекта она выставила русский контрпроект и тщательно воспроизвела в нем фразу, которая была главным камнем преткновения. Она ограничилась только тем, что предпослала ей другую фразу и этим как бы подготавливала к ней. Вместо того, чтобы сказать: статья первая: “Польское королевство никогда не будет восстановлено”, были употреблены следующие слова: статья первая: “Е. В. Император Французов, стремясь дать своему союзнику и Европе доказательство своего желания отнять у врагов мира на континенте всякую надежду нарушать его, обязуется, равно как и Е. В. Император Всероссийский, что Польское королевство никогда не будет восстановлено”.[445 - См. серию статей в Correspondanse de Napoleon, XX, 177 – 178, в Примечании.] В первом русском проекте эта была смерть без фраз; во втором заключался тот же приговор, но с объяснениями и мотивами. Что же касается следующих статей, то в обоих текстах не было существенной разницы. Александр пожелал только, чтобы отмена знаков отличия была тотчас выражена.
Русский контрпроект был отправлен из Петербурга 17 марта на имя князя Куракина; он снабжен был собственноручными заметками императора. Посланник должен был представить его к подписи французскому монарху, не допуская никаких изменений, не позволяя ни вычеркнуть, ни прибавить ни одного слова. Таким образом, в то самое время, когда царь начал протягивать руку полякам и льстить их надеждам, он в последний раз просил Наполеона покончить с ними и закрыть пред ними будущее.
Как примирить эти две совершенно противоположные задачи, которые, в случае надобности, должны были заменить одна другую? Слух о готовящемся договоре дошел до поляков. Он взволновал их, привел в ужас. Да и понятно. Он вовсе не был таким, чтобы расположить их слушать внушения той самой России, которая вырабатывала акт, задачей которого было довершить их несчастье. Чарторижский не мог удержаться, чтобы не указать царю на это противоречие. Он выразил удивление, что “ввиду переговоров с Францией о конвенции”, Его Величество интересуют вопросы, о которых он беседует с ним. Может быть Наполеон отказался утвердить ее? – робко спросил он.
Немного смутясь, Его Величество ответил, что дело не в этом, а что Шампаньи хотел поместить в договоре выражения и статьи, клонившиеся к уничтожению самого названия поляков, но что он изменил эти статьи и что договор, таким образом, измененный. снова отправлен в Париж”. Итак, смело говоря как раз обратное тому, что было на самом деле, Александр приписывал парижскому кабинету свои собственные жестокие требования. Он приписывал ему инициативу этого дела, сваливая на него всю ответственность и возбуждая к нему ненависть поляков. После всего этого, ошибался ли Наполеон, думая, что целью России было не столько связать его нравственно, сколько уронить в глазах поляков и, таким образом, лишить материальных средств к защите; что она хотела не столько связать его честным словом, сколько лишить его оружия?
Не вполне доверяя объяснениям Александра, Чарторижский все-таки принялся за работу, которой от него требовали. После нескольких дней, посвященных изучению и размышлению, он составил записку и отнес ее императору. Со времени их первого разговора прошло приблизительно три недели. За это время события далеко шагнули вперед. Празднование в Париже бракосочетания с его характерными особенностями, с каждым днем возрастающие внешние проявления дружбы между Францией и Австрией произвели на Александра глубокое, ужас наводящее впечатление. Сомнениям более не было места. Это был окончательный удар его политике, крушение всех его надежд, дипломатический Аустерлиц. Чарторижский был поражен его “унылым и полным отчаяния видом”. В это-то время он и уловил опять в его взгляде выражение оцепенения, которое он уже раз видел после ужасного дня 2 декабря 1805 г., когда молодой монарх и его свита, увлеченные после проигранного сражения общим потоком бегства, галопом покидали поле битвы, а вдали, позади них, раздавались несмолкаемые радостные клики торжествующих французов, приветствовавших проезжающего вдоль их рядов императора.[446 - Mеmoires de Czartoryski, II, 409.] Теперь, как и в 1805 г., не сумели ничего ни предвидеть, ни предупредить, дали бедствию обрушиться, как снег на голову, и последствия этого бедствия сыпались со всех сторон все с большей скоростью. Думая, что ему угрожает неотвратимая опасность, что она по пятам преследует его, Александр требовал во что бы то ни стало средства для спасения и инстинктивно искал оружие, чтобы защититься.
Чарторижский прочел свою записку Александру, который внимательно прослушал ее. Плохо осведомленный относительно истинных намерений царя, не зная, в каком состоянии его отношения с Францией, он поневоле вынужден был выражаться неопределенно. Что касается поляков, русских подданных, то он советовал смело вступить на путь мягкой и великодушной политики, напоминал о столько раз уже указанной им необходимости “восстановить Польшу, дабы упредить Бонапарта”, но не подсказывал никакого способа действия. Да и не было ли уж слишком поздно снова приниматься за проект, который, на несчастье, был отложен? В каждой строчке записки сквозил упрек России в том, что она никогда не умела действовать своевременно и занималась только тем, что пропускала удобные случаи. Александр не отрицал этой истины. Он вместе с Чарторижским внимательно разобрал свое поведение, раскаялся, что не восстановил Польшу в 1805 г., позволил сказать себе, что в 1809 г. его поведение было “самое дурное”, но не допускал, чтобы не было средства исправить ошибки и что, следовательно, нужно отказаться от мысли изменить ставшее невыносимым положение. “Он дал понять, как велико его желание сделать с своей стороны, все, чтобы устроить дела Польши каким бы то ни было способом”, но при этом не скрыл, что это желание отчасти обусловлено серьезным, имеющим основание беспокойством, которое причиняла ему Франция. Конечно, говорил он, Наполеон не жалеет для него успокоительных фраз – доказательство этого у него на письменном столе; но что эти заявления, цену которым он знает, не в силах уже убедить его; чтобы быть уверенным в своей безопасности, ему недостаточно нравственной гарантии; ему необходимo материальное обеспечение, факт, т. е. уничтожение великого герцогства. Но, спрашивается, каким путем заставить герцогство слиться с Польшей, которая будет создана именно для того, чтобы поглотить его? Каким способом можно склонить его жителей к перемене их маленькой родины на большую, которую даст им Россия?
На настойчивые просьбы ответить на этот вопрос Чарторижский всякий раз уклонялся, ссылаясь на отсутствие связей в Варшаве, и на то, что не знает, как будут приняты там русские предложения. Но Александра не убедили эти доводы, и он кончил тем, что высказал соображение, на котором основывалась его надежда. “Ну! – сказал он, – и не будучи на месте, не трудно знать, что думают в провинциях и в герцогстве. Это можно выразить в двух словах. Поляки пойдут за самым дьяволом, если он поведет их к восстановлению родины”. Тогда перешли к более подробному обсуждению вопроса и рассмотрели разные способы его выполнения. Чарторижский всегда исходил из того предположения, что Россия попробует войти в соглашение с Наполеоном; что она постарается добиться его соглашения на упразднение герцогства, предоставив Франции значительные выгоды в других местах и, сверх того, компенсацию для саксонского короля. Ему и в голову не приходило, чтобы Александр, не будучи вынужден крайней необходимостью, мог допускать мысль о вооруженном столкновении с победителем при Аустерлице и Фридланде, и чтобы он сам, по собственному почину, пошел на разрыв. Каково же было его удивление, когда он узнал, что царь не исключал подобного исхода, а тем более, когда ему был предложен вопрос: “нельзя ли начать фиктивную войну с герцогством; причем, по взаимному соглашению, русские войска могли бы дойти до тех позиций, на которых, по присоединении к ним польских войск, они могли бы держаться против французов? При таких условиях все желания Польши были бы исполнены”.
Спешим добавить, что дело шло пока об одной из затей, выделившейся из хаоса идей Александра. Через минуту, видя, что Чарторижский содрогнулся при мысли о войне с Наполеоном, “с ее весьма сомнительными шансами на успех”, он совершенно неожиданно перешел к другой крайности, дал другое направление своей фантазии и вторично несказанно удивил своего собеседника, высказав мысль – разоружить завоевателя уступчивостью и предупредительностью. Не будет ли достигнута эта цель, спросил он, если не ставить препятствий для образования Польского королевства из великого герцогства и Галии, в позволить жителям польских провинций России переходить туда на службу, как в их собственную страну? После такого удовольствия, – продолжал он, – поляки не будут иметь причины враждебно относиться к России; они успокоятся, и у Франции не будет уже повода к войне с Россией, так как между нею и Россией не будет этого постоянного яблока раздора”. Но серьезно ли говорил Александр в этот раз? Не хотел ли он просто испытать Чарторижского, посмотреть, не обрадуется ли он надежде на восстановление Польши, даже если она будет восстановлена вне пределов России? Впрочем, снова противореча себе, он вслед затем высказал убеждение, что конфликт за всяком случае неизбежен, что Наполеон вызовет его на это, если только Россия не упредит его. Эта роковая мысль была единственной, упорно засевшей в его неустойчивом уме. “Он с глубоким убеждением сказал, что не думает, что это произойдет уже в этом роду, ибо Наполеон всецело занят своим браком, но что он ждет кризиса в будущем году. Теперь у нас апрель, – продолжал он, – значит, это будет через девять месяцев.