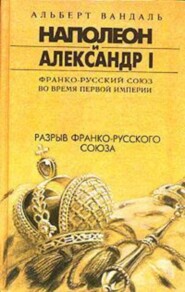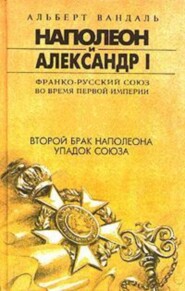По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Возвышение Бонапарта
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Зато среди городского населения страшно волновались и очень агрессивно выражали свою радость совсем иного рода группы, тоже бурливые и шумливые, – воинствующие реакционеры, союзы молодежи, банды мюскаденов и контрреволюционеров, которые с дубинкой в руках боролись против последовательных попыток воскрешения якобинства. Большинство из них были, в сущности, роялистами, хотя они выставляли себя просто-напросто антиякобинцами и боролись против революции во имя ее же принципов. События в Сен-Клу, на первый взгляд, направленные против революции, опьянили их надеждой. Они думали, что час их настал, и во многих городах, в свою очередь, начали разыгрывать роль господствующей факции.
Бордо был весь охвачен реакцией. Вести из Парижа пришли 24 брюмера. Первый день был весь отдан радости; чтение бюллетеней в общественных местах и театрах вызывало взрывы рукоплесканий вперемешку с шиканьем и свистками по адресу изгнанных депутатов. На другой день в театрах публика потребовала злободневных куплетов; полицейский комиссар воспротивился; поднялись крики, шум; зрители взбунтовались; в интересах восстановления порядка генерал, командующий местными войсками, принужден был сдаться на просьбы публики и отменить запрещение. Тем не менее город был наэлектризован и, по-видимому, не намерен больше терпеть установленной власти.[706 - Донесение помощника комиссара исполнительной власти при центральной администрации Жиронды, от 27 брюмера, министру внутренних дел: – “Я не вправе скрывать от вас, гражданин министр, что ни одна из установленных властей г. Бордо не пользуется доверием общества, что делает необходимой почти полную реформу. Общества требуют, чтобы ожидаемые перемены осуществлялись как можно скорее, иначе власть перестанут признавать, и все ее указы потеряют силу; тогда спокойствие по необходимости будет нарушено…” – Национальный Архив, T.S.G., III, 8.] Клермон-Ферран наблюдал сцены в том же роде; публика в театре не хотела слушать марсельезы и требовала бонапартки.[707 - Le Propagateur, 5 фримера. См. постановление администрации департамента от 27 о том, чтобы музыка играла поочередно. Hymne des, Marseillais, Le chant du dеpart, ?a ira, Veillons au salut de L'Empire u la Bonaparte – Bonnefoy, II, 319.] В Нанси толпа граждан своею властью заперла якобинский клуб и прибила саван к дверям. В Верхней Савоне правительственный комиссар пишет: “Уж не думают ли якобинцы присвоить себе плоды 18-го и 19-го? Они угрожают республиканцам, повергают в трепет покупщиков национальных имуществ, говорят о короле и о старом режиме.[708 - Schmidt, “Tableaux de la revolution”, 467.] В Канне произошла как бы перетасовка партий, вследствие которой реакционеры всплыли наверх. Во множестве округов и местечек происходили шумные манифестации, нападений на чиновников, и поведение Парижа, который за последние дни тоже начал подавать голос, поощряло это движение.
Почти повсеместно народная масса была на стороне своих вождей; из страха и отвращения к игу революционеров народ, казалось, готов был идти на буксире за роялистами. Когда пало правительство гонений, все французы, чьей безопасности оно угрожало или нарушило ее, все разоренные им, преследуемые, униженные, обращенные в илотов[709 - покоренные] – таких были сотни тысяч – испытывали радость освободившихся узников. Они рукоплескали тем, кто яростно восставал против продажных душ и угнетателей-чиновников, против явных и тайных властей, против клубов и комитетов, против суровости республиканского законодательства и его раздражающих мелочных придирок, против всех форм революционной тирании, теперь шаткой и сбитой с позиции. В 1789 г. мы видели самопроизвольное нарождение анархии; теперь также самопроизвольно нарождалась реакция, грозя перейти в другой вид анархии – в бред возмездия.
Бонапарт тотчас почуял опасность, ибо он прежде всего не хотел, чтобы имя его стало синонимом реакции. Задуманный им план будущего был великий, спаcительный план, – тот же, что у королей и политиков некогда создававших и пересоздававших Францию. Освободившись от партий, он пойдет прямо к народу, к массе, к миллионам французов, у которых нужд больше, чем мнений, которые просто мечтают о внутреннем и внешнем мире, и о мире религиозном. Он завоюет их преданность обеспечив им эти блага. В основу своего правления он положит народное довольство и будет строить на этом фундаменте. В покоренной и объединившейся массе потонут и расплывутся те сотни и тысячи, которые кинулись в гражданские распри под влиянием скорби и гнева, больше под влиянием минутной экзальтации, чем из принципа и по твердому убеждению, составленному заранее; таким образом, он лишит партии самой их сущности, их настоящей силы, и тогда ему придется иметь дело только с вождями без войск, или с отдельными смутьянами. И этих он будет бить, бить беспощадно. Выбрав из всех партий людей, могущих быть полезными государству, он объявит забвение, признает прошлое несуществующим, велит французам прощать друг другу и отучить их ненавидеть; широким размахом губки сразу сотрет десять лет преступлений и ужасов, десять лет взаимных обид. На модном тогда мифологическом языке это называлось: дать Франции напиться воды из Леты! Призвав к себе представителей самых противоположных взглядов, он поставит объединяющим центром сильное и справедливое правительство, достаточно “искреннее, достаточно, славное для того, чтобы при нем могли примириться между собою все благонамеренные французы, чтоб им жилось привольно при этом величавом и щедром режиме.
Он писал депутату Бейтсу, одному из протестовавших в Сен-Клу: “Ни один здравомыслящий человек не может думать, что мир, которого все еще требует Европа, может быть результатом деятельности фракций и ее неизбежного последствия – дезорганизации. Примкните к массе народа. Простое звание французского гражданина уж, конечно, стоит титула роялиста, якобинца, фельянтинца и тысячи других имен, порожденных духом факций, уж десять лет толкающих нацию в пропасть, откуда пора, наконец, извлечь ее раз навсегда. К этой-то цели и будут направлены все мои усилия. Ей и только ей принадлежит отныне уважение мыслящих людей, уважение народа и слава.[710 - Переписка Наполеона”, т. VI.]
Эту спасительную программу Бонапарт в то время уже мог начертать, но тогда он еще не имел власти осуществить ее. Он может рекомендовать примирение, но заставить примириться у него нет средств; для этого он недостаточно уверен в массе нации, которую он решил сделать своей точкой опоры и великим центром поглощения; он еще не чувствует, чтоб Франция всецело была в его руках. Он хочет, по крайней мере, не дать этой массе, в общем расположенной к нему, но непостоянной и изменчивой, пойти иным путем, чем тот, какой он ей предназначил, и вернуться к чистой реакции. Активных роялистов меньшинство, но это меньшинство воплощает в себе партийную ненависть, и при столкновении с ним, его экзальтация и фанатизм могут передаться населению. Тогда Франция попадет из одной крайности в другую: вместо того, чтоб укрепляться и насаждать порядок, она только переменит источник зол. Повторится натиск реакции, которая перед фрюктидором едва не отодвинула Францию далеко назад. Может снова повториться насилие, залившие кровью торжество термидорцев, лионские жестокости, сентябрьские зверства Прованса, ибо у белого Юга, как и у красного Парижа, были свои сентябристы. Порожденные революцией интересы уже затронуты; может произойти общее смятение. Все, у кого с революцией связано их будущее, дела, карьера, страсти или слава – покупщики национальных имуществ, политики, философы, военные – отпадут от перебежчика Бонапарта и пойдут искать спасения в другом месте. Если он отпустит от себя этих людей, из которых лучшие помогали его возвышению, если он оторвется от этой базы, настроение масс еще недостаточно прочно для того, чтобы поддержать его и нести его дальше, и он вынужден будет отдаться в руки партии, которая видит в нем лишь временное орудие – стать пленником реакции.
Без сомнения, он и сам чувствует необходимость вызвать реакцию там, где она законна и неизбежна, но эта реакция должна быть направлена в его пользу; он вызовет ее, когда сам найдет нужным и своевременным, и с тем, чтобы в его власти всегда было остановить ее, удержать в известных границах. Если предоставить ее собственной участи и самому отдаться течению, она потом опрокинет его, умчит и бросит разбитым к ногам претендента. Итак, он останется на стороне революции, но при этом усиливаясь внести в нее примирение и великодушие. В его правительство будет открыт доступ и справа, и слева, но главным образом слева. Прежде, чем добиться слияния всех французов, он объединит революционеров на почве республики, исполненной приветливости и сердечности. Умеряя их страсти, сдерживая их эксклюзивизм, он долго еще будет льстить их предрассудкам, их маниям, их поклонению кумирам, а главное – объявит неприкосновенными их интересы и их имущества. Отныне лозунгом временного консульства, всюду известным и везде повторяемым, как в Париже, так и в провинции, будет: “Не надо реакции”.
В Париже реакция проявлялась по-парижски, т. е. в водевилях и песнях. Все политические кризисы в то время находили отклик на театре, в пьесах на случай, сшитых на живую нитку, скоро приедавшихся, эфемерных, интересных лишь тем, что они были написаны на злобу дня. Брюмерские события вызвали к жизни целую такую литературу. Уже 21-го в скромном театре Молодых Артистов дан был сигнал представлением маленькой пьески “bluette”, озаглавленной “Первый луч солнца”. А 22-го в комической опере, или в итальянском театре, весьма усердно посещаемом, поставили Les Mariniers de Saint Cloud, шутливый апофеоз “дня избавления”.[711 - Moniteur, 3 фримера.] Пьеса имела необычайный успех; в ней травилась и лесть, в изобилии расточаемая Бонапарту, и меткие словечки по адресу изгнанных депутатов, “шарлатанов, интриганов, разбойников; тиранов”, против их секты и клики.[712 - “Napolеon et les thе?tres populaires”, Maurice Albert; Revue des Deux Mondes, 15-го июня 1902 г. – Henry Lecomte “Napolеon et l'empire, racontеs par le thе?tre”, 48–53.] Шумное одобрение публики разрослось в целую контрреволюционную манифестацию. Толчок был дан, все театры стали готовить к постановке антиякобинские, антипарламентские пьесы.
Консульское правительство не замедлило обратить на это внимание и вмешаться, так как народные страсти следовало обуздывать. Фуше начал с очень легких мер. Так как было установлено, что новое правительство, прежде всего, будет терпеливым и либеральным. Вместо того, чтобы запретить пьесу, он сделал попытку убедить администрацию Комической Оперы добровольно снять ее с репертуара, принеся в жертву крупный барыш на алтарь согласия. Он написал директорам письмо, где высказывает очень возвышенные и справедливые мысли по поводу одного экспромта: “Когда все страсти должны смолкнуть перед законом, когда мы готовы принести в жертву желанию внутреннего мира всю нашу жажду мести за обиды, когда и народ, и его правители энергично выражают свою волю в этом направлении и сами подают трогательный пример незлопамятности, никому не дозволено идти наперекор этому желанию. Вы покоритесь ему, граждане. Я достаточно высокого мнения о вашем патриотизме, и убежден, что вы, не дожидаясь моего приказа, пожертвуете вашей пьесой в интересах общественного спокойствия”.
В то же время центральному[713 - Газеты за 24-е.] бюро полиции поручено было следить за театрами, заблаговременно знакомиться с содержанием пьес, “не допускать на сцене ничего, что может совращать умы, питать ненависть, длить тягостные воспоминани.[714 - Национальный архив А. Р., IV, 1329.]
Администраторы Комической Оперы не вняли увещаниям министра. Вместо того, чтобы снять пьесу с репертуара, они только прислали ее в главное бюро с предложением сделать в ней несколько купюр. Полиция пошла на этот компромисс и создала себе массу работы, так как теперь на одобрение ее стало поступать множество рукописей, водевилей, комедий, сатир, большая часть этих пьес очень резко и ярко отражала настроение умов; в одной, Le Rеprеsentant postiche, был выведен на сцене депутат “совершеннейшим болваном”; в других выведены бывшие советы и директория под видом комических, или гнусных персонажей; якобинцы выводились под очень прозрачными омонимами: разбойника, стилета, сокрушителя и пр.[715 - Aulard, “Le Lendemain du 18 Brumaire”, 226–227.] Центральное бюро сокращало, вымарывало, вычеркивало, но все же пропустило достаточное количество пьес для того, чтобы программа театральных представлений на 28-брюмера могла быть составлена следующим образом; у Итальянцев Унтера в Сен-Клу; в театре Трубадуров; Ловля якобинцев, или день в Сен-Клу; в Водевиле: Флюгер Сен-Клу; в театре Национальных Побед: Девятнадцатое брюмера, или день в Сен-Клу; в театре Мольера: День в Сен-Клу, или не сбывшиеся ожидания. В урезанных цензурою пьесах публика все-таки искала намеков и находила их, и тогда поднималась буря аплодисментов и криков и мстительных свистков; публика рада была отвести душу, осыпав оскорблениями побежденных, этих смешных и гнусных тиранов, вышедших из подонков общества и заставивших Францию столько страдать; а якобинцы получая удары, в свою очередь, ревели и неистовствовали, как могли.
Из театров и запертых помещений реакция перешла на улицу, проявляясь в тысяче форм. В витринах эстампных магазинов появился целый цветник карикатур, раскрашенных картинок, на которых депутаты фигурировали в самом плачевном виде; на одной народ был изображен в виде бедняка-носильщика, который вздохнул свободно, сбросив с плеч своих к ногам тяжелую ношу: груду красных лохмотьев, связку парламентских тог; внизу подпись: “Семьсот пятьдесят это слишком”.[716 - Коллекция Фредерика Масона.] А что это за афиша на стенах? Прощание Отца Дюшена с французами, предлагаемое завещание разбитого и обращенного в бегство якобинства. На перекрестках бродячие певцы во все горло распевали якобинскую песенку “Фанфары Сен-Клу”, другие расхаживали по улицам, распевая куплеты в том же духе, или жалобу бедного депутата, выброшенного в окно.
Мелкая печать также пестрит издевательствами по адресу законников и плачевного бегства их через лес; на них сыплются и шуточки, и грубые обиды; одна газетка уверяет, будто один из депутатов на бегу выронил из кармана бумагу, кем-то подобранную и заключающую в себе целую программу народного образования, где детям рекомендовалось внушать следующие добродетели: “невежество, воровство, бесчестье, неуклонное соблюдение закона о праве сильного”.[717 - L'Aristargue, 3 фримера. – Отчет о деятельности центрального бюро за фример. Национальный архив, AF, IV, 1329.] Насмешки сыплются со всех сторон, беглецов хлещут язвительными словами, провожают их галопаду адским шиканьем и свистом.
Явные роялисты не скрывали больше своих замыслов и надежд, превознося Бонапарта; в то же время они упорно смотрели на него, как на переходную ступень к более прочному и окончательному строю, называли его “Королевским мостом” (Pont Royal).[718 - Архив Шантильи. Переписка агентов Конде, 2 января 1800 г.] Их газеты, весьма многочисленные, пользовались “давнишней усталостью народа и накопившейся в нем ненавистью к людям, предписывающим законы”,[719 - Moniteur, 3 фримера.] чтобы дискредитировать самую идею народного представительства: лучше уж одна концентрированная власть, иными словами, король. Парижские католики требовали возвращения еще церквей, кроме тех, которыми скупо наделил их умирающий конвент. В Notre-Dame конституционный епископ Ройе с кафедры назвал 18-е брюмера началом религиозной реставрации. Торговцы опять стали открывать лавки в десятый день и закрывать их по воскресеньям, на свой лад протестуя против нетерпимости наизнанку, переменившей день обязательного отдыха. В городе циркулировали брошюрки и слухи о скором возвращении к старым порядкам, об отмене новой системы мер и весов, республиканского календаря, республиканских празднеств и декад, народ тешил себя надеждой, что вместе с тем будет отменен и сугубо ненавистный налог на съестные припасы. Случалось, народ силою препятствовал исполнению закона. Бывали и уличные беспорядки: перед монастырем св. Бенедикта взбунтовавшаяся толпа вырвала из рук стражи эмигранта, контрабандой вернувшегося в столицу; при этом чуть не убили полицейского офицера и порядком помяли нескольких нижних чинов.[720 - Ami des Lois, 29 брюмера.]
Напрасно твердили официозные газеты, что реакции не будет; она казалась неизбежной многим, вначале примкнувшим к консульским начинаниям, и тем, кто был другим еще накануне, и тем, кто смирился на другой день после переворота. Дело в том, что за парижскими манифестантами и театральными буянами им виделись более опасные враги: возвратившиеся на родину эмигранты, готовые выйти из своих потайных убежищ, священники, занимавшиеся политической пропагандой, и, еще дальше, неугасавший мятеж на западе, союзы Жиронды и Шаранты, провансальские банды, вооруженная и свирепая контрреволюция, которая никогда не отказывалась от борьбы и теперь легко могла поднять голову. 27-го брюмера главный якобинский орган, бывшая Газета свободных людей, возвысила голос, чтобы обличить “элементы смертоносной реакции”, приводя целый ряд действительных или выдуманных актов насилия, совершенных в провинции над республиканцами, и много дней подряд наполняла свои столбцы ужасающей хроникой происшествий. Даже очень враждебные якобинству газеты высказывали опасение, как бы опять не набрали силу “якобинцы реакции”.[721 - Ami des Lois, 26 брюмера.]
К этим тревогам печати присоединились и тревоги в парламенте, т. е. комиссиях, составлявших продолжение советов. Отчет о заседании комиссии пятисот 26-го брюмера гласит: “Многие члены комиссии выражают неудовольствие по поводу сатир и язвительных острот, содержащихся в театральных пьесах, написанных на злобу дня. 18-е брюмера. Постановлено: двум членам инспекции отправиться к министру полиции с предложением запретить представление пьес, нарушающих предписываемое законом уважение к народному представительству.[722 - Moniteur, 28 брюмера.]
Не дождавшись этого запроса, консулы сами высказались, и очень ясно, устами авторитетного уполномоченного. Еще накануне, в комиссии, Кабанис, любивший выступать в качестве оратора и брать под свою защиту правительство, торжественно отрекся, от имени консулов и их друзей, от всякой идеи о реакции. Он напомнил, что coup d'etat 18-го брюмера был делом рук умеренных. Сам, будучи одним из ее корифеев, с несколько наивным самодовольством поздравляет эту партию с тем, что на этот один-единственный раз она сумела проявить инициативу и энергию, словно забыв, что барабаны и штыки, что решительность Мюрата и Леклерка очень кстати поддержали ослабевающую отвагу умеренности. “Вы доказали им, – т. е. факциям и фанатикам всех лагерей, – что умеренные умеют дерзать, когда это нужно; теперь вы покажете им, какова должна быть энергия умеренности после победы”.[723 - Moniteur, 28 брюмера.]
Правительство не ограничилось этим манифестом, оно присоединило к слову дело. Относительно театров были, наконец, приняты радикальные меры: запрещение всех пьес, “заглавием своим сколько-нибудь напоминающих о брюмерских событиях”, и приказ представить на рассмотрение администрации все пьесы, “имеющие отношение к революции, в какое бы время они ни были поставлены”.[724 - Национальный архив. AF. IV, 1329.] Полиция заставила убрать из витрин карикатуры на депутатов; в донесении центрального бюро о его деятельности говорится даже: “Воспрещено певцам петь и продавать на улицах и в общественных местах песни, имеющие отношение к брюмерским событиям и оскорбительные для народного представительства”.[725 - Ibid.] Предписано было молчать о “переезде на другую квартиру (dеmеnagement) пятисот” и сценах в оранжерее.[726 - По выражению газеты Aristarque, 3 фримера.] Казалось, консульство хотело во что бы то ни стало омыть себя от первородного греха и заставить республиканцев, дорожащих формами, забыть, что оно возвысилось при помощи насилия; впервые правительство на глазах у всех отрекалось от своего происхождения и запрещало говорить о нем.
Против реакционных сборищ генерал Лефевр выпустил дорогую прокламацию, предписывая войскам разгонять такие сборища силой, предварительно предложив разойтись честным гражданам и любопытным. Слишком рьяным проповедникам[727 - Moniteur, 3 фримера.] были cделаны выговоры; епископ Ройе призван к умеренности. Расклеенные по городу афиши доводили до сведения жителей, что все республиканские законы по-прежнему остаются в силе, и распространители противоположных слухов будут преследуемы судом. Наконец, чтобы доказать, что правительство продолжает держаться левой и не ищет виновных среди республиканцев, консулы отменили свой приговор пятидесяти девяти якобинцам, заменив ссылку простым арестом. Поводом к отмене послужил рапорт Камбасерэса, составленный по приказанию Бонапарта и убеждавший предать забвению мимолетные заблуждения. “Дело суда, – сказал консул, – поправлять глупости, которые творит полиция”.[728 - Cambacеres, “Eclaircissements inеdits”.] Тем не менее, оказывалось, что Фуше ловко вел свою игру: он разогнал опасения Сийэса, составив список подлежащих ссылке, и в то же время, преувеличив принятые меры, дал повод Бонапарту отменить их и провести политику республиканского согласия.
Все указы, направленные к тому, чтобы затормозить реакционное движение, были обнародованы почти одновременно, между 30 брюмера и 6 фримера; это было сделано с целью сильнее подействовать на парижан. В то же время раздалось и правительственное слово, обращенное ко всей стране; министры внутренних дел и полиция разослали каждый своим подчиненным и обнародовали циркуляр, гарантирующий от возвращения эмигрантов и преобладания какого бы то ни было культа.
В официальном языке двух министров однако чувствуется разница. Лаплас стоит на почве философской непреклонности; он ополчается против религий: “Не упускайте ни одного случая доказать вашим согражданам, что суеверие не больше роялизма выиграет от перемен, происшедших 18-го брюмера”. Фуше, более гибкий, лучший политик, вкладывает в свою официальную прозу смесь твердости и умилительного благодушия; он объявляет эмигрантам, что Франция навсегда отторгла их от своего лона, но при этом желает им найти “если они могут, покой и мир вдали от родины, которую они хотели поработить и погубить”. Он говорит также: “Да будет ведомо тем, кто еще верит в химеру восстановления королевской власти во Франции, что республика ныне упрочена. Пусть фанатики оставят надежду добиться господства не знающего терпимости культа; правительство равно покровительствует всем исповеданиям, не поощряя ни одного из них в особенности”. Эти слова, сулящие жестоко гонимому католицизму мир и, наравне со всеми, защиту закона, были произнесены известным осквернителем церквей, страшным иконоборцем 1793 года. Но Фуше умел всегда быть на высоте положения; он, со своим тонким чутьем, первый проникся новыми веяниями, исходившим от правительства духом умеренности.
Уже 29 брюмера консулы решили войти в непосредственные сношения с департаментами. Закон 19-го брюмера предоставлял им право посылать делегатов в провинцию; они назначили двадцать четыре таких уполномоченных, по одному на каждую военную дивизию. Эти missi dominici получили инструкцию в форме постановления консулов, с приложением объяснительной заметки.[729 - Это постановление имеется в “Переписке Наполеона”, т. VI; объяснительная заметка приведена Aulard'oм в “Le Lendemain du 18 Brumaire”, 240–241.] Они посылались для того, чтобы представить брюмерские события в истинном свете, истолковав их в смысле торжества умеренности. Они могли в случае надобности увольнять очень уж гнусных чиновников и закрывать клубы, но этой властью им рекомендовалось пользоваться весьма осмотрительно, преимущественно же исследовать и изучать настроение общества, настроение администрации. В особенности же им предписывалось убеждать всех выкинуть из памяти названия и оскорбительные прозвища партий, лично подавая пример сдержанностью и кротостью в речах, гасить ненависть, трудиться на пользу упрочения республики, путем примирения, избегать всякого столкновения с военными властями и по возможности действовать заодно с ними, “не ездить в департаменты, где все спокойно и гладко идет”.
Избранные делегаты были старые конвенционалисты и депутаты, примкнувшие к брюмерцам, хотя довольно различных тенденций; в списке фигурируют Маллармэ, Фабр де л'Од, Барре, Шоссе, Лекуант-Пюираво, Крошон, Жар-Панвилье. Сийэс брал только людей с настоящим революционным прошлым. В “Бюллетене роялиста” от 20 ноября было опубликовано, что Шазал предложил клишинца,[730 - Clichien – роялистская партия, образовавшаяся во Франции после 9-го термидора и разбитая 18 фрюктидора, получила свое название от сада Клиши, где в первое время собирались ее члены.] творившего на своем веку всевозможные гнусности, он был принят, но затем позорно вычеркнут из списка, по настоянию Сийэса. Всем предписывалось держать себя скромно, действовать без шума, без помпы, чтобы ничем не напоминать оставивших по себе такую страшную память делегатов Конвента. Да и недостаток в деньгах вынуждал стоять за простоту. На путевые расходы делегатов было выдано всего сто тысяч франков на всех. Некоторые, взяли почтовых лошадей; другие храбро отправились: на перекладных, в дилижансе[731 - Le Publiciste, 6-го фримера.] – скромность, приличествовавшая представителям власти, которая выставляла себя не столько укротительницей партий, сколько общей миротворицей трудолюбивого, практического правительства, казалось, желавшего занять положение мирового судьи для всех французов.
В некоторых местностях консульским легатам предстояла довольно трудная задача, ибо брожение, обнаружившееся в городах, теперь перешло в деревни в виде агитации почти антиобщественной. Повсюду разнесся зажигательный слух, что ни одна из общественных повинностей не переживет нападения директории. Раз Бонапарт, этот маг и чародей, прогнал директоров, все напасти должны прекратиться: не будет больше ни налогов, ни обложения в пользу: армии, ни реквизиций, ни конскрипций; и народ волновался, когда представители власти напоминали ему, что законы еще существуют и что нужно их исполнять. В самых различных пунктах, в Луарэ, Уазе, Франш-Конте, в северном районе, обнаруживались симптомы анархии среди крестьянского населения, и власти объясняли это происками реакционеров.[732 - Военный архив, общая переписка; донесения из Орлеана и Амьена от 23 и 24 брюмера. – Roederer, VI, 394.] Из Бельгии крестьяне департамента Двух Нэт отпирали церкви, отказывались платить заставные пошлины и нападали на сборщиков. В Брюгге “пришлось дважды официально опровергать слух о прекращении уплаты податей”.[733 - Louzac de laborie” la Domination fran?aise en Belgigue”, I, 307.] Даже у ворот Парижа (были округа, отказавшиеся платить налоги; в Пьерфитте все дела пришли в расстройство. “Народ, уверенный злонамеренными людьми, будто Бонапарт отменил все налоги, отказывается платить положенную дань…”.[734 - Schmidt, “Tableaux de la Rеvolution”, III, 474.] В других местах крестьяне ополчились против сбора на содержание в исправности дорог и поколотили сборщиков.[735 - Moniteur, 3 фримера.] Крестьянам трудно было поверить, чтобы гибель правительства насилия и гнета не была равносильна упразднению вообще всякого правительства. В торжестве Бонапарта они видели не столько наступление эры преобразований, сколько падение тирании, и праздновали это радостное событие грубыми возлияниями, забавами спущенных с цепи рабов. Факт странный, а между тем неоспоримый: появление великого водворителя порядка, которого считают, прежде всего, освободителем французов, пребывавших в рабстве у революционной факции, вызвало прежде всего усиленные беспорядки.
ГЛАВА XI. ФРАНЦИЯ ПРИ ВРЕМЕННОМ КОНСУЛЬСТВЕ
ПАРИЖ
Реакционное брожение стихает. – Осторожность Бонапарта. – Париж таков, каким его сделала революция. – Контрасты. – Общая запущенность. – Памятники и учреждения. – Улица. – Паразитные отрасли промышленности. – День парижан. – Бомонд. – Безумная жажда наслаждений. – Влияние Бонапарта на моды. – Спокойные обеды. – Салоны. – Театр. – Улицы небезопасны. – Проституция. – Опасные элементы. – Армия контрабандистов. – Грабеж в Пале-Рояле. – Разговор Бонапарта Редерера и Вольнэя за завтраком. – Либерализм и лояльность полиции. – Газеты. – Воскресение Газеты Свободных Людей. – Политика Фуше; революционная защита. – Неуверенность и колебания в настроении парижского общества. – Как Бонапарт завоевал Париж.
I
В общем, консульство лучше принимали, чем слушали, охотнее рукоплескали, чем повиновались ему. Однако в Париже буйства реакционеров прекратились довольно скоро, так как население оставалось неспособным к сильному длительному подъему. Спокойствие, по крайней мере внешнее, было восстановлено; что же теперь предпримет Бонапарт? Примется, ли он муштровать Париж, начнет ли преобразование Франции с придания приличного и благоустроенного вида ее столице? В этом отношении работы предстояла масса, так как даже наиболее враждебные революции классы населения, сталкиваясь с ней, заимствовали от нее привычки разнузданности; наряду с анархистами по убеждению, сколькие сделались “анархистами по привычке”.[736 - Mallet du Pan “la Rеvolution fran?aise vue de l'еtranger”, p. 538.] В результате получилось общее расслабление, небрежность, распущенность. Этот хаос оскорблял Бонапарта, претил его инстинкту порядка, его прирожденной страсти к систематичности. Но он понимал, что если он поспешит, круто обойдется с парижанами, слишком рано начнет муштровать их, они могут и заупрямиться. Нет, он лишь постепенно, очень постепенно даст им почувствовать свою власть. Не злоупотребляя, даже не пользуясь правами и полномочиями, унаследованными им от прежних правительств, он дает Парижу иллюзию свободы и едва решается чуть-чуть подтянуть вожжи.
Странный какой то, нескладный этот Париж первых недель консульства, Париж переходной эпохи, где старое общество робко-робко пытается поднять голову, а рядом кипит и бурлит другое, только что народившееся общество, живущее чисто внешней жизнью. Внешний вид города – какой-то сумбур, причудливая амальгама безобразия и красоты, молодые побеги, пробивающиеся сквозь развалины. Прибывающий в Париж иностранец, осмелившийся вернуться изгнанник, которому с чужих слов мерещатся все ужасы террора, ожидает найти Париж в крови и развалинах, увидеть страшную печать террора, “кровь, отрубленные головы”; но если он заговорит об этом, ему отвечают: “О, это уже старо!”[737 - Архив Шантильи, письмо от 1-го дополнительного дня VIII года.]
Если он приехал с запада, он, прежде всего, видит Елисейские Поля, более прежнего оживленные, хотя еще сохранившие вид дубравы. Вообще, с западной стороны столица удивительно красива. Директории угодно было обратить площадь Согласия, кровавую площадь революции, ныне окруженную вновь отстроенными зданиями и зеленеющими садами, в величественное преддверие столицы. “Мост, Тюльери, Елисейские Поля, набережные, дворец Бурбонов, – все это вместе составляет замечательный ансамбль”.[738 - “Lettres de Charles de constant”, стр. 26.] Влево от Елисейских Полей, за предместьями Оноре и Рул, вырастает новый город, светлый, роскошный: кварталы Анжу, Шоссе-д'Антэн, Роше, кварталы, поднимающиеся в гору к Поршеронам и Монмартру; город разбогатевших людей, поставщиков, генералов, набивших карманы в Италии, артистов и комедианток. Там любят селиться все те, кого выдвинула революция, кого она вывела в люди; в своих красивых отелях с греческим фронтоном и колоннадами, в обстановке, которая уже начинает приближаться к строгому античному стилю, среди красного дерева, золота, фресок, коринфской резьбы и гармонии полосатых тканей с нежными тонами фона, они довольно неуклюже учатся быть изящными.
За бульваром тянется опять старый город, но весь взбудораженный, перевернутый вверх дном. И королевский Париж, раскинувшийся по обоим берегам реки, был полон контрастов роскоши и нищеты; теперь контрасты еще сильней бьют в глаза, так как революция только переместила роскошь и усилила нищету. Отдельные места стали красивее. Чище прежнего “содержится Тюльери с его мраморными амфитеатрами, квадратами зелени и целым войском статуй. Противоположный саду фасад дворца, выходящий на Карусель, ободранный пулями 10-го августа, таким и остался; нижняя часть его исчезает под густой растительностью – республика стыдливо прикрывает зеленью жилище королей. Хорош Ботанический сад на другом конце города, обогатившийся новыми растениями и музеем, созданный похвальным усилием революции, с целью организовать науку. Но от Люксембурга, его цветников, его тенистых кущ остались одни руины; эспланада Инвалидов вся в ямах и рытвинах; сад Пале-Рояля до такой степени опустошен, что его пришлось закрыть на несколько месяцев для того, чтобы привести в порядок. Памятники, даже и те, что присвоила себе революция, ограблены, расшатаны и ежеминутно грозят рухнуть. Ограблены, осквернены бесчисленные церкви и могущественные аббатства, хранилища богатств и сокровищ искусства, их шпицы сломаны, статуи вывезены, гробницы опустошены. Часть церквей, именуемых храмами, служат в известные часы для отправления культа декады; а остальное время здесь уживаются, хотя и не мирно, другие культы – католический, конституционный, теофилантропический, соперничающие и взаимно ненавистные друг другу.
Даже и эти церкви ограблены, лишены своих сокровищ, и Музей французских памятников на набережной Августинцев мог только подобрать обломки колоссального крушения. Зато Лувр наполняется сокровищами, награбленными в Италии; оттуда то и дело прибывают чудеса, шедевры – Аполлон Бельведерский, Венера Капитолийская, Лаокоон, еще не совсем раскупоренные, едва выглядывающие из залитых гипсом ящиков, куда их уложили на дорогу. Бронзовая квадрига,[739 - Двухколесная греческая колесница, запряженная четверкой лошадей.] приписываемая резцу Фидия и похищенная из Венеции, пока стоит в саду Инфанты; ее хотят перевезти на площадь Побед и впрячь четверку в триумфальную колесницу.
На площадях стоят осиротевшие пьедесталы без статуй; аллегории из дерева и гипса, обломки революционных апофеозов, осыпающихся под дождем. На площади Побед, на Вандомской, на Королевской площадях и в прилегающих к ним кварталах фасады старинных, величественных зданий обезображены кричащими вывесками, нарушающими гармонию линий и симметрию. Жилища знати, аристократические отели Сен-Жерменского предместья, отели богачей в Марэ, за исключением тех, которые спасли капиталисты, забрав их себе, превращены в увеселительные заведения, в аукционные залы, в агентства, попали в руки парижских спекулянтов, шарлатанов, сводней. Все не на месте; биржа – в церкви Батюшек (Petitsp?res), общественный зал – зал Зефиров – на кладбище близ церкви Св. Сюльпиция. Попадаются курьезнейшие учреждения, невозможное сочетание имен. На улице Антуана открыли приют для жертв государственных банкротств, убежище для рантье.
Госпитали, отданные под покровительство мирских добродетелей, сидят без денег, и однако дивный институт Валентина Гаюи[740 - Valentin Ha?y, брат знаменитого минералога, создателя кристаллографии – основатель приюта для слепых детей; ему первому пришла идея выпуклой азбуки для слепых (1745–1822).] существует; детище аббата Сикара[741 - Sicard (аббат) – знаменитый наставник глухонемых (1742–1822).] пережило изгнание своего автора; в Божоне иностранец дивится успехам благотворительности, умело пользующейся всеми ресурсами, предоставляемыми ей наукой, – благотворительности, созданной порывом гуманности и тем толчком к великодушной помощи ближнему, который революция в первое время давала умам.[742 - Charles de Constant, 67.]
Но кварталы, где обитали духовное сословие и церковная благотворительность, линия монастырей, примыкавшая к террасе Фельянтинцев, город духовенства, ютившийся под сенью собора Парижской Богоматери, Сорбонна и ее коллегии, очаги церковной учености и обширные монастырские обширные земли за уцелевшими кварталами левого берега, – все это отдано в жертву спекуляции, ломке, военным поставкам, скороспелой и нечистой наживе или же просто пошло под клоаки и свалки мусора; целые кварталы преобразились в сплошные магазины торговцев старым тряпьем и всевозможными отбросами.
Останемся в центре. Под осенним небом, черным, как сажа, скверно вымощенные улицы, лишенные тротуаров, изборожденные посередине зловонными ручьями, извиваются между домов с грязно-желтыми фасадами, с неровными крышами, причудливой архитектуры. На обезображенных площадях еще виднеются на облезших древках красные фригийские колпаки, деревья свободы, увешанные трехцветными лохмотьями; на каждом углу переправленные или сокращенные надписи с урезанными именами святых; нижние этажи домов все сплошь заклеены афишами, так как каждому предоставляется право расклеивать что ему только угодно; граждане-соседи вывешивают на стенах плакаты, наполненные грубой руганью; афиши позорят памятники и пачкают фонтаны. На шоссе вы теперь мало увидите красивых и опрятных экипажей и совсем не видно карет с гербами, зато имеются 1162 извозчичьих фиакра, с нередко проставленными мелом номерами и женщинами на козлах; на улицах Майль и Дени по целым дням стоят ломовые телеги, загромождая проезд; 2 690 кабриолетов во весь опор мчатся по городу, давя, пугая; опрокидывая в своей безумной скачке прохожих; в газетах стон стоит от жалоб на эти “смертоносные орудия”.[743 - Ami des Lois, 13 фримера.] По тротуарам торопливо шагают с озабоченным видом деловые люди, мелкими шажками бегут парижанки – но сколько среди них жалких и темных личностей, рантье без ренты, рабочих без работы, чиновников без жалованья, подозрительных субъектов, вечно боящихся, что за ними следят, и пугливо оглядывающихся назад. А рядом, наоборот, бесстыдство в осанке и манерах: хорошо одетая женщина, подобравшая платье до колен, “молодая женщина в мужском костюме”;[744 - Charles de Constant, стр. 32.] покойник в гробу, которого тащат, словно какой-нибудь тюк, без всякой помпы и даже благопристойности. Старые моды сталкиваются с новыми; одни ходят в напудренных волосах с косичкой и надвинутой на глаза треуголке, другие стрижеными, прикрывая свою прическу а ла Кориолан широкополой фетровой шляпой. Рядом с господами в длинных сюртуках с пелериной, в бланжевых камзолах, или в голубых с белыми пуговицами, видишь людей в карманьоле. Военные, защитники отечества бегут за жалованьем, что не мешает им высоко нести свой общипанный плюмаж. Многие молодые люди вернулись с войны изувеченными: у того рука на перевязи, этот ходит на костылях. В этом необычайном смешении титулов и костюмов попадаются и воспоминания о колоссальном греко-римском карнавале, восемь лет странствовавшем по Парижу: на Королевском мосту в ужаснейшую погоду встречаешь “учеников художника Давида, одетых совершенно, как ученики Апеллеса, с обнаженной головой, с голыми ногами в котурнах, без всякой одежды, кроме двойной туники, падающей волнистыми складками”;[745 - Memorial de Norvins, II, 250.] прохожие любезно и насмешливо предлагают им зонтики.
На мостах, на площадях, на улицах – всюду передвижные выставки товаров, торговля под открытым небом, игры и лото, лотки и балаганы, загромождающие улицы, мешающие движению. Это изобилие паразитных видов промышленности, этот захват улицы – одна из характерных черт тогдашнего Парижа; она придает всему городу ярмарочный вид.
На Новом Мосту, на Гревской площади, на Луврской набережной, на бульваре Темпля – непрерывное представление фокусников, фигляров, шутов, акробатов, демонстраторов редкостей и странствующих певцов. Сколько здесь мелких ремесел, странных и безымянных товаров, какая выставка всевозможного лома, brit-a-brac'a, старого железа, старых книг и эстампов! Продавцы под полой плаща торгуют гравюрами с изображением бывшей королевской семьи, запрещенными уборами и эмблемами. Полиция гонит их, поощряет других. Вскоре прохожие толпятся перед картинкой, изображающей “первого консула Бонапарта повреди сектантов различных культов, призывающих их всех к взаимной терпимости”.[746 - Publiciste, 30 вантоза.]
Праздношатющиеся, гуляки, всякого рода, те, кто остался не у дел и кто выбит из колеи, собираются в известные часы дня там, где можно поесть. Революция, выбросившая на мостовую десятки тысяч людей, вырванных с корнями из родной почвы, была благодатью для содержателей ресторанов. Не говоря уже о королях вкусного стола, Мео, Бери, Роберте, Сэвре, Розе и их талантливых учениках, число трактирщиков, кабатчиков, торговцев лимонадом, винами и ликерами страшно возросло. Всюду видишь объявление: “Холодные завтраки”. В рестораны забираются с утра, так как жизнь начинается рано. Да многие парижане и весь день проводят в кафе, в нескончаемой болтовне; у каждой партии, у каждого кружка свое излюбленное кафе, из которого она делает нечто вроде клуба и читает там свои излюбленные газеты, хоть и не верит тому, что в них написано.
Даже и “свет”, бомонд, живет, в общем больше на улице, чем дома. Что представляет собою этот “свет”? Маркизов, пажей, мушкетеров и пр. заменила иного рода молодежь: поставщики, ажиотеры, прокурорские клерки.[747 - Charles de Constant, “Lettres”, 63.] Они катаются верхом или в фаэтонах, которыми сами правят, выставляют напоказ своих любовниц. Парк Монсо служит, главным образом, для утренних прогулок. Днем ездят в Булонский лес укреплять мышцы играми или гимнастикой на античный лад, ибо грекоманы вводят в моду атлетизм, как впоследствии его вводили в моду англоманы. Люди более возвышенных вкусов предпочитают зевать на конференциях, организованных Лицеем искусств, Республиканским Портиком, или же мечтают об открытии вновь концертов Общества Любителей на улице Клери. Под вечер наполняются все тридцать пять банков с разрешенными общественными играми и бесчисленные игорные притоны, где часы бегут незаметно среди лихорадочного возбуждения. На тусклом фоне приниженной буржуазии и честных людей, смутно мечтающих о более упорядоченном существовании, волнуется, блистает веселится, острит, изрекает приговоры и судит вкривь и вкось о чем угодно другое общество – выскочек и выброшенных за борт своим кругом; здесь ни признака мысли, ни тени заботы о будущем, о том, чтобы построить что-нибудь прочное. Дни, когда вся Франция спекулировала и безумно увлекалась биржевой игрой на ассигнации, миновали, но сколько еще людей проводят весь день на бирже или за игрою в кости, в погоне за скорой наживой, за минутным удовольствием, за удачей в деньгах или в любви.
На людных и торговых улицах с утра появляются женщины, пришедшие за покупками, с легоньким сетчатым мешочком, rеticule, y пояса. Магазины прихорашиваются на перебой, соблазняют заманчивыми витринами с роскошной резьбой. Процветают те лавки, где продаются модные безделки, перья, ленты, кружева и всякие балаболки. Женщины ищут здесь, чем расцветить, изукрасить свой туалет, не заботясь о главном, ибо они продолжают носить под своими мехами вместо платья “лишь краткое извлечение, и то насколько возможно прозрачное”,[748 - Архив Шантильи, письмо от 1-го дополнительного дня VIII года.] и рядятся в заморские ткани, в английские газы и кисеи. Старая французская промышленность, снабжавшая былую аристократию иного рода роскошными тканями, томится и чахнет без дела.
Однако вот уже несколько дней творится что-то странное. В улицах Бурбоннэ и Бутэ, где некогда процветала торговля, где прозябают некогда знаменитые фирмы, в давно заброшенных магазинах шелковых тканей появились покупательницы, да еще в таком множестве, что хвост стоит у дверей. И все это сделал анекдот с Бонапартом, которого мода еще раньше политики признала диктатором. Рассказывают, будто он однажды вечером в Люксембурге, находясь в обществе Жозефины и других дам, блиставших слишком уж афинским изяществом, заставлял лакея усиленно топить камин, набивать его углем, подкладывать еще и еще; ему заметили, что так можно наделать пожару, но он продолжал свое и, обернувшись, говорил: “Разве вы не видите, что эти дамы голые?”. Слух, что Бонапарт призывает моду к приличию, с задней мыслью оживить национальную промышленность, проник и в газеты; некоторые опровергают его, другие подтверждают; “и тотчас же наши дамы-патриотки ну заказывать платье, юбки, спенсеры, шали, душегреи на зиму, и все шелковое”.[749 - Journal des hommes Libres 13 фримера.]
Весь этот люд обедает между четырьмя и пятью. Из богачей со сравнительно устойчивыми средствами только банкиры и негоцианты, да и то частью иностранцы, “чьи космополитические гостиные пользуются большим влиянием”,[750 - Charles de Constant, “Lettres”, 19.] пытаются вернуться к традициям гостеприимства и пышных приемов, что, однако, не вполне им удается. “Не знаю, подлинно ли красиво обставленная комната, тонкий обед, изысканные туалеты, реверансы и каламбуры составляют хорошее общество”. Мужчины любят обедать в ресторанах; брюмерцы, депутаты и чиновники, участвовавшие в перевороте, чтобы не потерять связи между собой, сходятся всегда у ресторана Роза; там они в мечтах строят здание будущего правительства, раздают милости, привлекают, сплачивают сочувствующих, достигают общего замирения. До брюмера разница взглядов в обществе была так велика, что невозможно было усадить несколько человек за один и тот же стол, без того, чтобы, не зашла речь о политике, и беседа не перешла в “бестолковый и шумный спор”.[751 - Gazette de France, 19 вантоза.] Мерсье жалуется на это в своей “Новой Картине Парижа”. А теперь начинают отвыкать от споров “из-за мнений, и крик услышишь только в кабаках”.[752 - Ibid.]
Газеты отмечают мирный тон обедов, как одно из последствий лозунга, данного консульством.
Открылось несколько официальных салонов, где принимали в определенные дни. Особенно усердствовала в них г-жа де Сталь; “она вертелась, как волчок, вокруг выдающихся людей”.[753 - Lettres de madame Reinhard, 99.] Стремясь упрочить свое влияние, доставив видные места своим друзьям, она немало хлопотала и о несчастных, об эмигрантах, стараясь облегчить их участь, добиться освобождения, исключения из списка, и не давала покоя судьям. Открыла она и собственный салон, где составляли списки новых законодателей и проводили своих кандидатов.
Из представителей прежнего общества иные уже пытаются пробить себе дорогу в этом новом свете; другие держатся поодаль, довольные тем, что их не трогают. На улице Онорэ, в домике скромной наружности доживает жизнь нераскаянная вольтерьянка, принцесса де Бово. Она ни на один день не прекращала своих приемов. Живет она в небольшой квартирке, “меблированной остатками прежнего изящества”. “Покинув грязную лестницу, общую для всех жильцов, вы сразу чувствовали себя перенесенным в особый мир: все в этих маленьких комнатках носило отпечаток изысканности и благородства. Немногие слуги, которых вы видели там, были уже стары и немощны; но вы все время чувствовали, что и их мнение чего-нибудь да стоит: очень уж хорошее общество они видели на своем веку”.[754 - Vicomtesse de Noailles, “Vie de la princesse de Poix, nеe Beauvau”. (в продаже нет).] В этот укромный уголок заглядывали и политики, и философы, мнившие, что, бывая здесь, они “становятся похожими на людей старого режима”.[755 - Ibid.]
В пять часов открываются театры. Полиция не может добиться, чтоб они закрывались в установленный час – бульварные в девять, городские в половине десятого. Театр для всех сборный пункт, место встреч, манифестаций и беспутных наслаждений. В самый, разгар революции в prospectus'e одного театра было объявлено, ради привлечения публики, что все ложи будут снабжены кроватями. Актеры разыгрывают из себя важных особ, занимают весь Париж своими претензиями и ссорами, приняты во всех кругах общества. После 18-го брюмера артисты комической оперы сочли долгом послать Бонапарту поздравительный адрес. В больших театрах сценическая постановка очень тщательная, балеты и декорации великолепны, артисты выше тех произведений, которые им приходится воплощать на сцене. В области драматической литературы производство обильное, но весьма посредственного достоинства: холодные трагедии, плоские водевили или мрачные драмы. Публика продолжает держаться реакционных тенденций. Великие слова, которыми некогда упивалась Франция и которые в устах революционеров производили главным образом ораторский эффект – свобода, отечество, добродетель – теперь не трогают сердец.
В некоторых театрах ложи являются выставками ослепительных туалетов не столько женских нарядов, сколько костюмов – Геб, Флор, гречанок, одалисок; однажды вечером г-жа Талльен явилась в оперу в костюме Дианы-охотницы с колчаном за спиной, с тигровой шкурой через плечо, с бриллиантовым полумесяцем в волосах, одетая, главным образом, в драгоценности, блеснуть в последний раз своей торжествующей наготой.[756 - Norvins, II, 250–251.] Жозефина тоже не прочь блеснуть, но роскошью лучшего тона: “19-го фримера: вчера Бонапарт был в опере вместе с супругой, последняя была в белом атласном платье, а не в батистовом, без бриллиантов, но с большим количеством античных камней в кольцах и браслетах. Их ложа была полна очаровательных и нарядных женщин”.[757 - Le Diplomate, 19 фримера.] В других театрах публика в общем очень мало заботится о костюме. Лишь по прошествии двух месяцев полицейский надзор отмечает улучшение в этом смысле; в нивозе читаем полицейскую заметку в обычном претенциозном стиле: “замечено, что с некоторого времени наряды стали среди зрителей более обычным явлением. Масса, видимо, возвращается к навыкам и формам, составившим французам в Европе репутацию самого учтивого и любезнейшего из народов”.[758 - Schmidt, “Tableaux de la Rеvolution fran?aise”, III, 486.]
После восьми часов вечера ходить пешком рискованно. Зажженных фонарей тысячи, но очень многие скоро начинают мигать и гаснут; какие-то подозрительные фигуры крадутся во мраке, собираются на подозрительные сходки. Несчетное количество воров оперируют в одиночку или шайками, нападают на прохожих, проникают в дома, которые имели неосторожность оставить открытыми.