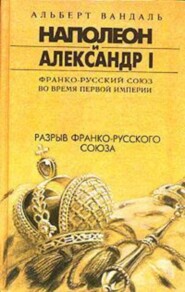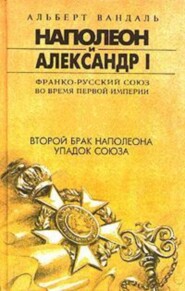По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Возвышение Бонапарта
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
“На возвышении, где помещался алтарь, поставлена будет статуя Марса, а перед статуей трибуна, с которой будут произносить надгробные речи и воинственные воззвания”.
“…Элизиум воинов будет школой побед”. Вслед за этим высокопарным докладом идет рубрика: Министерство общей полиции. Фуше вносит гуманитарную ноту, в нескольких строках поздравляя центральное бюро с введением в тюрьмах более мягкого режима. Фуше объявляет, что он приказал представить себе подробный и точный список заключенных, в видах освобождения произвольно арестованных и скорейшего восстановления справедливости.
Этим сообщением Фуше заканчивается ряд официальных приказов. Ниже, под рубрикой “Париж”, ряд кратких сообщений, начинающихся каждое с красной строки – все новости дня. Одна из них имеет крупное общественное значение. Не прошло и сорока восьми часов с водворения консулов, как они уже разрешили вернуться тридцати восьми сосланным в фрюктидоре депутатам, с отдачей их под надзор. Они возвращены отечеству и семье, эти люди, “из которых все почти могут быть причислены к гражданам, наиболее выдающимся своей образованность и нравственностью:[880 - Письмо г-жи Делессер от 9 января 1800 г., сообщено Жоржем Бертэном.] Карно, организатор победы, Бартелеми, Барбэ-Марбуа, Лафон-Ладеба, Пасторе, Катрмер де Кэнси и другие. Надо, впрочем, отметить, что Бонапарт, чтобы доказать свое беспристрастие, этим же самым постановлением вернул, с отдачей под надзор полиции, двух депутатов крайней левой, гнусных террористов Барера и Вадье.
А вот и слова ободрения для наших армий, которые страждут, ожидая от правительства облегчения. “Уже приняты самые энергичные меры к улучшению их бедственного положения и каждый день принимаются новые. Независимо от уже высланных крупных сумм и тех, которые будут выданы армиям департаментами, на этот предмет ассигнован и на днях отправлен из Парижа еще миллион”. Наконец, в рубрике: Разные разности, перед статейкой “О женщинах, их нравственных качествах и положении их у различных народов и при различных формах правления”, перед перечнем новых книг, курсом биржевых ценностей и программой зрелищ, находим еще коротенькую заметку, очевидно, продиктованную Бонапартом; это категорическое опровержение сообщения другой газеты, Друга законов (L'Ami des lois № 1585), о том, будто бы первый консул Бонапарт приказал устроить праздник, который обойдется в двести тысяч франков. – Это неправда. Первый консул Бонапарт знает, что двести тысяч франков составляют шестимесячное жалованье полубригады.
И до того, и в последующие дни, мы видим лишь меры справедливости, направленные к славе Франции, бодрящие, отрадные меры: учреждение почетного оружия для награждения офицеров, отличившихся на службе республике, – .прокламация первого консула к французским солдатам: “Солдаты! когда настанет время, я буду посреди вас, и Европа вспомнит, что вы из породы храбрых”; – прокламация к итальянской армии: “Первые добродетели солдата – стойкость и дисциплина, мужество идет уже после них. Солдаты! несколько отдельных частей оставили свои позиции, не вняв голосу своих офицеров. 17-я легкая бригада из их числа. Неужели же они все умерли, храбрецы, бывшие при Кастильоне, при Риволи, при Неймаркте! Они сами предпочли бы погибнуть, чем бросить свои знамена, и сумели бы вернуть на путь чести и долга своих более юных товарищей. Отныне мне будут ежедневно представлять отчет о поведении всех войсковых частей вообще и, в частности, 17-й легкой бригады и 63-й линейной. Они вспомнят, какое доверие я питал к ним”. На другой день отдается приказ об изыскании средств закончить список эмигрантов, прекратить эту запись изгнанников, всегда открытую для произвола. Оказано правосудие первой группе эмигрантов, этим несчастным, которые, потерпев крушение в Калэ, были вновь выброшены бурей на наши берега, и которых прежние правительства таскали из тюрьмы в тюрьму, презирая элементарнейшие принципы справедливости; возвращены писатели, сосланные в фрюктидоре, в том числе Лагарп, Фонтан, Фьевэ, Сикар, благодетель слепых; освобождены священники, содержащиеся в заключении на океанических островах: обнародован закон, не дозволяющий через несколько дней праздновать 21-е января, и, в виде противовеса этому, освобождены из-под надзора якобинцы, осужденные на изгнание после брюмера и затем помилованные. Все эти меры как бы подтверждают на деле последние слова временных консулов: “Граждане, революция остановилась на принципах, во имя которых она была начата; она закончена”.[881 - Napolеon. Correspondance, VI, 4422.]
Революция, сдержавшая свои обещания, завершающаяся в мире, под властью консулов, – возможно ли такое чудо! Это казалось слишком хорошим для того, чтобы оно могло длиться. Но – конец, или только временное затишье – это было восхитительно, и все наслаждались моментом. Правительство, которое не изгоняет более во имя свободы, но возвращает изгнанников, – чудо чудное, диво дивное! Как ни жаждал народ покоя и порядка во что бы то ни стало, старый идеал свободы и справедливости, идеал 1789 года, еще не совсем изгладился из памяти души у парижской буржуазии, представительницы общественного мнения среднего сословия, по существу, умеренного в своих взглядах. Осуществления этого идеала французская буржуазия ждала последовательно от возрожденной королевской власти, от собраний, от народа, собиравшегося на съезды (comices), от прогресса просвещения и народного сознания; после ужасов террористического режима она рассчитывала на либеральную республику или восстановление ограниченной монархической власти, и каждый раз воскресшие надежды разбивались, падая с высоты. Неужели же, наконец, осуществится, по воле одного человека, этот неуловимый идеал, до сих пор являвшийся только в мечтах? Правда, этой терпимости, гуманности, правосудию нет гарантии в законах; они исходят от Бонапарта по его доброй воле, как правительственная мера, в силу его консульской прерогативы, потому что они отвечают его инстинктивному стремлению к политике широких горизонтов, потому что они кажутся ему наиболее пригодными к объединению этой Франции, которую он задумал пересоздать по-своему и сделать шедевром; и все же ему благодарны за эти меры; ему прощают узурпацию власти за то употребление, какое он делает из нее. Конституций видели слишком много, для того, чтобы полагаться на подобные гарантии; предпочитают положиться на одного гениального человека, уверовав в его умеренность.
Правление Бонапарта вначале – это идеальный произвол; после законодательной тирании, после припадочного правления факций он является сущим благодеянием. Положим, некоторые акты, если приглядеться к ним ближе, оказываются испорченными ограничениями и расчетами чисто личного характера, но все же они представляются великодушными, мужественными и глубоко разумными. Консулу признательны за то, что он снова выдвинул на почетное место истинные принципы власти, за то, что он вернул Францию к действительности, победив химеру. В нем, каким он проявляет себя, приветствуют, главным образом, победу здравого смысла. И, по мере того, как эта лучезарная заря все выше и выше разливается по горизонту, в ней видят обет грядущих мирных дней: г-жа Делессер пишет из Парижа за границу об утешительном будущем и прибавляет: “Вы понимаете, с каким облегчением вздохнули друзья этой страны, ибо они надеются, что результатом этого царства справедливости и администрации, столь же твердой, как и упорядоченной, будет мир”.[882 - Lettre de m-me Delessert, 9 janvier, 1800.]
Из всех принятых мер ни одна не произвела такого впечатления во всех стране, как прекращение религиозных гонений и открытие церквей. В Париже с тех пор, как фрюктидор лишил католиков часовен и домовых церквей, устроенных ими в каждом квартале, в их распоряжении осталось всего восемь старых приходских церквей, и то они не пользовались ими безраздельно. А тут моментально было уважено их прошение об открытии церквей, принадлежащих частным лицам,[883 - Роялистская запись 14 нивоза – 4 января: “Во всех кварталах Парижа открываются католические храмы. Муниципалитеты немало тормозят дело, ставя затруднения лицам, предлагающим отвести несколько зданий под церкви, но центральное бюро устраняет затруднения, приказывая исполнять закон”. Архив, г. Шантильи.] и признаны их права. Это возвращение культа произвольно закрытых храмов было настоящим праздником. Чтобы убедиться в этом, стоит только прочитать донесение центрального бюро. Не забывайте, что это донесение писано чиновниками весьма республиканского образа мыслей, старающимися выказать себя людьми без предрассудков, философами, изрекающими поучения, хотя и не стоящими уже за преследования. “Постановление первого консула относительно свободы вероисповеданий произвело в Париже настоящую сенсацию. Все эти дни замечалось значительное стечение народа у ворот храмов. Много закрытых церквей теперь были открыты вновь к большому удовольствию толпы людей, очень шумно и ярко проявлявших свою радость. Многие обнимались и обменивались рукопожатиями. Все доказывали справедливость наблюдения, выносимого из истории всех времен и всех народов: преследование ведет только к тому, что воззрения гонимого обостряются до настоящего фанатизма.[884 - Донесение центрального бюро 13 нивоза. Национальный архив, AF, IV, 1692.]
В провинции, в особенности в деревнях, движение приняло иной характер: беспорядков и мятежей. Сельское население не разумеет юридических тонкостей, не понимает, как это можно позволить молиться в храме и не дозволять благовестить к молитве. Для него свобода вероисповедания значит право исповедовать свою веру, как прежде. Двери храма открыты настежь для верных, Господь – хозяин у себя дома, не допускающий никакого раздела. Долой обряды десятого дня, долой языческие эмблемы; нужно хором петь воскресную обедню, звонить, трезвонить во все колокола; воскресенье целиком должно быть праздником, днем молитвы и отдыха, днем сборищ, забав, танцев, веселья, – вот чего, шумя и волнуясь, требует народ. Ему нужно, чтобы священник имел право в одежде, присвоенной его сану, идти за гробом верующего и благословить его могилу; ему нужны в известные дни пышные церемонии, ослеплявшие его своим блеском, когда он был еще ребенком, процессии, крестные ходы с хоругвями и знаменами, реющими над толпой, религиозные зрелища – символические торжества, поклонение легендарным святым – вся эта роскошь деревни, эта поэзия смиренных, золотящая небесным лучом их убогую жизнь, влачащуюся по земле.
Наконец, ему нужен добрый батюшка, священник, не присягавший, не имеющий ничего общего с нечестивым режимом, священник, молитва и благословение которого были бы угодны господу. Но где они, такие священники? Когда кончился террор, их вдруг появилось множество; они показывались в народе, совершали требы, с наступлением второго фрюктидорского террора они снова куда-то исчезли. Все знают, однако же, что большинство из них не покидали родины, что они тут, недалеко, прячутся в домах благочестивых католиков, живут милостью добрых душ, которые пекутся об их нуждах. Нередко скитаются, каждую ночь меняя кров и пристанище, укрываясь в чаще леса, в пещерах, и все-таки не хотят эмигрировать. Теперь, когда свыше прозвучал глагол освобождения, доверие к этому слову, пламенное желание снова послужить вере и долгу влечет их выйти из своих убежищ, а между тем требования закона ими не соблюдены. От них требуют обещания верности конституции; они видят в этом повторение ненавистных присяг и не хотят его подписывать; но в то же время им говорят о новых веяниях, о великодушии и терпимости нового правительства, и они, набравшись храбрости, покидают свои убежища, тайники, погреба, подвалы. Внезапно целые полчища священников выходят из-под земли. Ряс не видно; они одеты, как все, как крестьяне; церковь слилась с народом, почерпнув в этом источнике новые силы. Народ, торжествующий, тащит их в храмы, без церемоний, тяжелой мужицкой рукой расчищает им дорогу, освобождает святилище, заставляет власти убрать принадлежности обрядов десятого дня, перенести в другое место свое мирское служение. Алтарь отечества разрушен, как будто этим святотатством надеются изгладить следы великого осквернения святыни. Колокола уже не молчат; их торжественный и чистый голос разносится в безмолвии селений, напоминая Богу о человеке, который гнет спину над бороздой, и скрашивая его труд.
Колокол нужен селянину еще и затем, чтобы знать время. Бывало, он по колоколу распределял свою жизнь; у бедняка-пахаря не водится часов; колокол будил его утром на работу, говорил в полдень, что пора отдохнуть, потом опять звал на работу и вечером, усталого, посылал на покой; без колокола он не знает, как быть, и путает время. Колокольный вопрос существует во Франции уже несколько лет; народился он в годину полузамирения III года; фрюктидорские притеснения не могли окончательно задушить его. Теперь он снова воскрес и понемногу развязались медные языки. Прислушайтесь! Вначале только в отдельных местах слышен робкий боязливый звон, но понемногу он крепчает; колокола расхрабрились; они, непокорные, звонят во весь голос, перекликаются из деревни в деревню; радостный звон оглашает простор полей. Вслушайтесь! Это пробуждение, воскресенье, бунт колоколов.
В Париже бесчисленные стрельчатые башни пока безмолвствуют; голос их еще не покрывает городского шума. Но лишь только вы миновали заставу, навстречу вам из ближайших и дальних селений несется колокольный звон; звонят у ворот Сен-Дени, в Пьерфитте и в других кантонах Сены и Уазы; звонят к северу от Парижа, звонят к югу. В Этампе низвергнут алтарь декады, и версальские власти боятся, как бы виновные избегли кары: “Чего доброго, их оправдают, как оправдали недавно субъектов, выставивших, вопреки закону 7-го вандемьера, у дверей своего дома покойника, а возле него распятие, освященную воду и зажженную восковую свечу, – тоже нарушение закона, по-видимому, разрешаемое этампской полицией”.[885 - Эта и следующие выдержки взяты из донесений гражданской и судебной власти и жандармерии, хранящихся в Национальной Библиотеке, французский отдел, 11361, нивоз-вантоз VIII года.] В Луарэ, в Куртенэ также не признают больше декады. В Уазе, принимая в расчет интересы населения, которое не в состоянии больше обходиться без колоколов, местные власти пошли на компромисс – ввели с 18-го брюмера, так сказать, светский звон: “Колокола звонят, но не призывая к богослужению; они зовут к труду, напоминают о дневной работе, и звонят они по-другому, не так, как бывало звонили к Angеlus, a в десятый день молчат, потому что это день не рабочий”. В департаменте Нижней Сены, в Гурнэйском округе власти просят разрешения сделать то же, замечая, что “во всех соседних кантонах звонят. Их округ единственный, где соблюдают закон, и это вызывает нарекания жителей”.
Двинемся ли мы дальше на запад в область великих волнений, сейчас успокоенную перемирием. Там уже настоящий расцвет католицизма. Во всей нижней Нормандии воскресная служба в церкви идет под звон колоколов. В Бретани и соседних с ней местностях священники отказываются присягать и все-таки правят обедню и церковные требы. У дороги опять появились деревянные кресты и священные изображения в нишах на перекрестках; “воскресенье убивает десятый день”; на колокольне крест и петух заменили фригийский колпак; из-под обламывающейся по кускам революционной штукатурки выступает неизгладимая печать католицизма. В городах Анжу и Мэне, в окрестных селениях католицизм вернул себе все права: вместе с тем прогрессирует и замирение страны. Из Мэны и Луары доносят: “Католические священники вернулись к выполнению своих функций, народ толпой валит за ними, с удовольствием присутствует при их церемониях. Правда, десятые дни соблюдают теперь только в Сомюре и Анжере, да и то с большими поблажками, но священники в общем проповедуют мир и покорность, хотя и подписавших заявление пока мало”. Другое донесение: “В глазах народа всего важнее возвращение священников; этой победе он больше всего радуется”. В департаменте обеих Севр центральный комиссар предлагает, в видах успокоения страны, “расширить пределы религиозной терпимости, отменив постановление, требующее декларации от священников, или же смотреть сквозь пальцы на его исполнение”.
В других местах власти, не столь умудренные опытом, менее покладисты. Некоторые упорствуют в борьбе против здравого смысла, держась нелепых и гнетущих постановлений и запрещая всякие внешние проявления религиозности; иные признают себя побежденными, сопротивляются вяло и понемногу сдаются, отводя душу в слезливых и жалобных донесениях. По всей Франции, от края до края, распространилось это движение; интенсивность его в различных местностях различна, повсюду полусвобода, дарованная Бонапартом, толкуется как полная свобода.
В пиренейских долинах целое нашествие священников, до сих пор укрывавшихся в Испании или в горах; Арьежские власти жалуются, что “непокорные священники повсюду совершают богослужение под звон колоколов и без всякой предварительной декларации”. Некий администратор утверждает, что “опаснейший источник агитации, это возвращающиеся отовсюду и в большом количестве ослушники, нарушающие все законы о надзоре за вероисповеданиями и сеющие раздор среди граждан”. В Верхней Гарроне, в коммуне Портэ, в тулузском земледельческом округе, “на месте дерева свободы, срубленного и брошенного в реку, 6-го утром нашли красивое распятие с надписью: Кто его сломает, того Бог покарает (Qui L'?tera,Dieu le punira)”. В Эро (Hеrault) “фанатики кантона Мартэн де-Лондр, подобно многим другим, истолковали в свою пользу постановление 7-го нивоза: звонят в колокола, пооткрывали церкви, восстановили все внешние проявления культа; говорят даже, будто священники правят все службы без предварительной декларации”. Из Нима власти пишут: “Фанатики, введенные в заблуждение ложным толкованием постановления о свободе вероисповеданий, опрокинули, изломали, сожгли все республиканское убранство храма декады”. В Устьях Роны после брюмера в большей части коммун “республиканскими учреждениями небрегут, десятых дней не соблюдают, зато праздники и бывшие воскресенья празднуют с помпой и проводят их в ничегонеделании”.[886 - Saint Yves et Fournier “le Departament des Bouches du Rh?ne” de 1800 ? 1810, – 316–317, 313–319.] В Марсели католикам возвращены две старинные церкви; в Э (Aix) – четыре.[887 - Донесение комиссара центральной администрации Устьев Роны, Э, 11 фримера. Архив Устьев Роны, запись 558.] В Варе еще повинуются закону и соблюдают ограничения.
Центр весь охвачен религиозной реакцией. В Лозере “возвратившиеся священники смело показываются всюду, без всяких деклараций завладевают церквями, натравляют народ на тех, кто повинуется закону; об этом единодушно доносят все комиссары кантона, прибавляя, что они истощили все способы убеждения и не видят средства помешать нарушению закона; влияние священников на народ так велико, что если бы захотел установить судебным порядком всем известные бесчинства, не нашлось бы ни одного свидетеля”. В другом донесении говорится: “Факты, имевшие место в Канурге 16-го и 20-го нивоза, противные закону о вероисповеданиях, вновь повторились в Марвежоле 20-го текущего месяца. Народ толпой устремился к кюре, викарию и другим ослушным священникам и поволок их в церковь для совершения католических обрядов. Но хотя с виду эти священники и действовали по принуждению, надо полагать, что они сами были зачинщиками движения”. В Кантале насчитывают пятьсот ослушных священников, триста из них под надзором полиции, остальные скрываются; они “без всякой предварительной декларации звонят в колокола, отпирают церкви и правят церковные службы или же совершают свои обряды в лесах и уединенных пещерах; вот как они отплачивают правительству за его милосердие”.
В департаменте Роны, в местечке Тизи собралось на церковную службу две тысячи человек. Комиссар Сены и Луары пишет: “В Семюре 30-го нивоза общественное спокойствие было нарушено, многолюдным сборищем при колокольном звоне, после чего в церкви была отслужена обедня священниками, отнюдь не выполнившими предписываемых законом формальностей. 11 плювиоза подобное же сборище в Шаньи учинило величайшие бесчинства, изломало алтарь отечества и республиканские эмблемы”. В Дубсе имели место факты в том же роде. В Верхней Сене морейские власти жалуются, что “фанатики не могут успокоиться, пока колокольным звоном не возвестят о том, что они зовут своим торжеством. Каждый день приходится звать жандармов, чтобы прекратить эти бесчинства и добиться исполнения закона”. В Йонне по деревням ходит петиция, требующая полной религиозной свободы, и роялисты пытаются обратить ее в орудие пропаганды. В Шалоне-на-Марне разыгрывается чрезвычайно характерная сцена: “16-го, в час дня; триста человек проникли в колокольню бывшего собора и принялись трезвонить в единственный уцелевший колокол и в тот, что на часовой башне. Вскоре откликнулись другие городские колокола, а там по очереди все колокола соседних деревень. Мы не сомневаемся, что это мятежное движение разольется по всему департаменту”.
В Эне, Краонне и соседних округах, со времени постановления 7-го нивоза, церкви открыты, десятые дни не соблюдаются, и администрация напрасно тратит время на жалобы и доносы. В Арденнах властями издано постановление против “злоупотребления колокольным звоном во всех коммунах”. В департаменте Страшной Горы (Mont Terrible) в Вартштэдте сжигают алтарь отечества. Набожная Бельгия вся молится в открытых церквях; из Анвера доносят: “Открытие нескольких храмов вследствие консульского постановления от 7-го нивоза, по-видимому, принесло большую пользу и вызвало общее удовлетворение, но служители католической религии не дают никаких о себе заявлений… Открытие церквей в Габроэке сопровождалось беспорядками, сборищами женщин и детей, оскорбивших слугу конституции”. Со всех концов старой и вновь приобретенной территории, день за днем приходят донесения, свидетельствующие о религиозном рвении французского народа, обостренном гонениями, об агрессивном характере этого рвения, о твердом желании Франции снова стать христианской.
Сила, стремительность, искренность этого движения не могли не поразить глубокого, наблюдательного ума Бонапарта. Не он создал это движение; не он своею властью воздвиг алтари и повелел верить в Бога; он только отменил некоторые слишком уж ненавистные запреты, только бросил на ветер слово “свобода”, – и всюду сами собой воздвиглись алтари, словно чудом вырастая из-под земли. Католическое движение существовало до Бонапарта, но в скрытом состоянии, просачивающемся тонкой струйкой из под гнета преследований и карательных мер. Достаточно было нанести один удар, чтобы плененный источник вырвался на свободу, брызнул и разлился широкой волной. Бонапарт не чувствует в себе ни желания, ни власти подавлять эту силу; напротив, ему мало-помалу приходит мысль использовать ее как фактор – сперва замирения, затем господства. Это одна из главных причин, побудивших его впоследствии официально восстановить католицизм; но тогда он еще не мог регулировать, дисциплинировать и подчинить себе все жизненные силы нации; для этого время еще не пришло.
Так же и с конституцией; она сделала его почти господином правительства, но она еще не делала правительства господином Франции. Отныне у государства есть голова, мозг, с редкой мощью мысли и волевых импульсов, но нет членов, или же члены эти слабы и вялы. У Бонапарта свои министры, свои государственные советники, но у него еще нет своих префектов, своих супрефектов, мэров, судей, жандармерии, полиции, всех этих винтов и колес, которыми он сначала захватит Францию, чтоб выпрямить ее, потом сожмет так, что ей трудно станет дышать. Пока он не добился от трибуната и законодательного корпуса основных законов, позволяющих ему пересоздать заново административный механизм и персонал, он держит в своей власти страну исключительно силой общественного мнения и своего личного обаяния.
Административное междуцарствие затянулось. Почти везде замечается скорее тенденция к либеральной анархии, чем восстановление авторитета власти. Представители местной администрации, отныне убежденные в том, что они скоро будут заменены другими, или же самое учреждение преобразовано, совершенно отложили попечение о делах. Мы уже видели, какая неурядица царила в администрации в области применения на практике расширенной религиозной свободы; то же, или приблизительно то же, было и во всем. Многие чиновники совершенно не понимали консульской политики, или же в глубине души не одобряли ее. Иные оставались верными крайним партиям. Все стояли за конституцию, но иные только на словах, с оговорками про себя, порой весьма определенного свойства. Ультрареволюционная партия, иммобилизованная и наполовину присоединенная после брюмера, а теперь уже недовольная конституцией, сохранила за собой часть своих позиций. В провинции по-прежнему существовали клубы и были среди них такие, которым не сиделось смирно. Их слабость заключалась в их непопулярности, в отвращении, внушаемом ими народу; но все же, если бы они осмелились восстать открыто, то у них еще нашлась бы в административном кругу негласная поддержка.
Тем не менее, главная опасность грозила Бонапарту справа.
Бонапарт хотел организовать и подчинить себе революцию; он и не думал отрекаться от нее. Он хочет успокоения, а не реакции. Но в этой широкой терпимости, которую он в интересах успокоения проявляет по отношению к религиозным и политическим взглядам, к народным обычаям, привычкам, традиционным верованиям, и сила его, и грозящая ему опасность. При помощи ее он привлекает на сторону нового строя миллионы французов, доказывая им, что свобода совести и личная безопасность могут совмещаться с республикой, как он ее понимает, но с другой стороны, смягчение революционных законов поощряет явных реакционеров – поборников старого режима – а таких осталось еще немало. Роялистское движение, обнаружившееся в последние времена директории, не остановилось сразу; возвышение Бонапарта замедлило его, толкнуло его на другой путь, но не поставило ему непреодолимой преграды. Положительно можно утверждать, что весьма значительная часть французов пока видела в Бонапарте только последнюю ступень к восстановлению королевской власти, только временного, хотя и поразительно даровитого правителя. Мирные роялисты, лишь теоретически отдавшие предпочтение королевской власти, теперь уже склонялись в пользу примирения, готовы были удовольствоваться той безопасностью, которую давало им консульство; роялисты боевого типа, люди пламенной веры и дела, отныне не собирались сложить оружия, хотя и готовы были пойти на перемирие. Они порешили, в случае, если консул в ближайшем будущем не исполнит их требований, пустить в ход против него все те средства, при помощи которых они вели борьбу с его предшественниками, объявить ему войну не на жизнь а на смерть, – и эти враги были бы действительно опасны, ибо они одни способны были стойко держаться против Бонапарта. Общественное мнение относилось к ним до известной степени сочувственно, видя в них открытых противников якобинства.
Сам консул заметил это и говорил Редереру: “Вы уверены, что в общественном мнении не может произойти поворота в пользу королевской власти?[888 - Oeuvres de Roederer, III, 305.] Редерер успокаивал его, говоря, что народу нужно сильное правительство, какое и будет ему дано, и что он примет его как эквивалент королевской власти, под республиканским этикетом, еще милых сердцу многих французов. Относительно народных масс Редерер был прав. Масса, желавшая только одного – чтобы ее не слишком угнетали и разумно правили ею, продолжала идти навстречу Бонапарту, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, пока из глубины не хлынул огромный вал, все увлекший за собой. Но в то время еще ясно не обозначились противоположные течения, кипевшие и боровшиеся на поверхности. При таком сильном тяготении народа к Бонапарту роялистам труднее, чем когда-либо, завоевать Францию; но они еще могут волновать ее, затягивать старые беспорядки и вызывать новые.
На всем протяжении французской территории нет такого центра, имеющего большое значение, или хотя бы самое ничтожное, где бы не нашлось меньшинства, готового поддержать всякое явное контрреволюционное движение; кроме того, весьма обширные районы остаются как бы обособленными, оторванными от государственной общности; другие держатся, кажется, только на волоске, который вот-вот оборвется под напором элементов давно укоренившегося беспорядка, дающего преобладание факции правой. В то самое время, как Бонапарт сделал себя первым консулом, против него зрел обширный заговор, к которому мы еще возвратимся с целью отвлечь от него юг, сделав его опорой и резиденцией монархии, которую желательно было восстановить.[889 - См. Lebon, “l'Arsletеrrе et l’emigration fran?aise”, 278–282.] В центре и на юго-западе пытались слиться воедино обломки старых мятежей. На западе, хотя религиозное замирание подорвало популярность восстания и как бы подрезало его у корня, армия шуанов оставалась под ружьем и перемирие не вполне прекратило ее деятельность. Вожди продолжали вести переговоры, но наиболее влиятельные из них допускали только вооруженный мир, т. е. то же перемирие, только лучше соблюдаемое, – мир, который давал бы им возможность в любой момент снова начать войну. Они требовали ни более ни менее, как особого режима для своего края, чего-то вроде автономии запада, сохранения белой Франции среди Франции трехцветной.
Опасность, грозившая со стороны роялистов, была страшна тем, что она была тесно связана с внешней опасностью. Все заговоры опирались на заграницу и оттуда черпали свои ресурсы; единственным их реальным шансом на успех была затяжная внешняя война. Победы при Цюрихе и Бергене отодвинули вражеское кольцо, теснившее наши границы, но не разорвали его. Правда, Павел I, из антипатии к своим союзникам и по внезапному капризу, отозвал свои войска. Бонапарт написал ему и английскому королю гордые и умно составленные открытые письма, где он приглашал их положить конец кровопролитию и начать переговоры о мире. Эти письма были обращены не столько к повелителям враждебных стран, сколько к французам, жаждавшим мира. Они должны были убедить их, что правительство только поневоле, по принуждению возобновит враждебные действия, в случае отказа неприятеля или унизительных для Франции требований с его стороны.
На деле мир в данный момент был по-прежнему невозможен. Наследник революционной традиции, Бонапарт хотел обеспечить за Францией линию Рейна, разрешить все еще открытый крупный вопрос о естественных границах, прибавив к ним все новейшие французские завоевания; кроме того, он рассчитывал вновь завоевать Италию, первую арену своей военной славы, без которой от его первых подвигов останется только тень – и воспоминание, которое скоро изгладится. С своей стороны, Австрия, дошедшая до Вара, уже коснувшаяся республиканской территории, конечно, не согласилась бы без боя отступить в глубь Италии, назад к Кампо-Формиа. Лондонский, кабинет допускал мир лишь с Францией, вернувшейся к прежним границам, и то лишь при обязательном; условии восстановления там королевской власти.
Значит, нужны еще битвы, и коалиция, зная, как истощена Франция, но не оценивая по достоинству непобедимой силы наших армий, считает возможным одержать верх даже и над Бонапартом.[890 - Lebon, 276–277. Daudet, “Les еmigrеs el la seconde coalition”, XIV–XVIII.] Она тем более верит в успех, что чувствует себя в силах завладеть Провансом, что имеет точку опоры в самой Франции, благодаря волнениям и проискам внутренних врагов, благодаря роялистскому агентству в Париже, содержащемуся на английские деньги, благодаря шуанам на юге, в Лангедоке, на Западе. Коалиция надеется окружить консула кольцом мятежей, взбунтовать против него провинции и натравить одну половину Франции на другую. Будущей весной, если война в Альпах и на Рейне останется в прежнем неопределенном положении, если Бонапарту не удастся сразу решительной победой очистить от врагов наши границы, на него с помощью иноземцев может восстать контрреволюция и напасть на него с тыла.
Какого бы успеха он ни достиг вначале, внутренний порядок, замирение мятежных и полумятежных провинций, включение их в состав единого национального целого останется непрочным, пока коалиции не будет нанесен прямой удар, который заставит роялистов отложить свои надежды на неопределенное время.
Да и вообще, дать устойчивость общественному мнению и упрочить положение правительства может только мир, или, по крайней мере, победа, сулящая мир в ближайшем будущем. Пока нация лишена этого блага, как бы символизирующего и освящающего собой все другие, ничего прочного, в сущности, не достигнуто. Франция уже не цепляется больше за республиканские учреждения, не дорожит ни духом их, ни даже формой, хотя и старается сохранить их по имени; конституцию будут судить по ее результатам, “если она дает нам мир, ее найдут превосходной”.[891 - Письмо Ле Коза Roussel, 328.] Таким образом, внешний вопрос продолжает подчинять себе внутренний; окончательное право управлять французами Бонапарту предстояло завоевать через несколько месяцев, на поле битвы.
А пока он продолжал свое разумное и великое дело, в которое вкладывал всего себя: пересоздавал все области управления, усмирял факции, укрощал злобу и ненависть, с высоты власти внушал умеренность, из всех партий выбирал и выдвигал способных людей, становился вождем и центром объединения нации, сближал под своею властью две враждующие половины французского народа, кладя конец великому расколу во Франции. В его способе борьбы с препятствиями была необычайная смесь силы и ловкости, но ни одно из них ни разу не заставило его свернуть с начертанного им себе прямолинейного пути. Он идет к цели доблестно и осторожно, рассчитывая каждый шаг. Веря в удачу, в свою счастливую звезду, он один только не обманывается насчет огромных трудностей своей задачи. Он еще не знает, в какой форме ему позволено будет окончательно слить свою судьбу с судьбами Франции, которую он хочет сначала успокоить и переустроить. Кого сделают из него обстоятельства? Будет ли он Вашингтоном? Он позволяет об этом думать другим, быть может, сам думает так же. Любители исторических аналогий продолжают твердить: Кромвель. Вокруг него слышится порою шепот: Монк; его инстинкт отвечает: Цезарь. Подниматься выше, выше – таков закон и роковое свойство его натуры. Но для того, чтобы дойти до вершины, где его честолюбие станет вполне сознательным и откуда ему откроются безграничные горизонты, ему понадобилось шесть месяцев; он лишь постепенно достиг полной власти, основанной на полном подчинении себе общественного мнения; понадобилось Маренго, чтобы довершить дело Брюмера.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ЧАСТЬ I. ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОТСТАВКИ БЕРНАДОТА
ПРОТОКОЛЫ ДИРЕКТОРИИ.
ЗАСЕДАНИЕ 28 ФРЮКТИДОРА VII г.
Заседание началось чтением корреспонденции.
Директория совещается об увольнении гражданина Бернадота, военного министра, который неоднократно подавал в отставку. Она принимает его предложение и на место гражданина Бернадота назначает гражданина Дюбуа-Крансэ, дивизионного генерала. Новому министру посылается телеграмма с извещением о его назначении и предложением немедленно занять свой пост. Постановлено, что временно министерством будет заведовать бывший министр, гражданин Миле-Мюро. Постановления Директории сообщены гражданам Бернадоту и Миле-Мюро; последнему приказано немедленно принять дела…[892 - Национальный Архив, AF, III, 16] Протокол подписан пятью директорами, вопреки утверждению, будто это решение было принято без ведома, и без всякого участия Гойе. Mеmoires de Gohier I, 138–139, 142–144).
ПИСЬМО КБЕРНАДОТУ ОТ 28 ФРЮКТИДОРА.
Исполнительная Директория,[893 - Черновик, писанный рукой Сийэса, изобилует поправками в помарками; видно, что редактировать это щекотливое письмо было не так легко.] согласно неоднократно выраженному Вами желанию вернуться в действующую армию, назначила Вам заместителя в военном министерстве. Она уполномочивает генерала (написано рукой Сийэса: “министра” и зачеркнуто – по всей вероятности, министра юстиции Камбасерэса) начальника дивизии Миле-Мюро временно принять портфель военного министра. Будьте столь любезны сдать ему дела. Директория рада будет видеть Вас во время Вашего пребывания в Париже для беседы обо всем, касающемся нового назначения, которое она Вам готовит.
(Подписи пяти директоров).
ПИСЬМО К ДЮБУА-КРАСНЭ, 28 ФРЮКТИДОРА
(Послано по телеграфу).
Исполнительная Директорая назначила Вас, гражданин генерал, военным министром. Выезжайте немедленно и уведомьте о Вашем выезде телеграммой.
(За подписью четырех директоров; подписи Сийэса нет).
ПИСЬМО К МИЛЕ-МЮРО от 28 ФРЮКТИДОРА
Исполнительная Директория, уступая неоднократно выраженному генералом Бернадотом желанию оставить военное министерство и снова принять командование одной из войсковых частей, назначила нового министра. В то же время Директория избрала Вас для временного заведования военным министерством. Ввиду этого, благоволите явиться немедленно. Гражданин Бернадот предупрежден..[894 - Национальный Архив, AF, III, 627]
(Подписано пятью директорами).
ЧАСТЬ II. ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ЖЮБЕ,
КОМАНДОВАВШЕГО 18 БРЮМЕРА ГВАРДИЕЙ ДИРЕКТОРИИ, И БЛАНШАРА, КОМАНДОВАВШЕГО ГВАРДИЕЙ СОВЕТОВ
АРХИВ ВОЕННОГО МИНИСТРА