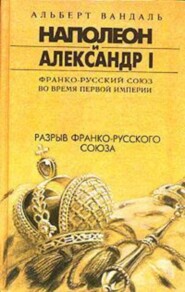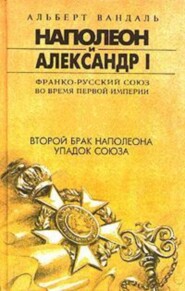По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Возвышение Бонапарта
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кончилось тем, что директория разрешила перевезти в Олерон Марбуа и Ладеба,[352 - Barbe Marbois, Journal d'un deportе, 216.] но без огласки и лишь в виде исключительной меры, не распространяя ее благодетельного действия на остальных ссыльных; открыто проявить сострадание ко всем было бы слишком рискованно, и умолять об этом директорию значило требовать слишком многого. Баррасу госпожа де Сталь пишет: “Теперь время действовать, а не рассуждать, но помните же, воспользуйтесь первым же успехом, чтобы смягчиться”.[353 - Архив города Коппэ.] Это свободное слово не вызвало никакого отклика в политическом мире.
Гонение на священников отнюдь не прекратилось. По дорогам Блезуа и Турэни по-прежнему тянутся возы с “попами”, которых везут в Рэ или Олерон.[354 - Dufort de Cheverny, приводя этот факт, прибавляет: “Общество с отчаянием убеждается, что революционные формы остаются в прежней силе, хотя все предвещает близкое их распадение”, II, 414.] Сто священников, долгое время просидевших в тюрьме в Рошфоре, просили суда, как единственной милости, наивно ссылаясь при этом на права человека; их ходатайство было отклонено директорией.[355 - Barras III, 456–463.] Культ в тех местах, где он еще уцелел, оставался предметом нелепых притеснений. Церковь мучили в лице ее видимого главы – папы Пия VI, увезенного из Рима во Францию; по строжайшему предписанию министра внутренних дел, с ним обращались, как с “заложником”.[356 - Sciout, “Histoire du Directoire”, IV – 457.] Больного, умирающего папу таскали из Бриансона в Гап, Гренобль, Валянс; и всюду, где только показывался этот печальный поезд, мука слабого старика, облеченного высоким и священным саном, будила негодование в сердцах и возмущала совесть; в душе народа постепенно нарастала ненависть к его мучителям. В Париже городская полиция проявляла свое усердие тем, что всячески теснила верующих, воевала с приверженцами воскресенья, настаивая на точном соблюдении предписаний республиканского календаря, да “доносила на публику”, вышучивавшую церемонии десятого дня и попытки обставить известной помпой гражданские браки.[357 - “Доношу Вам на публику, – писал министру внутренних дел один из его чиновников, – которая вела себя вчера в Храме Мира, X-й округ, в высшей степени неприлично при заключении браков. В храме стоял смешанный гул голосов, делавший бесполезным всякое поучение или речь, обращенную к народу. В особенности усиливал беспорядок оркестр, выбором смехотворных мелодий. Негр женился на белой; музыка заиграла песню Аземии: “L'ivoire aves l'ebene fait de lolis bijous” (Из слоновой кости с черным деревом делают красивые украшения). Тотчас же загремели крики bis и bravo. Пожилая женщина вышла замуж за человека моложе себя; музыка заиграла: Vielle femme, jeune mari, feront toujours mauvais mеnage”, (молодому мужу со старою женою не ужиться вовек). Смех и рукоплескания удвоились, равно как и смущение, новобрачных”. Schmidt, III 411.] Светские службы и вершители их стали посмешищем, но тем не менее христианам были воспрещены всякие внешние проявления религиозного культа: если кто позволял себе положить распятие на гроб, выставленный у ворот дома, об этом тотчас же составлялся протокол.[358 - Донесения, опубликованные Schmidt III, 427.] В то же время шестьдесят разносчиков, арестованных в Париже за распространение брошюр, полных брани и оскорблений правительства, были выпущены за отсутствием закона, под который можно было бы подвести их вину,[359 - См. отчет о заседании совета пятисот 4 фрюктидора”.] – довершение характеристики режима, соединявшего крайности тирании и распущенности.
ГЛАВА IV. КРИЗИС, ВЫЗВАННЫЙ БИТВОЙ ПРИ НОВИ И ЯКОБИНСКИЕ ЗАКОНЫ
Битва при Нови; смерть Жубера. – Слухи об убийстве. – Общество поражено. – Волнение в политическом мире. – Англо-русские войска в Голландии. – Удар, нанесенный печати. – Якобинцы предлагают Бернадоту низвергнуть правительство. – Ответ Бернадота. – Предложение объявить отечество в опасности. – Ужасное заседание совета пятисот; кулачный бой в парламенте; Париж вечером. Ночной совет в Люксембурге. – Украденный у Бернадота портфель. – Заседание 28-го фрюктидора; coup d'etat в перспективе. – Предложение Журдана отклонено; якобинская; орда вокруг дворца Бурбонов, – Равнодушие настоящего народа. – Применение якобинских законов. – Париж ввиду прогрессивного налога. – Сопротивление, капитуляция старейшин. – Организация налога. – Оценочное жюри. – Капиталу объявлена война. – Как она отразилась на сословиях. – Характерные инциденты в Лионе. – Финансисты призывают спасителя. – Словцо, приписываемое поставщику Колло. – Финансовые результаты. – Механизм закона о заложниках. – Частные его применения. – Лиги притеснений. – Неизбежность восстания на Западе. – Призыв рекрутов всех разрядов страшно увеличивает число ослушников. – Увеличение разбойничества. – Смятение властей. – Общая зараза и разложение.
I
Сийэс тревожно следит за первым шагом Жубера по ту сторону Альп. Он не сводит глаз с этого сверкавшего на горизонте клинка, от которого могло прийти спасение. Жубер прибыл в итальянскую армию 17-го термидора (4 августа). Он тотчас же двинул ее вперед, и в силу врожденной своей стремительности и сообразуясь с установленным планом. К тому же наши солдаты, наголодавшиеся в cуровых апеннинских ущельях, надеялись вновь найти изобилие во всем на равнинах Ломбардии. Жубер знал, что Суворов близко, но надеялся, что осада Мантуи удержит вдали от него часть австрийских войск, действовавших заодно с русскими. Но Мантуя сдалась уже пять дней тому назад, и австрийцы, предводительствуемые Меласом, форсированным маршем спешили на помощь Суворову; нашей армии предстояло столкнуться с грозным врагом, сосредоточившим свои силы.
Первое столкновение произошло 26-го термидора; а 28-го термидора (15-го августа), на рассвете, перед французами открылась вся русская армия, развернувшаяся перед Нови, Жубер немедленно устремился в атаку на линию аванпостов. С обеих сторон уже началась перестрелка. С плантаций и дачных усадеб, которыми была изрезана местность, раздавалась ружейная пальба, еще слабая и редкая, Жубер несся вперед, увлекая за собой слабеющую колонну; вдруг он упал о лошади, истекая кровью, раненный пулей в грудь навылет. Его отнесли назад на носилках, прикрытых холстом, чтобы вид умирающего вождя не деморализировал войск, и еще до полудня он скончался. Командование войсками принял Моро; пальба разгоралась; битва завязалась серьезная и жаркая. 12 часов республиканцы стойко держались под пушечным и ружейным огнем, защищая свою позицию, отбивая постоянно повторявшиеся приступы русских; но в конце концов, когда подоспевшие в полдень австрийцы обошли нас и насели на наш левый фланг, армия отступила в беспорядке, потеряв свою артиллерию, несколько генералов и много пленных. Моро снова увел ее за Апеннины и мог прикрыть только Геную, оставив во власти неприятеля весь полуостров, кроме узкой окраины его, Лигурии.
Первая весть об этой катастрофе была получена 9-го фрюктидора. Парижу сообщили, что в Италии произошло кровопролитное сражение, что потери неприятеля огромны, значительно больше наших, но что Жубер погиб. Как ни равнодушно стало большинство французов к славе родины, предчувствие несчастья и смерть Жубера повергли в уныние общество.
Впечатление катастрофы еще усиливалось тем, что полученные сведения были облечены какой-то таинственностью; так называемые осведомленные люди отвечали на вопросы сдержанно, с недомолвками, иные как будто не смели сказать всего что знали.[360 - “Lettres de madame Reinhard”, 82.] Глухо циркулировал слух, будто Жубер, сраженный в самом начале боя, был ранен вовсе не вражеской пулей, но кем-то из предателей якобинцев, прокравшихся в ряды армии или в обоз; что это гнусная факция, искавшая в каждом народном бедствии удовлетворения своим зверским аппетитам и мести за свои обиды, недавно только пытавшаяся среди Марсова Поля умертвить двух директоров, подло преследовала по пятам молодого генерала с целью убить в лице его надежду всех честных людей во Франции.[361 - Многие думали, что это было убийство. Перед отъездом Жубер получил крайне безграмотное письмо, где земляк “настоятельно” просил у него свидания; Жубер, по-видимому, не соглашался. Быть может, его хотели предупредить об опасности и посоветовать ему быть настороже. Письмо это любезно передано нам одним из внуков Жубера. Как нам кажется, письмо это само по себе не такого свойства, чтобы на нем одном можно было строить сколько-нибудь основательные предположения.] Можно ли было этому верить? Правительство афишировало мелодраматический траур, оказывая памяти Жубера необычайные почести; по приглашению директории оба совета справили ему, каждый в своем помещении, похоронную тризну; совет пятисот посвятил ему чрезвычайное заседание 25-го фрюктидора. “Вся трибуна задрапирована черным, впереди статуя Свободы, опирающаяся на пучок копий, символ силы и единения; сбоку погребальная урна, у подножия светильник с двумя погребальными лампадами. Позади пьедестала статуи – две нарисованные на полотне погребальные урны. В половине второго входят члены совета с ветками кипариса в руках. Музыка при этом играет траурный марш, прерываемый еще более печальными звуками похоронного звона. Президент произносит речь в честь героя, память которого празднует собрание”.[362 - “Gazette de France”, 26-го фркюктидора.]
Планы Сийэса рушились. Тем не менее экс-аббат упорствовал, приискивая заместителя Жуберу, на роль организатора государственных переворотов в пользу революционеров, пристроившихся к власти, и надеявшихся окончательно укрепить ее за собой. Моро, посланный командовать войсками на Рейн, должен был по пути проехать через Париж; это был удобный случай позондировать его настроение и разогнать сомнения. Если он уклонится, его, по-видимому, можно будет заменить Макдональдом (впоследствии женившимся на вдове Жубера), или Бернонвиллем. За отсутствием перворазрядного и заново отточенного меча, готовы были взять любой, лишь бы только он не согнулся в деле. Генералов был большой выбор, все народ шумливый, беспокойный. Но в этой толпе генералов, среди всех этих людей в касках с султанами, круживших около власти с театральными жестами и энергической речью, пересыпанной крепкими словцами, как найти человека дела? Все они обладали блестящими военными доблестями, но в политике тотчас терялись, начинали колебаться, робеть, не решались взять на себя инициативу. Сийэс минутами просто в отчаяние приходил; усталость, горькое уныние овладевали его душой. “Что пользы в том, что мы искали и нашли, что нужно было бы сделать? Где сила, которая бы привела это в исполнение? Нет ее нигде; мы погибли!”,[363 - “Notes manuschites de Grouvelle”.] – говорил он.
Внешняя опасность надвигалась все грозней, чреватая всеми другими. Правительство знало, что как только неприятель, перейдя через Альпы, вступит во Францию, сто гражданских войн вспыхнут разом; и правящий класс погибнет, раздавленный между анархистами и роялистами, если только Суворов не подоспеет вовремя, чтобы примирить всех революционеров, повесив их рядышком. Среди этой жестокой неурядицы умы инстинктивно обращались к отсутствующему герою, к великому покровителю, и вглядывались вдаль, ища его на горизонте. Призывали меч, уже поднятый однажды в защиту революции и Франции. “Нам недостает Бонапарта”,[364 - “Le Surveillant”. 12-го фрюктидора.] – говорила одна газета. Порой распространялись слухи о его возвращении; газетчики выкрикивали эту новость на улицах, и весь город приходил в волнение.[365 - “Правдивое или ложное известие о высадке генерала Бонапарта в Генуе, разнесенное по городу продавцами газет, вызвало величайшую сенсацию в обществе”. Донесение генерального штаба 5–6 термидора. “Archives nationales”, AF. III, 168.] Но разочарование не заставляло себя ждать, и снова росло раздражение против правительства, будто бы отправившего Бонапарта в Египет, в победоносное изгнание. Где он теперь? Вязнет в песках Сирии или стоит под Сен-Жан д'Акром, прижатый к стене каким-то нечастным пашой? Иные уверяли, что он ранен, что пришлось сделать ампутацию. За четыре месяца ему не удалось переслать во Францию ни одного бюллетеня – хотя бы весточку, письмо, два-три слова! Сведения о нем получались только из корреспонденции и английских газет, и то редкие и тревожные.
Директора VI года не были огорчены удалением Бонапарта, но сказать, что они сами удалили его, подстрекнули его к египетскому походу, было бы неточно. Поход этот был выдуман на три четверти им самим, Бонапарт хотел его, чтобы осуществить на пользу себе заветное желание французов, принудив к миру Англию. Он хотел его и потому, что инстинктивно стремился выше и выше, что его тянул к себе Восток, манили широкие яркие горизонты, беспредельные пространства, где завоеватели орудуют en grand, ударами меча выкраивая себе огромные империи, где нет конца и края их вольному бегу. Наконец, этот поход был нужен ему для того, чтобы не окунуться слишком рано в политику и дать время директории окончательно уронить себя в глазах народа, чтобы сделаться единственной надеждой, единственным прибежищем Франции. Таким образом, ему представится возможность, смотря по обстоятельствам, повторить Александра на востоке или Цезаря на Западе. Египетский поход Бонапарта – один из тех, которые наиболее принадлежат ему по замыслу и выполнению и выказывают его в двойном виде – человеком тонкого расчета и в то же время великим фантазером.
С тех пор, как в Европе возобновилась война, принявшая плохой для нас оборот, правители и желали, и боялись возвращения Бонапарта. После первых наших неудач старая директория затеяла обширную морскую комбинацию, с целью извлечь его из Египта и вернуть во Францию; проект включал соединение испанского и французского флотов на Средиземном море; он провалился в самом начале, вследствие малодушия Испании.[366 - См Boulaye de la Meurthe, “Le Directoire el l'expedition d'Egypte”, 96 – 160.] Новая директория не решалась подать в Египет сигнал бедствия, пока верила в успех Жубера. Но после Нови, надвигавшаяся неминучая гибель не позволяла более колебаться: лучше уж Бонапарт, чем Суворов.
По свидетельству Камбасерэса, Сийэс склонился на убеждения Иосифа Бонапарта, предлагавшего испробовать все средства передачи в Египет частных писем и вызова обратно.[367 - “Eclaircissements inеdits de Cambacerеs”.] По всей вероятности, результатом этого оставшегося неизвестным инцидента и была отправка Иосифом в Египет грека Константина Бурбаки; поручения этот последний, впрочем, не исполнил, да и обстоятельства сделали его миссию бесполезной.[368 - Boulay de la Meurthe, “Le Directoire et l'expedition d Egypte”. 240–242.]
Талейран, все еще исполнявший обязанности министра иностранных дел, предложил серьезный шаг; при посредстве испанской дипломатии начать переговоры с Портой о возвращении генерала Бонапарта и экспедиционного корпуса, в случае надобности на английских судах, взамен возвращения ей Египта. Таким путем надеялись, принимая в расчет неизбежные проволочки, вернуть Бонапарта к весне будущего года. Подобное возвращение было бы настоящей капитуляцией и, конечно, генералу пришлось бы подписать обязательство не поднимать более оружия против наших врагов в продолжавшейся войне; но все же он, по крайней мере, был бы здесь налицо, чтобы обуздать факции, воскресить национальную энергию и заставить победу вновь улыбнуться нам.[369 - Ibid. 180–194.]
Желательность переговоров с Турцией в принципе была признана 17-го фрюктидора (3-го сентября). Тем временем Рейнар наконец прибыл в Париж и принял портфель из рук Талейрана. Новый министр усвоил себе взгляды своего предшественника; 24-го фрюктидора представленный им проект переговоров был одобрен и подписан пятью директорами. Послан был гонец к Послу республики в Мадриде; ему поручалось уведомить испанский двор о том, каких от него ждут услуг. Неделю спустя пошли дальше: на 2-й дополнительный день VII года – 18-го сентября – по внушению и почти под диктовку директоров, Рейнар написал письмо Бонапарту, с тем, чтобы попытаться доставить его тремя различными путями, через добровольцев эмиссаров. В этом письме министр, от имени правительства, приглашал Бонапарта вернуться вместе с его армией, предоставляя ему полную свободу в выборе средств. – “Исполнительная директория ждет Вас, генерал, – Вас и Ваших храбрецов… Она уполномочивает Вас, для обеспечения скорейшего Вашего возвращения, принимать все военные и политические меры, какие только подскажут Вам Ваш гений и события”.[370 - Boulay de la Meurthe, 319.] Как видите, призыв был настойчивый и убедительный. Директория представляла Бонапарту carte blanche вступать в переговоры, капитулировать и т. д., не позволяя ему лишь одного – отделить свою участь от судьбы своей армии. В том же письме, посланном из Парижа, но не дошедшем даже и до Средиземного моря, Рейнар в ярких красках изображал бедствия, с удвоенной силой обрушившиеся на Францию.
Вначале Париж имел лишь неполные и смягченные сведения о битве при Нови. “Journal des hommes libres” неожиданно разорвал завесу, скрывавшую размеры катастрофы. Вскоре стало известно, что англо-русская армия, под начальством герцога Йоркского, высадилась в Голландии, в Текселе; батавский флот сдался, или, вернее, отдался врагу без выстрела. Намерения голландского правительства и народа были весьма неясны; Бельгия оставалась враждебной; против герцога Йоркского наскоро выслан был Брюн со своими войсками; достаточно было бы одного их поражения, чтобы в соединенных департаментах из конца в конец вспыхнул мятеж, обнажив нашу былую границу; опасность росла с часу на час.
А в Париже ревели и бушевали демагоги, грозя жестоким взрывом; эта партия усвоила себе привычку отягчать каждое национальное бедствие возмущением страны. “Злонамеренность и глупость не дремлют, – пишет один из старейшин; – нетерпение и страх помогают им”. С 30-го прериаля кризис становится хроническим; в конце фрюктидора – отраженное действие внешних неудач – он чуть было не завершился полным ниспровержением существующего порядка.
Политический мир был в смятении. В продолжение нескольких дней партии обнаруживали колебание и нерешительность; каждый искал своего пути и подготовлял средства. Депутаты чуть не каждый час собирались на совещания. Заводились переговоры о подкупе, скрещивались интриги. Вожаки, военные и гражданские действовали не совместно, но следуя каждый влечению своей натуры и минутной прихоти. Бернадот производил смотры, парадировал перед войсками, осматривал в Курбвуа новобранцев перед отправлением[371 - Gaudin (des Sables) а Chapelin, 22 fructidor – 8 septembre, eite par Chassin, “Les Pacifications de l'Ouest, III, 364.] их к своим частям и говорил им трогательные речи, западавшие в сердца молодежи. “Дети мои, среди вас есть великие вожди. Вы должны дать мир Европе”.[372 - “Moniteur”, 18 фрюктидора.] Честный Лефевр, в своей простодушной лояльности не понимая, как это республиканцы не могут объединиться ради спасения республики, пытался сблизить непримиримые факции. Баррас согласился видеться с Журданом, но толку от этого было мало; генерал этот, совращенный в политику, являлся в Люксембург крадучись, в шесть часов утра, из страха скомпрометировать себя перед своей собственной партией; но ему не удавалось рассорить Барраса с Сийэсом, а сам он отказывался порвать с анархистами.[373 - “Mеmoires de Barras”, III, 489–492, с приведенным в них письмом Лефевра. Когда Журдана упрекали в том, что он вотирует заодно с “мужами раздора и крови”, он отвечал: “Позвольте вам заметить, что мы не подаем голос заодно с ними, а они заодно с нами, и этому мы помешать не можем”. “Notices sur le 18 Brumaire”.] Сийэс, в ожидании, пока отыщется необходимая ему шпага, насторожился и не доверял никому; все окружающие представлялись ему опасными якобинцами – министры, гражданские и военные агенты, пристава директории, даже курьеры.[374 - Barras III, 485.] Семонвилль эксплуатировал посмертную славу мужа своей падчерицы, бегал по министерствам, всюду веля докладывать о себе, как об “отце генерала Жубера”,[375 - Ibid., 481.] и во имя несчастья, после которого он, по его словам, не мог утешиться, требовал мести для всей своей родни.
Между тем якобинские газеты неистовствовали вдвое против прежнего; газета тигров (Journal des tigres) прямо рычала на правительство. Директория в конце концов рассудила, что с такой печатью править страной совсем невозможно. Для обуздания ее в законодательстве не оказывалось карательных мер. Однако в конституции имелась статья 145-я, предоставлявшая правительству право “привлекать к суду и арестовывать предполагаемых зачинщиков или сообщников заговора против внутренней и внешней безопасности государства”. Как ни ловко иные умели толковать эту статью, все же казалось трудным подвести шумливые разглагольствования печати под| понятие о заговоре, деле, по существу своему, тайном и темном; тем не менее план был принят, и насилие лицемерно прикрылось маской законности.
По совету Фушэ, следуя классическому приему, директория ополчилась сперва на несчастных жертв фрюктидора, у которых перья давно уже были сломаны. В фрюктидоре редакторы оппозиционных листков, осужденные гуртом на ссылку, без обозначения лиц, простым перечислением названий газет, по большей части не понесли наложенной на них кары, так как никто не арестовывал их, а сами они не являлись отдать себя в руки властей; в своих убежищах они считали себя забытыми и уже начинали свободно дышать. Но в это время вышел указ с перечислением имен приговоренных к ссылке, принудивший их скрываться, искать более надежных убежищ; в числе поименованных – были Фонтан, Лагарп, Бертэн д'Андильи, Бертэн де Во, Стюар, Фьевэ. После этого низко-жестокого шага, этого осуждения задним числом, лишенного, впрочем, всякого практического значения, директория направила свои громы на современную печать, пытаясь пристегнуть нападки якобинцев к заговору, замышляемому против республики.
В одном из отношений, адресованных советам, директория говорит: “Невозможно скрыть от себя существование обширного и жестокого заговора против республики… Чего доброго, у заговорщиков еще, пожалуй, хватит наглости требовать свидетелей, доказательств, утверждать, что мы не сможем представить улик…
Свидетели – трупы республиканцев, умерщвленных на юге, избиваемых на западе, окруженных опасностями повсюду. Доказательство – мятежи, которые, едва их удалось погасить в одном департаменте, моментально вспыхивают в другом. Улики – лживые брошюрки, зажигательные листки, гнусные книжонки, которыми наводнена республика. Дерзкие писаки по-прежнему делятся на шайки, внушения и наущения которых дают одинаковые результаты; они идут врозь, но с тем, чтобы соединиться в известном пункте; их пути расходятся, но место их условленной встречи – могила конституции”. Выводом из этого бесстыдного пафоса явилось сообщение советам об указе, которым директория предписывала министру полиции, в силу статьи 145-й, наложить арест на 11 газет, в том числе на “Газету свободных людей”, взяв под стражу издателей и редакторов.
На деле полиция ограничилась тем, что опечатала станки и заперла конторы редакций; ни один журналист не был арестован и привлечен к суду; для этого директория не чувствовала под собой достаточно твердой правовой почвы. “Газета свободных людей” немедленно же возродилась под другим именем “Bpaг угнетателей всех эпох”. Тем не менее весть о гекатомбе вызвала в совете пятисот взрыв ярости якобинцев, поднявших невообразимый шум.
В этом своего рода coup еtat, направленном против печати, якобинцы видели первый шаг на пути беззаконий, уже нескрываемое покушение на их партию и народные учреждения. Они всегда боялись Сийэса; теперь этот страх и недоверие к нему усилились; республика изнемогает под тяжестью всевозможных напастей; Сийэс того и гляди сбросит маску, насильно изменит конституции при помощи какого-нибудь эполетчика, а затем, через посредство Пруссии, состыкуется с иностранцами и заключит мир, который принудит Францию, в угоду коалиции, пойти на какую-нибудь сомнительную монархическую комбинацию, подчиниться Орлеанскому или Брауншвейгскому. Депутат Брио при всем совете пятисот крикнул: “Да, я утверждаю, что готовится государственный переворот, республику хотят предать ее врагам, вновь свести ее к прежним границам; кто знает, быть может, у заправил всех наших бедствий уже теперь мирный договор в одном кармане и конституция в другом”.[376 - “Moniteur”, 24 фрюктидора.]
Раздраженные этими предсказаниями, снедаемые алчностью, якобинцы в парламенте решили взять наглостью. Чтобы предупредить вооруженный переворот, в воздухе уже чувствовалось приближение грозы – они начали с того, что попытались устроить то же самое в свою пользу. Хоть они и хвастались, что вполне уверены в народе и могут руководить им по желанию, они сильно сомневались, чтобы их уличным друзьям удалось создать что-нибудь более серьезное, чем поверхностная агитация, ввиду “приводящей в отчаяние апатии народа” – слова Журдана. Им пришла мысль призвать на помощь единственную силу, которая в то время способна была создавать и низвергать правительства, – военную власть. На руках у них был ценный козырь – военный министр Бернадот. Журдан с друзьями тайно посетили его и напрямик предлагали арестовать Сийэса, Барраса и учредить якобинское правительство, став во главе его; они соблазняли министра приманкой могущества; им самим нужна была сильная власть, чтобы прогнать иностранцев и спасти республику, но спасти ее на якобинский лад и затем предать в руки якобинцев.[377 - “Notice de Jourdan sur le 18 Brumaire”.]
Ярый патриот, Бернадот держался крайних взглядов и весьма резко высказывал их. Его образная, живописная речь, мужественная осанка, упрямый нос с раздувающимися ноздрями, огненный взгляд, – все, казалось, обличало типичного удальца-авантюриста. Наружность его, при встрече на улице, поражала даже совершенно незнакомых людей, внушая им мысль, что перед ними ловец человеков. В сущности, это была сама нерешительность. Мучимый желанием играть первую роль, он в то же время страдал каким-то бессилием захватить ее, сделать прыжок, перешагнуть Рубикон; беспокойный и робкий честолюбец, он вначале, казалось, готов был всем рискнуть, разрушить все преграды, а затем его бурная энергия расплывалась в фразах.
В данном случае, не решаясь окончательно скомпрометировать себя союзом с якобинцами и не желая, восстановить их против себя, он выпроводил их послов, отделавшись уклончивой и блестящей тирадой. Рядясь в благородство чувств, он говорил, что, пока он министр, к нему нельзя предъявлять никаких требований, ибо совесть запрещает ему употребить против конституционного правительства этим же правительством данную власть. Но, лишь только он выйдет из министерства, он вернется к своим политическим друзьям как простой гражданин, примкнет к самым опасным их начинаниям и займет место рядового бойца в рядах партии.[378 - Ibid. Версия Журдана гораздо правдоподобнее того, что впоследствии рассказывал сам Бернадот, – будто бы он потребовал от якобинских депутатов честного слова в том, что они откажутся от своей затеи.]
За невозможностью произвести вооруженный переворот якобинцы затеяли парламентский coup d'еtat. Наши последние поражения довели недовольство в обществе до крайних пределов, и в совете пятисот большинство как будто обратилось против директории. Якобинские вожаки решили воспользоваться этим благоприятным настроением, но несколько дней вынашивали свой план, прежде чем произвести взрыв. Они заставили учредить чрезвычайную комиссию для изыскания мер общественного спасения, и надеялись воспользоваться ею, как приманкой. К счастью, эта комиссия, в которую удалось проникнуть нескольким умеренным, оказалась бессильной, что бы то ни было сделать. Тогда вожаки решили перенести свой проект в самый совет, положив, в случае надобности, прибегнуть к силе и хоть кулаком, а добиться своего.
27 фрюктидора, во время заседания совета, Журдан неожиданно поднимается на трибуну, внося предложение о порядке прений, и требует, чтобы совет пятисот объявил отечество в опасности. Страшные слова, вызывающие в памяти ужасное прошлое! Прецедент 1792 года наглядно показывал, что, если бы такой декрет прошел, он вызвал бы фактическую приостановку конституционного режима, узаконил крайние меры и жестокости, вызвал бы брожение всех элементов смуты и окончательно взбудоражил бы страну; это была бы машина для ломки правительства. Семь лет тому назад тот же способ был использован республиканцами в законодательном собрании, столько же в видах ниспровержения трона, сколько для того, чтобы прогнать врага с наших границ; два депутата совета пятисот признали это в споре; один даже хвастался этим; теперь это оружие предполагалось обратить против директориальной республики и, главным образом, против орлеаниста Сийэса.
Журдан развивает свою идею с бешеным красноречием. Как только он закончил, друзья его поднимают крик: “Голосовать! голосовать!” – прилагая все усилия, чтобы захватить и увлечь собрание. Умеренные ораторы хотят возражать, направляются к трибуне. Пятьдесят якобинцев кидаются с поднятыми кулаками навстречу, чтобы загородить им дорогу. Дошло до ударов; вокруг трибуны форменная потасовка. – “Лесаж-Сено хватает за шиворот вскарабкавшегося туда Вильстара и тащит его вниз. Маркези, Блэн, Лесаж-Сено, Сулье, Дестрем, Шальмель, Киро, Бигонне, Ожеро, таким же манером стаскивают с трибуны Беранже и не дают взойти на нее Шенье;[379 - “Gazette de France”, 28-го фрюктидора.] законодатели в тогах дерутся между собой, как носильщики. Видя, до какой грубости и неистовства доходили якобинские депутаты, яростно орудуя кулаками направо и налево, лучше понимаешь сцену, которая разыгралась полтора месяца спустя в оранжерее Сен-Клу при появлении Бонапарта.
Собрание, не помня себя, орет во все горло; якобинские вожаки обмениваются знаками с публикой на трибунах, где восседают их приверженцы, и там, в свою очередь, поднимается оглушительный шум. Несколько голосов ревут, угрожая смертью президенту Булэ де ла Мерт, который не поддается натиску; с одной из трибун несется вопль: “Не выпустим его отсюда живым!”.[380 - Ibid.] Ни один общественный деятель, даже из членов конвента, не запомнит ничего подобного этим сценам, самым бурным, по словам газет, какие только виданы с тех пор, как у нас существуют совещательные собрания.
Президент дважды надевал шляпу в знак того, что закрывает заседание, – напрасно; наконец, ему о большим трудом удается восстановить относительную тишину. На трибуну всходит Мари Жозеф Шенье, бледный, в изорванном платье, и бормочет нечто вроде речи, извиняясь за ее бессвязность, – дескать, его захватили врасплох. На каждой фразе его прерывает лай якобинской своры. Ламарк и Киро поддерживают предложение Журдана; Дону протестует; Люсьен разбивает его, с большой находчивостью, в пылкой импровизации. На всех скамьях безумное возбуждение сменилось изнеможением; тогда поднимается президент, чтобы лично принять участие в прениях, и властно, увлекая нерешительных и трусов, говорит об “ужасном состоянии”,[381 - Ibid.] в котором он застал собрание, и требует, чтобы продолжение прений было отложено на завтра. Это значило дать умеренным время осмотреться, овладеть собой и подготовить отпор.
II
С первыми же слухами о стычке в парламенте в городе распространились страх и уныние. Многие укладывались, хотели бежать в окрестности. Вечером Париж был мрачен, улицы – почти пусты; даже в кварталах, обыкновенно самых людных, вокруг Пале-Рояля, сиявшего огнями во мраке, редкие прохожие пробирались вдоль стен, и искателей удовольствий было очень немного.[382 - “Gazette de France” напечатала диалог между двумя проститутками, бродившими на улице Онорэ. – Одна: “Ах ты… никого не видать; я нынче даже без почина”. Другая: “Еще бы; хотят объявить отечество в опасности; ничего нам с тобой сегодня не заработать”. 28-го фрюктидора.]
В Люксембурге царило смятение. Баррас принимал воинственные позы и говорил, что он готов умереть, но дорого продаст свою жизнь;[383 - Brinkman, 828.] зато Сийэс волновался безмерно. Его тревогу еще удваивала мысль, что нельзя быть вполне уверенным в войске, пока военным министром остается Бернадот. В последнее время, по мере того, как опасность надвигалась грозой, мысль эта все больше и больше мучила Сийэса, лишала его сна и покоя. Зная, что якобинцы кружат около генерала, всячески стараясь привлечь на свою сторону, он боялся со стороны министра какой-нибудь неожиданной выходки. Теперь же, когда разыгрался кризис и анархистские страсти обнаружились во всей своей отвратительной наготе, он не мог допустить, чтобы армия хотя бы минутой долее оставалась во власти этого демагога в шитом камзоле и шляпе с перьями, этого “Катилины”,[384 - Barras, IV, 10.] этого, друга смутьянов. Во что бы то ни стало и не теряя ни минуты, нужно было сбросить с утлой правительственной ладьи беспокойное бремя, грозившее потопить ее.
В одиннадцать часов вечера Сийэс взял на себя собрать директоров;[385 - Cambaceres “Eclaircissements inеdits”.] его коллеги более или менее ясно сознавали необходимость не перечить ему. Вопрос о замене военного министра другим лицом был поставлен на неотложное обсуждение; оставалось найти способ. Дать огласку делу было бы опасно; к тому же Гойе и его неразлучный Мулэн воспротивились бы этому. Нужно было потихоньку устранить Бернадота, хитростью выманить у него портфель, не отнимая его силой. Камбасерэсу, к которому вообще охотно прибегали, как к человеку находчивому и умному, советчику, без всяких прелиминарий предложили взять на себя временное управление военным министерством и самому добиться отставки Бернадота; оба поручения он отклонил.[386 - Ibid.]
Но Бернадот был из тех людей, у которых всегда найдешь, к чему придраться, благодаря их невоздержанности в речах. Не раз уже в своих частых и многоречивых беседах с директорами он, казалось, сам давал им оружие в руки, жалуясь на недостаточность имеющихся в его распоряжении средств проявить свое рвение и заводя речь об отставке; к тому же, добавлял он в заключение, и его военная доблесть страдает от того, что он сидит, сложа руки, в то время, как братья его бьются на границе. Баррас утверждает, что он наскоро, т. е., по всей вероятности, на другой же день утром, устроил более решительную сцену, – пригласил Бернадота к себе в кабинет и там сказал ему, что в директории могут выйти раздоры из-за военного министерства, и такому великому патриоту, как он, подобает предупредить их актом самоотречения. Бернадот тотчас же стал в позу, и, рисуясь, патетическим тоном, со слезами в голосе начал уверять, что он не дорожит властью. “Я не жажду быть министром; пусть, кто хочет, упивается этим блаженством”.[387 - Barras, IV, 13.] Он предлагает выйти в отставку, делает движение к конторке, как будто ищет перо, чтобы написать прошение, но жест остается втуне, пера не оказывается и, видя, что Баррас, “из деликатности”,[388 - Ibid.] не настаивает, министр весьма благоразумно не пишет ничего, полагая, как добрый гасконец, что болтать можно все, что вздумается, – от слова не станется. Очень возможно, что комедия была доведена и до этого; во всяком случае несомненно, что Бернадот на этот раз поплатился за риторику. Сийэс поймал его на слове. Большинством трех голосов – его, Барраса и Дюко – было постановлено отставку принять, а Бернадоту послано красноречивое письмо, в котором говорилось, что “директория уступает выраженному им желанию вернуться на действительную службу”.
На место Бернадота Сийэс, конечно, предпочел бы посадить своего человека, генерала Мареско, но Гойе и Мулен заупрямились. Сошлись на строгом конвенционалисте, Дюбуа-Крансе; его не было в городе, и ему послана была депеша. В то же время директория поручила временное заведование военным министерством генералу Миле-Мюро, предписав ему немедленно же вступить в исполнение своих обязанностей.[389 - В Приложении к I тому мы поместили протокол заседания директории 28-го, вместе с письмами, тут же на заседании написаными Бернадоту, Дюбуа-Крансе и Миле-Мюро. Национальный архив, A. F. III, 16.]
Все это произошло 28-го, в момент возобновления заседания совета пятисот, и получило огласку лишь несколько позже. Вернувшись в военное министерство, Бернадот принялся за текущие дела, ничего не сообщив своим начальникам отделений об утреннем разговоре. Когда он узнал, что очутился в отставке,[390 - Mеmoires de madame de Chastenay, 408.] помимо своей воли, первым побуждением его было, по словам его секретаря Сант-Альбена,[391 - “Mеmoires de Barras” IV, 16–17. Известно, какое участив принимал Сент-Альбен в составлении мемуаров Барраса.] написать директорам довольно бесцветное письмо с изъявлением полной покорности; в результате ему, без сомнения, рисовался какой-нибудь видный пост в армии, взамен министерского портфеля.[392 - Генерал Сарразен, товарищ военного министра, в своих “Мемуарах” рассказывает, что Сийэс поручил ему предложить Бернадоту командование рейнской армией. Sarrazin, “Mеmoires”, p. 122–123.] Тот же Сент-Альбен, подстрекнув его самолюбие, убедит его разыграть оскорбленное достоинство, с гордостью отказаться от всяких компенсаций, и уходя, пустить в директорию парфянскую стрелу, язвительное письмо, которое будет предано гласности и потомству.
Письмо директорам гласило: “Вы принимаете отставку, которой я не просил. Не раз я обращал Ваше внимание на тяжкое положение моих собратьев по оружию. Недостаточность средств, предоставленных в распоряжение военного департамента, глубоко огорчала меня; мне хотелось уйти от этого бессилия и, под влиянием этого мучительного, тягостного чувства, я, может быть, и высказывал Вам желание вернуться в армию. В то время, как я готовился представить Вам нравственный и административный отчет о моем управлении до 1-го вандемьера, Вы извещаете меня, что для меня имеется в виду командование отдельной частью, прибавляя, что, до вступления в должность моего преемника, министерством временно будет заведовать гражданин Миле-Мюро. Я должен восстановить факты в интересах истины, которая не в нашей власти, граждане директора; она принадлежит нашим современникам, принадлежит истории”. Письмо заканчивалось прошением об увольнении в отставку с пенсией.
Напрасно Бернадот взывал к грядущим поколениям; он тем не менее очутился за штатом, ибо генерал Миле-Мюро безотлагательно отправился в военное министерство принимать дела. Правда, Гойе и Мулен нанесли Бернадоту торжественный визит с целью выразить свое соболезнование, в полной парадной форме и в сопровождении почетного конвоя; но для того это было плохим утешением. Избавившись от такого неудобного товарища, директорам теперь уже нечего было опасаться предательского нападения с тыла, между тем как их друзья в совете пятисот встречали грудью предвиденные жестокие удары.
Якобинцы, со своей стороны, не теряли времени даром; чтобы оказать давление на совет и принудить его вынести желательное постановление, они сочли долгом организовать большую народную манифестацию вокруг дворца Бурбонов. Подосланные ими эмиссары бегали по предместьям, произнося зажигательные речи, но народ оставался глух к их призыву. Никогда еще он так ясно не показывал своей инертной оппозицией, своим пассивным сопротивлением всяким попыткам увлечь его, до какой степени он стал неспособен к уличной борьбе. Вместо целой армии якобинцам удалось собрать только человек 800–900, но эта банда шумела и горланила так, что было бы впору и тысячам. Рассыпавшись по Площади Согласия, по мосту, по набережным, кучки оборванцев перекрикивались между собой, грозили изрубить в куски упорствующих депутатов, ревели, требуя крови; ужасные мегеры, сопровождавшие их, требовали, чтобы им подали вилы. К счастью, Фушэ и Лефевр, министр полиции и парижский комендант, приняли солидные меры предосторожности; все входы во дворец охранялись военным караулом.
Тем временем в совете пятисот возобновились прения, в атмосфере, насыщенной страстями и ненавистью. После многих речей, произнесенных голосами, в которых, “слышалась еще вчерашняя хрипота”,[393 - “Gazette de France”, 29 фрюктидора.] после бесчисленных инцидентов и перерывов, предложено было отвергнуть предложения Журдана, предварительно опросив собрание. Два раза был произведен опрос путем вставания, и собрание, по-видимому, уже готово было принять этот выход, когда недовольные депутаты стали кричать, что результаты опроса сомнительны, и настойчиво требовать поименной переклички.
Как раз в это время распространился слух о перемене в военном министерстве; впечатление было очень сильное. Не прелюдия ли это к знаменитому вооруженному перевороту, который готовила директория с помощью старейшин, ополчившихся на другую палату, скомпрометированную своими членами-якобинцами? Когда факт обманом вызванной отставки Бернадота подтвердился, словно ветер безумия пронесся над собранием; все были уверены, что переворот не заставит себя ждать. Журдан вскакивает на трибуну и начинает обличать пагубные замыслы правительства. Депутаты вторят ему, сообщая подробности, ссылаясь на передвижения войск, рассказывают, будто генерал-комендант Курбвуа объявил, что, в случае надобности, он готов лететь на помощь собранию, и его за это попросили выехать из города в двадцать четыре часа. Все законодатели, якобинцы и умеренные, в том числе и Люсьен, клянутся умереть на своих местах, грозя народной местью святотатцам, которые осмелятся поднять руку на национальное представительство. “Они не имеют права!” – восклицает Ожеро, и этот протест в устах человека, который сделал 18-е фрюктидора, до того забавен, что, несмотря на серьезное положение, вызывает взрыв хохота.
Наконец, приступили к поименному голосованию предложения объявить отечество в опасности. Оно было отклонено большинством двухсот сорока пяти голосов против ста семидесяти двух. Быть может, такому результату не чужда была тревога, поднятая вестью об увольнении Бернадота.
Когда заседание было объявлено закрытым и депутаты стали выходить, толпа, собравшаяся вокруг дворца, яростно хлынула к дверям с криком: “Долой воров!” Пришлось пустить в ход войска, чтобы оттеснить неистовствовавшую толпу и очистить дорогу. Подоспевший генерал Лефевр пытался уладить дело и бранью, и призывами к примирению, но все напрасно. Депутатов провожали свистками, угрозами, проклятьями, на них лезли с кулаками, и, как бы в довершение скандала, депутаты меньшинства братались с этой сворой. Им достаточно было дать узнать себя, чтобы их, верных, добрых, приветствовали радостными кликами. Они шли среди бушевавшей грозы, высоко неся голову, улыбаясь насилию, одобряя его взглядом и жестом, не препятствуя осыпанию своих товарищей оскорблениями, обливанию их помоями, и смаковали эту низкую месть.[394 - См. газеты за 29-е и 30-е. Об этих сценах напомнил Люсьен Бонапарт в своей речи в ночном заседании 19-го брюмера.]
Из двухсот сорока пяти иные, не выдержав, отвечали ударом на удар; на площади Согласия Шазаль, из партии умеренных, завязал ссору с якобинцем-агитатором Феликсом Лепеллетье; обменивались всякими любезностями вроде: негодяй, злодей, чудовище.
Между тем, манифестанты рассеялись по городу и старались поднять простонародье, но им не удалось “передать ему тот электрический толчок, который вызывает восстания”.[395 - “Le Publiciste”, 29 фрюктидора. У Brinkman, 328.] На площадях, правда, собирались кучками рабочие, выставляя напоказ свою нищету, но они не трогались с места, утомленные, недоверчивые, по очень меткому замечанию одной газеты, они жаловались на всех,[396 - “Le Surveillant”, 12 фрюктидора.] смешивая в равном презрении умеренных и террористов, власть и оппозицию, правительство и советы.
В этот день, в общем, все, сами того не подозревая, сыграли в руку Бонапарту. Дирекция устранила Бернадота, единственного генерала, который мог бы, по своему положению министра и своему влиянию на войска, не без шансов на успех, воспротивиться попытке диктатуры. А якобинцы своим бесстыдством дали повод к этому устранению, точно так же, как в термидоре их друзья своим беснованием в Манеже дали предлог удалить Марбо. В борьбе, длившейся уже три месяца между подготовителями государственных переворотов в различных направлениях, в борьбе за две главных позиции – парижское комендантство и военное министерство – верх взяли в конце концов их противники.