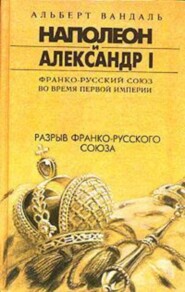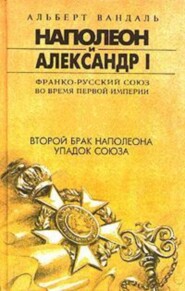По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Возвышение Бонапарта
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Еще смутный и неоформленный план их включал и пересмотр конституции. В этом отношении задача их упрощалась тем, что идея пересмотра носилась в воздухе. От недостатков конституции страдали все, и многие неглупые люди воображали, что изменением нескольких статей конституции они могут исцелить Францию. Писатели и мыслители наперерыв спешили формулировать свои планы, предлагали свои рецепты: президентство на американский манер, требования гарантий способности быть законодателем, учреждение особого корпуса специально для того, чтобы сдерживать другие, – все эти идеи смутно роились в умах.
Правда, легальным путем произвести такую операцию было невозможно, ибо всякое требование пересмотра было обставлено по смыслу самой конституции процедурой, способной привести к цели не раньше, как через девять лет. Но это мало смущало нарождающуюся новую партию, ибо обращение к помощи насилия было общепринятым в политических нравах эпохи. Нужно было только выискать случай придумать наилучший способ действий, а главное, иметь под рукой выдающегося генерала, который бы предоставил свою шпагу в распоряжение той группы правителей, которая должна была восстать против другой.
В этом-то состоянии умов и зародилась первая мысль о брюмерском перевороте; возвращение Бонапарта только помогло его осуществить и изменило его результаты. Гражданскими руководителями этого переворота управляло то же чувство, как и участниками 18-го фрюктидора и 22 флореаля, – обостренный инстинкт самосохранения. Разница между этим и другими насильственными переворотами была та, что там люди все могли выиграть, а терять им было нечего; здесь же, наоборот, устроители страшно боялись все потерять. К этому руководящему мотиву у некоторых присоединялось искреннее желание оздоровить, возродить республику, открыть ей, наконец, путь к нормальному существованию; они хотели установить настоящий конституционный режим вместо упраздненного на практике фрюктидором и флореалем и последним беззаконием упрочить владычество законов.
Эта партия избрала своим вождем, или, вернее, оракулом, революционера чистой воды, но не военного – аббата Сийэса. В самом начале революции Сийэс играл видную роль; в грозную эпоху террора, вероотступник и цареубийца, он предпочел стушеваться, затем появился снова, уклоняясь от власти и добиваясь влияния. Говорили, что это Именно он, не выходя из-за кулис, играл в последние дни жизни конвента и 18-го фрюктидора роль тайного советчика и вдохновителя; ловко разбираясь в скрытых побуждениях, управляющих событиями и людьми, он всегда умел в нужную минуту незаметно нажать пружинку, в этом отношении он остался священником.[154 - Один иностранец, присутствовавший на заседании совета пятисот, попросил своего соседа показать ему Сийэса; тот, не видя его, ответил: “Будь здесь в зале портьера, я был бы уверен, что найду Сийэса за нею”. Lettres de Constant, 62.] Он никогда не компрометировал себя открыто; в эпоху, когда столько людей истощили свои силы, можно сказать, сгорели на работе, он пользовался всеми огромными выгодами положения того, кто успел ждать и сберечь свою силу; все, чего он не сделал, пошло на пользу его репутации. Ему приписывали необычайную силу ума, гений строительства. Он изучал законы, исследовал свойства народов, сравнивал между собою правительства. Все знали, что запасная конституция целиком сидит у него в голосе, и она казалась тем совершеннее, что заглядывать в нее дозволялось лишь изредка и урывками. Загадочный, умышленно непонятный, он, казалось, носил в себе великую тайну общего спасения. Держась в стороне, он укрылся в берлинском посольстве; ходили слухи, что там он близко ознакомился с европейскими делами и сдружился с высшими представителями дипломатии; кто сумел бы лучше его примирить революционную Францию со старой Европой? В силу всех этих причин час его, казалось, настал; в законодательных кругах замечалось движение в его пользу.
Ежегодный выход одного из пяти членов директории и выборы нового директора взамен выбывающего происходили в флореале. Обыкновенно пять директоров бросали между собою жребий, кому уйти; но, по-видимому, по крайней мере в этот раз, желание руководило судьбой, и директория каким-то фокусом сумела избавиться от Рейбелля, на которого особенно нападала.[155 - См. Brinkman, 283—84.] Рейбелль сам устал бороться со своею непопулярностью, и весьма возможно, что он добровольно пошел на эту комедию; но, уходя, он (характерная черта взяточника) с согласия своих коллег, заставил выдать себе сто тысяч франков.[156 - Это подтверждает и Larevelliere, Mеmoires, II, 434.] Жертвуя этим человеком, не внушавшим уважения, но энергичным, директория думала спасти себя, а вышло наоборот. Она надеялась дать в преемники Рейбеллю бесцветного подставного актера, но совет пятисот выставил кандидатуру Сийэса, и 27 флореаля (16 мая) последний был избран советом старейшин. Этому избранию способствовал Талейран своей агитацией в кулуарах.[157 - Рукописные заметки Grouvelle.] Чем ближе приглядываться к изнанке этой эпопеи, тем более значительной представляется роль Талейрана.
Сийэс во всякую эпоху привлекал бы внимание, отталкивая симпатии. С немым лицом, холодный в обхождении, с медлительной вялой походкой, с какой-то неопределенной осанкой,[158 - Mеmoires de Talleyrand, I. 512.] с неустановившимися, словно колеблющимися линиями тела, весь он производил впечатление чего-то сомнительного, ненадежного. Напротив, речь его была резка и внушительна, ибо он отличался редким умением формулировать мысль. По тону и манере держать себя он был много выше своих коллег-революционеров, обладал остроумием, и очень тонким, но проявлялось оно лишь изредка, вспышками. Вещь серьезная для человека, который мечтал руководить себе подобными, – он был совершенно лишен добродушия. Сторонясь от общества, он любил проводить время в кругу немногих посвященных, или старух, которые благоговейно курили ему фимиам; им разрешалось наслаждаться его интересной беседой, и в этом кругу он не всегда запрещал себе быть любезным, но снисходил до этого крайне редко. Как только разговор переходил на его философские или конституционные теории, тон его становился догматическим, авторитетным; он утверждал, не удостаивая обсуждать; постоянно крича о своей непогрешимости, он мало-помалу заставил и других уверовать в нее.
Однако его напрасно изображают типом чистого мыслителя, никогда не спускающимся с высот теории; в нем были и совсем иные черты, была жестокая практичность. Если он и наслаждается, мысленно разбирая и составляя заново политическую машину, прибавляя винтов и колес, искусно располагая и комбинируя отдельные части, весь этот механизм в уме его предназначался для одной главной работы и цели: удержать власть за Сийэсом и его партией, упрочить их положение, сделать его непоколебимым. Слова: консервативная система, консервативные идеи беспрестанно срывались с его языка. Он много способствовал тому, что они так привились в нашем политическом жаргоне, но сам он относил их только к одному классу интересов и лиц.
Никто не был более его человеком партии, или вернее касты, человеком третьего сословия во всей ограничительной силе этого термина. Он питал отвращение к дворянам и презирал народ. Это он однажды, – по крайней мере, говорят, что это он, – отказался служить обедню “для черни” (“pour la canaille”.[159 - Mеmoires de Barras, III, 484.] С другой стороны, после фрюктидора он изобрел против дворян план колоссального остракизма, предлагал изгнать из Франции последние остатки аристократии, совершенно ампутировать этот член. В то же время он не был истинным республиканцем; в его прославленной конституции оставалась открытой дверь для короля, который был бы лишь подставным лицом, ставленником революционной олигархии и ответчиком за нее перед иностранными державами. В мечтах Сийэс представлял себе Францию не сияющей над миром и потрясающей Европу мечом или идеей, но Францию, успокоенную, благоразумную, Францию, где он сможет устроить себе удобную и привольную жизнь, ибо он, как сибарит,[160 - Souvenirs du baron de Barante, I, 380.] выше всего на свете ценил покой, уютно обставленный и надежно обеспеченный.
Он надеялся обрести этот покой при буржуазном режиме, философском и рационалистическом, враждебном аристократам и священникам, враждебном и якобинцам, умеренно либеральном, еще того меньше демократическом, признающем народ несовершеннолетним и отдающим его под опеку. Олигархическая республика или ограниченная монархия, – это было все равно для Сийэса, лишь бы только не явилось иной аристократии, кроме той, к которой принадлежал сам он, – аристократии цареубийц. Но все же он чувствовал необходимость не слишком суживать привилегированный круг, приоткрыть доступ в него людям, которых революция вначале признала своими, а затем изгнала, отрекшись от них. Он основательно все обсудил и свои крутые реформы рассчитывал ввести с помощью некоторых патриотов 1789 г., добрых граждан, в то время находившихся в ссылке, привлечь к делу преобразования под условием, что в будущем режиме доля участия этих помилованных будет строго ограничена. Впрочем, ум его, привыкший к отвлеченностям, был способен только задумывать, но не осуществлять.
Создание правительства, действительно способного поправить зло, терпимого, для всех доступного, стоящего выше партий, широко национального, никогда не входило в планы этого лжеспасителя.
II
Между тем, как Сийэс покидал Берлин, чтобы занять свое место среди директоров, законодательный корпус еще раз обновился на одну треть своего состава. Выборы происходили в жерминале. Директория первая ввела во Франции официальную кандидатуру и в данном случае цинически воспользовалась этим средством, но правительство было уже настолько дискредитировано и презираемо, что его кандидаты могли заранее рассчитывать на провал.
С 18-го фрюктидора роялисты всех оттенков и либералы не осмеливались выставлять свою кандидатуру на выборах, зато выступили якобинцы; в некоторых местностях они агитировали, проповедуя нечто вроде бабувизма, и это пошло им на пользу; в других они выставляли себя не столько якобинцами, сколько представителями оппозиции, мстителями за свободу против деспотизма директории, и агитация увенчалась успехом. В особенности много их кандидатов прошло на юге. Директория чувствовала себя слишком слабой для того, чтобы повторить 22-е флореаля и принудить советы признать массовые выборы недействительными. 1-го прериаля вновь избранные депутаты были приняты в состав советов без особенно строгой проверки правильности выборов, и этот приток новых людей, в особенности в совет пятисот, окончательно разбил большинство. Уже несколько лет в совете имелась партия крайних демократов, но бесцветная и приниженная, немногим отличавшаяся от порабощенной массы; выборы VII года усилили ее, а главное, оживили, гальванизировали.
Тотчас же против директории образовалась оппозиция левой, очень сильная. Именуемая партией якобинцев, она, в действительности, состояла из разнообразнейших элементов: откровенных демагогов, опирающихся вне палат на анархические группы, людей, от которых пахло кровью; политиков, жаждущих известности и нетерпеливо ждущих момента, когда можно будет взять приступом власть, – Брио, Тало, Гранмэзон, Ламарк, Бертран Кальвадосский, Маркези, Киро, Сулье, Арена, Дестрем, – запоздалых якобинцев, лишенных дикой энергии своих предшественников, но напрягавших силы и голос, чтобы походить на них; недовольных генералов, как Ожеро, считавший себя недостаточно вознагражденным за то, что он 18 фрюктидора воровски отпер замки в Тюльери и схватил за шиворот депутатов, – или Журдан, разбитый в Германии и сваливавший вину на правительство; наконец, из экзальтированных республиканцев, доходивших до фанатизма при мысли об опасности, грозившей нации, убежденных в необходимости разогреть народную энергию на огне революционных страстей и заменить директорию со всеми ее гнусностями крутым, но честным правительством.
Паролем и лозунгом всей партии было: война с ворами, т. е. война с поставщиками, заставлявшими бедствовать нашу армию, с ажиотерами, спекулянтами и всякого рода аферистами, наживающимися от общего разорения; с чиновниками, позволявшими подкупать себя, с недобросовестным правительством, терпевшим подобные беспорядки, извлекая из них выгоду; со всеми этими преступниками против нации, торговавшими общественным достоянием. В приливе неистового ригоризма число виновных даже преувеличивали, преувеличивая и их злодеяния. Воров было многое множество – их видели повсюду: свирепствовала какая-то эпидемия подозрительности, горячка обвинений, и чем дальше, тем сильнее, катясь по наклонной плоскости человеческих страстей. Наконец, стали притягивать к ответу уже всех дельцов и капиталистов; круг обратных требований судом незаконно захваченного имущества разросся непомерно. Война с крупными грабителями перешла в войну против крупных капиталов вообще, заключавшихся в движимости, или хотя бы даже в государственных бумагах, как предполагалось, нечестным путем доставшихся их обладателю.
А такие состояния все почти были нажиты, или восстановлены в эпоху революции, после террора, при режиме III года. Поставщики за это время порядком набили себе карманы, капиталисты и банкирские фирмы, достаточно солидные, для того, чтобы вынести на своих плечах кризис ассигнаций, владычествовавших в то время на рынках и при дворах, усиливались наладить до некоторой степени течение дела. Презирая установленный режим, обладатели крупных капиталов тем не менее хорошо уживались с ним, держа в ежовых рукавицах правительство; настоящими владыками и королями дня были они. И вот эти новоиспеченные богачи оказываются в подозрении, наравне с прирожденными богачами, вдесятеро против прочих обложенными налогами и терпящими всевозможные притеснения. Этот особый вид революционной плутократии в свою очередь отмечен беспощадным знаком и, ввиду грозящих ему гонений, круто переходит на сторону оппозиции. Истребив прежнюю земельную аристократию и разорив рантье, тоже ci-devants, получивших свои титулы при старом режиме, революция ополчается теперь на капиталы, которым она сама дала возможность сложиться, или вырасти, на целую кучу материальных интересов, участь которых до сих пор отождествлялась с ее собственной, и восстанавливает против себя эту силу – новый факт, и весьма важный, оказавший заметное влияние на судьбы революционного режима.
С первых же дней прериаля с трибуны пятисот загремели филиппики якобинцев против продажных министров и агентов правительства. Это была борьба свирепых с растленными. Предавали всенародно проклятию “коршунов”, “вампиров”, “пиявок, сосущих народную кровь”, “современных Веррэсов”,[161 - Веррэс – римский проконсул, известный своей продажностью, обвиненный во взяточничестве Цицероном.] ибо громкие слова были по-прежнему обязательны, даже когда говорилось о грязных делах; громили продажность администрации на всех ступенях служебной лестницы, а так как между исполнительным и законодательным комитетами не стояло ответственного министра, удары попадали прямо в правительство. Открыто признанный последним дефицит рассматривался как результат системы хищений. Даже старейшины находили, что директория, злостный банкрот, промотав вверенные ей ресурсы, как бы объявила себя несостоятельной.
17-го прериаля советы вотировали адрес французам, объявляя отечество в опасности, клеймя злоупотребления и возвещая режим строгого сыска. Депутаты требовали также освобождения печати, под флагом возвращения к основным принципам. Отменили закон 19 фрюктидора. отдавший газеты под надзор полиции, но совет никак не мог сговориться относительно замены его законом о преступлениях печати; таким образом, тиски полицейской цензуры сменились полной распущенностью.[162 - Парижане распевали в то время следующий куплет:Il est vrai qu'on pourait еcrireSur les modes, et m?me direSon sentiment sur les chiffonsEn ne parlant pas des fripons.Za vеritе de son asileSortant, nous changerons de style.A pleine t?te nous crierons:A bas le regne des fripons! (Bis)(Правда, можно было писать о модах и даже высказывать свое мнение о тряпках, не касаясь воров. Но мы, извлекши истину из ее убежища, переменим стиль и будем кричать во все горло: “Долой царство воров!”).]
Тем временем прибыл из Берлина Сийэс; его приезд был возвещен народу двенадцатью пушечными выстрелами. Он поселился в Люксембурге, но почти не имел общения со своими коллегами; он присутствовал при их переговорах, не принимая в них участия. Он сторонился от этих людей, хотя был их сообщником в фрюктидоре, ибо по крайней мере трое из них – Ларевельер, Мерлэн и Трейльяр – представлялись ему безвозвратно погибшими. “Неуважение к трем директорам равнялось их неспособности и тому ужасному состоянию, в какое они привели наши дела. С ними невозможно было ужиться; все говорили это Сийэсу, и скоро Сийэс стал говорить, как все”.[163 - Рукописные заметки Grouvelle, друга в поверенного Сийэса.]
Ненавидя якобинцев, внушающих ему жестокий страх, он в то же время уверовал в необходимость воспользоваться ими, чтобы устранить директоров, избавиться от этой мертвой ноши, очистить место от этих изъеденных червями трупов. С этой непосредственной целью неомодеранты в обоих советах, мечтавшие о крутых мерах, направленных к обеспечению их власти и влияния, соединились с проповедниками политики необузданного насилия; между этими исходными элементами временно установилось согласие и союз с целью разрушения.
К нападению на директорию подготовлялись путем различных тайных маневров и подступов. Сийэс, введенный в крепость, протягивал руку осаждающим, но как поведет себя Баррас, всегда разыгрывавший забияку на службе у партии атаки или яростного сопротивления?
Реаль советовал ему избавиться одновременно и от своих коллег, и от собраний, расчистить вокруг себя место и стать господином положения.[164 - “Le Couteulx de Canteleu”, dans Lescure, II, 224.] Баррас не посмел этого сделать; он предпочел вступить в переговоры с парламентской коалицией и обеспечить свое спасение, предав товарищей. Его измена сделала возможным 30-е прериаля – произведенное советами расчленение директории. В собраниях все дело было сделано несколькими вожаками двух соединившихся партий; двойное стадо имеющих право голоса покорно шло по их стопам.[165 - Brinkman, 291–292, со cлов одного депутата.] Народ не принял в движении никакого участия; улица оставалась спокойной; на бульварах и в увеселительных заведениях не было посетителей; разве что замечалось несколько большее против обычного оживление вокруг Тюльери и дворца Бурбонов, где заседали старейшины и совет пятисот. Париж, спокойный, презрительный, оставался безучастным зрителем парламентского мятежа.[166 - Publiciste от 2-го мессидора, см. переписку прусского посланника в “Preussen und Frankreich”, I, 308, изд. Bailleu. “Среди этого брожения народ остается совершенно безучастным и ни капельки не интересуется исходом событий”.]
28 прериаля – 16 июня, советы объявили, что они не разойдутся, пока не постановят окончательного решения. Началась атака в открытую на исполнительный комитет. Сразу была пробита брешь. Заметили, что выборы одного из директоров, Трейльяра, были произведены вопреки соответствующей статье конституции, менее чем через год по истечении срока депутатских полномочий Трейльяра. С тех пор минул уже год, по-видимому, законная давность, тем не менее совет пятисот признал выборы недействительными, а старейшины во втором часу ночи утвердили постановление.
Директора, со своей стороны, объявили непрерывное заседание. Когда пришла весть о постановлении обоих собраний, они заседали в красивой зале Люксембургского дворца, блистающей позолотой, с эстрадой, убранной неприятельскими знаменами. В соседней комнате бодрствовала гвардия и сновали курьеры в костюме “Криспена”,[167 - “Mеmoires de Madame de Chastenay”, 304. Криспен известное комическое лицо из итальянских пьес, услужливый лакей – пройдоха.] Трельяр известен своей грубостью и надменностью – покорится ли он добровольно? Ларевельер и Мерлэн советовали ему не поддаваться, отстаивать правильность своего избрания; поговаривали о том, что не худо бы прибегнуть к помощи войск, но поведение Барраса, его позы и реплики уже показывали, что он готов передаться врагу, Трейльяр рухнул с первого удара; со слезами на глазах, как уверяет Баррас, – с напускным равнодушием, как говорят другие, – он вышел из залы и покинул люксембургский дворец, не сказав ни слова, без малейшей попытки сопротивления он проглотил обиду”.[168 - “Гражданин Трейльяр взял свой зонтик и в тот же вечер – так как было уже поздно – отправился ночевать к себе домой, в улицу каменщиков. На другой день к нему присоединились его жена и семья”. Mem. de M-me de Chastenay, 406. Воrrоn, III, 359, Протокол ночного заседания подтверждает, что Трейльяр удалился немедленно, “Archives nationales”, A. F., III, 15.]
Старая директория распадалась по кускам; после Рейбелля – Трейльяр. Баррас уже передался врагу; значит, оставалось только согнать с мест Ларевельера и Мерлэна, вырвать этот двойной осколок. Ларевельер и Мерлэн сами по себе были не такие люди, чтобы повторить 18-е фрюктидора, направив его против нового большинства, да и симпатии войск под влиянием ненависти к Люксембургским “дуралеям” (“butors”)[169 - Так еще в 1811 году Даву называл директоров в одном из своих неизданных писем к императору, “Archives nationales A. F.”, 1654–1656.] за неимением лучшего склонялись в пользу парламента. Это настроение войск лучше гарантировало безопасность советов, чем только что изданный ими указ, объявлявший, что всякий посягающий на их независимость, тем самым ставит себя вне закона. Баррас взял на себя терроризировать своих коллег и ручался за то, что обратит их в бегство. 29-го он явился в совет с огромной саблей, держался каким-то пугалом, смотрел мрачно, говорил мало, сидел, “опершись подбородком на руки, сжимавшие рукоятку сабли”,[170 - Lareveillere, II, 392.] а Сийэс тем временем в “вычурных”[171 - Ibid.] речах доказывал двум другим, что им необходимо подать в отставку; он пытался выжить их уговорами.
Но Ларевельер и Мерлэн упорствовали, цепляясь за власть, и выжить их оказывалось не так-то легко.
На упрямцев наседали все больше, валя на них все грехи директории. 30-го эти обвинения им грубо бросили в лицо с трибуны пятисот. Люксембург наводняли депутаты всех оттенков, убеждавшие их уйти добровольно; ими были полны все салоны и коридоры. Умеренные прислали депутацию, с Булэ де ла Мерт во главе: якобинцы другую. Между директорами произошло очень резкое объяснение, с повышением голоса и грубыми словами, Баррас, понемногу раскрывая карты, старался вырвать у Ларевельера и Мерлэна согласие на отставку. В промежутках к ним направляли кротких посланцев, которые пытались смягчить их умилительными речами; люди, называвшие себя их друзьями, чуть не на коленях молили их устраниться, избавив себя и своих последних приверженцев от страшного мщения; их пугали перспективой отдачи под суд, прибавляя, что, если они добровольно выпустят добычу, им не грозят в будущем никакие преследования, и никто не посмеет обидеть их.
Но они все продолжали упорствовать; казалось неизбежным прибегнуть, к силе. Чтобы довершить беззаконие, оставалось поставить во главе парижского гарнизона человека, который не задумался бы отдать войскам приказ действовать. На этот пост метили многие генералы; саблям не лежалось в ножнах; мундиры в густыми эполетами мелькали поочередно то в кабинете Барраса, то у выходов дворца Бурбонов, то в шумных кулуарах палат. Жубер говорил: “Дайте мне двадцать гренадеров, и я в любой данный момент все покончу”. Бернадот и того не просил. – “Двадцать гренадеров – это слишком много: четверо солдат и капрал – этого совершенно достаточно, чтобы выставить адвокатов”.[172 - Barras, III, 361.] И он расхаживал среди оживленных групп в зале соседней в той, где заседал совет пятисот, словно ожидая от собрания только сигнала. Баррас утверждает, впрочем, что Бернадот, пойманный на слове, уклонился от исполнения посула, под предлогом деликатности по отношению к Жуберу, по-видимому, находившему, что первенство должно принадлежать ему.[173 - Ibid, 361–362.]
Впрочем, к такому крайнему доводу и не понадобилось прибегать. Видя, что все их покинули и восстали против них, Ларевельер и Мерлэн покорились, наконец, своей участи; в пять часов вечера оба совета получили их прошения об отставке. Государственного переворота, в буквальном смысле слова, не было; была чистка директории под давлением парламента, подкреплявшего свои доводы угрозами. Мерлэн на время исчез. Ларевельер переселился на свою дачу в Андильи, близ Парижа; впоследствии, когда он пешком ходил в город на заседания института, жители лежащих по пути деревень грубо оскорбляли его.[174 - “Mеmoires de Larevelliere-Lepeaux”, III, 450.] Перед выходом в отставку он намекал на черные замыслы некоторых из членов собрания, на убийственные заговоры. “Ножи уже вынуты”,[175 - Ibid, II, 349.] говорил он; но теперь эти ножи и кинжалы существовали только в воображении тех, кому выгодно было напоминать о них. Четыре месяца спустя Наполеон и Люсьен Бонапарт вновь обрели их в арсенале революционных метафор.
Оставалось заместить вакантные места новыми директорами. По установленному обычаю это нужно было сделать безотлагательно. По уходе Трейльяра советы поспешили заткнуть дыру; благодаря парламентским интригам, душою которых был Гара (Garat),[176 - Рукописные заметки Grouvelle.] на освободившееся место назначен был Гойе (Gochier), бывший министр юстиции при конвенте, президент кассационного суда, революционер, честный и недалекий. Преемником Мерлэна сделался Рожэ Дюко, бывший член конвента, сейчас член законодательного собрания, а: в промежутке мировой судья в Даксе (Dax). На место Ларевельера решили посадить военного. Под рукой было немало славных генералов, которыми республика могла гордиться, но выискали совсем безвестного, угрюмое ничтожество, Мулэна (Moulin), в то время командовавшего Западной армией; таким образом, директория оказалась в полном составе. “Могут ли эти люди претендовать на то, чтобы мы служили им? – восклицал Бернадот на первом же заседании.[177 - La Fayette, V, 67.] Сийэс предпочел бы иной подбор товарищей, но друзья его напрасно нашептывали избирателям несколько более известные имена; тем не менее он рассчитывал, что ничтожность его новых коллег позволит ему руководить ими и направлять их по-своему; в его глазах обновление директории было лишь шагом на пути к более радикальной реформе, направленной против самой конституции.
Таковы были дни прериаля, когда фрюктидорская директория потонула в грязи; выплыл один лишь Баррас. В этом перевороте иные видят противовес и реванш 18-го фрюктидора. Такая оценка основывается лишь на внешности.
В фрюктидоре исполнительный комитет ниспроверг законодательный. Теперь произошло обратно, но это вовсе не было реваншем пострадавших в фрюктидоре и правых. На этот раз распря была локализирована между революционерами чистой воды; четверо конвенционалистов последовательно были удалены из директории, трое таких же бывших членов конвента остались, или вошли туда; к ним присоединены были юрист и генерал, люди той же партии. Вожаки в обоих советах все были старые фрюктидорцы – одни, обращенные на путь сравнительной умеренности, другие – оставшиеся верными, или перешедшие к крайней левой; обе эти группы сплотились, чтобы избавиться от чересчур скомпрометированных вождей.
Париж мало интересовался этим переворотом в правительственной сфере. Он и не разбирался в нем как следует; в замене трех глубоко дискредитированных директоров никому не известными лицами не было ничего, способного разбудить и взволновать общественное мнение. Париж имел обычный свой весенний вид; прекрасная погода привлекала толпы людей в сады и на бульвары. “В увеселительных заведениях, – говорится в отчете военной полиции, – собралась вчера огромная толпа мирных граждан, чуждых забот, думающих только о том, как бы повеселиться и нисколько – об общественных делах”.[178 - Военный архив, общая переписка, генеральный штаб, доклад 20–21 мессидора.] Вечером весь Париж стремился в Тиволи посмотреть иллюминацию и послушать музыку.[179 - Программа зрелищ на 30-е прериаля: “Тиволи: сегодня ровно в 5 часов открытие сада, духовой оркестр, танцы под большой оркестр, иллюминация, концерт на духовых инструментах (исполнит оркестр законодательного корпуса), прекрасный фейерверк, в конце которого будет в первый раз представлен Храм Нептуна, украшенный каскадами”.] Здесь, играя словами, вышучивали несчастья страны: вместо patrie (отечество) говорили patrague испорченная, негодная вещь, дряхлый старик). На изгнанных директоров сыпался град памфлетов, эпиграмм и карикатур. “Карикатурам нет конца; вот уже несколько дней на набережных во всех витринах выставлена одна, изображающая Трельяра впереди и Мерлэна позади, несущих носилки, на которых восседает Ларевельер. Внизу подписано: “Nous aemportons le magot”[180 - Magot значит также образину, урода; Ларевельер был безобразен.] (Мы уносим сокровище). Сочиняли каламбуры и про новых директоров; в особенности давала пищу тому фамилия Мулэн, и гвардию директории народ звал теперь не иначе, как мельничной стражей (gardes-moulins; moulin – мельница).[181 - “Gazette de France”, 15-го мессидора.]
В провинции власти сочиняли адреса победителям, напыщенные поздравления с заказными восторгами, провозглашая торжество общественной морали и возрождение государства. Армии, всегда легко поддающиеся надежде, в своей неослабевающей преданности родине, ждали лучшего будущего. Один офицер, лечившийся в Пломьере,[182 - Correspondance intime du gеnеral Jean Hardy”, 133–134.] писал своей жене: “Все примет новый вид; принесенные нами жертвы не пропадут даром, торжествующая свобода будет стоять незыблемо. О, моя возлюбленная Каликста, я почти выздоровел от этой вести”.[183 - Письмо от 14 мессидора VII года Amand Montier, Robert Lindet, 262.] Но гражданское население осталось безучастным; привыкшее презирать свое правительство, каково бы оно ни было, оно с беспечностью скептика ждало результатов кризиса. При старом режиме, когда частые перевороты притупили политическую чувствительность, простая перемена министерства производила больше впечатления. Роберт Линде писал из Кайенны; “Эта революция не производит такой сенсации, какую произвело увольнение аббата Террэй и канцлера Мопу”.
ГЛАВА II. ПОСЛЕДНИЙ НАТИСК ЯКОБИНЦЕВ
Узурпаторская ярость советов. – Закон о заложниках. – Призыв на действительную службу рекрутов всех разрядов. – Прогрессивный налог в сто миллионов, вотированный в принципе. – Новые министры. – Бернадот. – Прериальские победители разделились; национальное топтанье в луже. – Умеренные и якобинцы. – Новая директория. – Газетный шум. – Париж наводнен памфлетами. – Заседания законодателей. – Требования отдачи под суд прежних директоров отклонены. – Люсьен Бонапарт. – Клубы снова открыты. – Заседания в манеже, – Уличные беспорядки; вновь появились черные воротники. – Вечер 23-го мессидора в Тюльери. – Бульвар. – Паника. – Совет старейший запрещает членам клубов собираться в Манеже. – Общественное мнение возмущается против якобинцев. – Ввиду грозящего напора анархистов, Сийэс готовит новый coup d'Etat для спасения отечества. – Роль, предназначенная Жуберу. Стратегическая и политическая комбинация. – Воззвание к умеренным всех эпох, сближение с изгнанным Лафайетом. На другой и на третий день. – Настроение высокопоставленных революционеров. – Протестантские тенденции. – Посмертное влияние Фридриха Великого. – Сношения с агентами Орлеанского. – Чем кончилась бы эта затея, не будь Бонапарта.
I
В законодательных сферах по-прежнему все волновалось, бурлило, кипело. После 30-го прериаля советы не расходились еще несколько дней; в жару торопливых, взволнованных прений, в лихорадке ночных заседаний, экзальтация умов дошла до предела; так длилось около месяца. В течение этого времени законодательное собрание стремилось сделаться центром власти и деятельности, словно оно вышло из долгого рабства лишь для того, чтобы в свою очередь стать узурпатором.
Толчок давал всегда совет пятисот; старейшины следовали ему. В совете пятисот преобладали якобинцы; они брали не численностью, но отвагой, дисциплиной, порывом; под давлением их дворец Бурбонов превратился в горнило революционного фанатизма, откуда исходили пламенные законы, едкие, жгучие. Таков был так называемый закон о заложниках – новый закон о подозрительных личностях, пустивший в ход новый механизм преследования, который мы со временем будем иметь случай наблюдать в действии. Таков закон о призыве рекрутов всех разрядов, с целью формирования в каждом департаменте вспомогательных батальонов. Для покрытия расходов на этот колоссальный набор был вотирован в принципе прогрессивный налог в сто миллионов на обеспеченный класс населения; применение на практике этого принципа предлагалось регулировать последующими законами; он отдавал буквально все имущество в жертву произвольным поборам фиска. Свершив столько великих дел, советы несколько поостыли, но зато затрепетал Париж, перед которым снова встал призрак конвента.
Новая директория в окончательном своем составе: Бappac, Сийэс, Гойе, Рожэ-Дюко и Мулэн – перемерила состав министерства и главнейших администраций, выбирая по возможности людей с чистыми руками и незапятнанной репутацией, но в то же время сильно выдвигая передовые элементы. Появились и уцелевшие монтаньяры; Роберт Линде, террорист неподкупной честности, занял пост министра финансов, Кинет – министра внутренних дел. Бургиньону дали департамент общей полиции. Мера очень серьезная – портфель военного министра предоставили Бернадоту, который очертя голову кинулся в поток якобинства. Генерал Марбо,[184 - Отец знаменитого летописца.] известный своими крайними взглядами, был назначен парижским комендантом. Зато в морское министерство Сийэс посадил своего человека, Бурдона, а в министерство юстиции Камбасерэса. В последнем Сийэс оценил зрелый, сложившийся ум, словно самой судьбою предназначенный к трудам по переустройству государства, и, отчасти, открыв ему свои планы, сделал себе из него полезного союзника.
В такое время, когда в программе на первом плане стояли строгие нравственные требования, трудно было оставить министерство иностранных дел за Талейраном, слишком известным своим “деловым умом”[185 - Brinkman, 321.] и подвергавшимся жестоким нападкам. Сдержанно и очень ловко защищаясь путем печатного слова, Талейран все же чувствовал необходимость на время стушеваться и сойти со сцены. Он подал в отставку; сначала получил отказ, затем отставка была принята, и министром иностранных дел назначен гражданин Рейнар, умный и образованный дипломат жирондистского закала. Талейран полагал, что этот второстепенный персонаж только сбережет ему место, дав возможность подготовить свое возвращение; к тому же за Рейнаром была крупная в его глазах заслуга; будучи послом республики в Тоскане, он отсутствовал; заведование министерством он мог принять не раньше, как через несколько недель, а пока Талейран оставался исполняющим должность.
На стороне Сийэса было всего три министра из шести; но он надеялся мало-помалу привлечь кого-нибудь из остальных. Он даже пытался завоевать симпатии некоторых влиятельных депутатов якобинской партии, наименее скомпрометированных своим прошлым, таких, с которыми можно было разговаривать. Он стал приглашать на собеседования Журдана и других: все признают, что конституция не удовлетворяет более потребностям Франции – почему же не сговориться и не изменить ее? Беда только, что пересмотра хотели все, но каждый хотел его на свой лад. А так как Сийэс уклонялся от объяснений относительно того, чем должен быть в конце концов заменен теперешний режим, Журдан и другие были недовольны его непроницаемостью; да и помимо того они изрядно не доверяли Сийэсу, подозревая в нем задние мысли; словом, его авансы не встречали сочувствия.[186 - “Notice de Jourdan sur le 18 brumaire”. “Carnet historique”, fеvrier 1901.] Отношения в правящих сферах сильно испортились; Сийэс был зуб за зуб с Журданом и прочими; его друзья в обоих советах все больше и больше сплачивались в партию оппозиции умеренных, отстаивавших конституцию от нападок революционеров, в ожидании, пока они, в свою очередь, будут иметь возможность нарушить ее и переделать по-своему. Необходимо помнить, что эта партия была умеренной лишь в сравнении с якобинцами, т. е. умеренности весьма относительной и недавнего происхождения.
Таким образом, победители 30-го прериаля разделились на два лагеря. В совместной игре каждый рассчитывал обыграть другого; теперь оба это заметили, и неудачная попытка одурачить товарища привела только к резким столкновениям. В результате, правительство утратило всякое единство импульса и действия. Началось невообразимое смятение, страшная кутерьма. Это-то Лафайет, удалившийся после Ольмютца в Голландию, следя с границы за ходом событий, называл “национальным топтанием в поганой луже” (margoullis national).[187 - La Fayette, V, 112.]
В директории царил раздор. Сийэсу не удалось взять верх над своими коллегами; он оскорблял их своим превосходством и слишком показывал им, что он их презирает. Что это за люди!”, – говорил он, выходя из собрания.[188 - Mеmoires de Gaudin, duc de Ga?te”. 43.] Баррас с первых же дней начал вилять. В то время, как агент, уверявший, что он уполномочен Баррасом, пытался снова завязать сношения с эмиcсарами претендента, сам Баррас втихомолку путался с наиболее подозрительными и опасными из террористов.[189 - Eclaircissements inеdits de Cambaceres”.] Полагая, что сила в данный момент на их стороне и, быть может, опасаясь, как бы партийная печать не разоблачила его козней, он щадил якобинцев, готовый, однако, восстать против них, если бы они стали слишком опасными; с этого момента он каждый месяц меняет направление. Гойэ и Мулэн сразу перевалили на сторону якобинцев и там остались. Умеренные депутаты, подававшие за них голоса на веру, не зная их, со своей стороны испытывали разочарование.[190 - “Notes manuscriptes de Crouvelle”.] Зато словно в этой странной кампании всем так и подобало быть непоследовательными, Рожэ Дюко, которого якобинцы считали своим человеком,[191 - “Eclaircissements inеdits de Cambaceres”.] сблизился с Сийэсом и благоговейно следовал во всем его указаниям.
Таким образом, из пяти директоров, двое тянули до известной степени вправо, двое влево, а пятый поочередно то вправо, то влево. Сийэс будировал, Баррас интриговал, Гойэ всюду видел заговорщиков и упивался чтением полицейских донесений;[192 - См. Записки Деклозо, настоящий автор которых Real. Mеmoires de Musnier – Descloseaux, p. 3.] Мулэн чувствовал, что он на своем посту только временно и покорно катился по наклонной плоскости. Министру Камбасерэсу, который явился засвидетельствовать ему свое почтение и просить его благосклонности, он ответил: “Это я прошу вашей дружбы сейчас и вашего покровительства на будущее время; я не обманываюсь относительно вашего настоящего положения и того, которое вас ждет впереди”.[193 - “Eclaircissements inеdits, de Cambaceres”.] В этом необычайном правительстве, которое само себя парализовало, казалось, не было человека, способного хотеть и действовать.
“Директория ничего не хотела, ничего не слушала, все откладывала. Директора читали только газеты, обсуждали только газетные статьи, огорчавшие их. Они начинали заседания в одиннадцать утра и сидели до пяти с половиной, даже до шести. Каждый час являлись министры; их выслушивали всегда поодиночке, хотя следовало бы выслушивать их всех вместе. Речь шла все время о газетах, о жалобах, о доносах на частных лиц; из пяти директоров разве один слушал доклад министра и то урывками, в промежутках разговора. После заседания директора отправлялись обедать, всегда в многолюдном обществе и сидели за столом весь вечер, пока не наступало время ложиться спать. А по утрам они читали газеты и письма, чтобы иметь возможность толковать о них с другими во время своих томительных заседаний”.[194 - Lettre de Robert Lindet, изд. M, Montier, 376 – 77.]
Министры редко виделись между собой и пребывали все время в состоянии взаимного недоверия, да им и недосуг было видеться, дел было по горло. Линде с головой ушел в финансовый омут, что не мешало ему собираться с мыслями и подготовлять общие меры; но он не надеялся провести в советах последовательную программу действий. Камбасерэс застал в своем департаменте настоящий хаос; ему приходилось все начинать сначала. Бернадот говорил и писал без передышки; его речи, прокламации, циркуляры, воззвания являются любопытным памятником революционно-гасконского красноречия; мы снова находим в них смесь воинственного пыла и бессвязного пафоса. В своих работах он обнаруживал блестящие качества: ум, увлечение, поразительную работоспособность. Вставал он всегда чуть свет, в три часа, и, покинув свой “домишко”[195 - Barras, III, 417.] на Цизальпинской улице, первым являлся в министерство. Он во все вникал, за всем следил сам, прилагал все старания, чтобы подтянуть канцелярии, подогнать обучение новобранцев, снова наладить материальную часть, преобразовать армию, подбодрить, поднять упавший дух солдат и офицеров. Против хаоса затруднений и всяческих преград, стоявших, на его пути, он ополчился всею силой своей неутомимой и кипучей деятельности. Но гражданские власти, бездействующие или выбитые из колеи, плохо помогали ему; в провинции начинали ходить тревожные слухи о положении дел в Париже и распаде республиканского правительства.[196 - Военное министерство, общая переписка, письмо комиссара директории в департамент Дилы (Dyle), сообщенное министерству.]
Парижская печать, освободившись от намордника, сейчас же бросилась в крайности. Какая радость – безнаказанно призывать к ответу тиранов фрюктидора, большинство которых сохранили за собой свои места, уцелев во время последнего кризиса! “30-го прериаля были смещены правители коварные, дурные, изменники; оставлены: дурные, изменники, коварные”. Какое наслаждение нападать на эту вечную факцию термидорцев и фрюктидорцев! – “Это она посадила в исполнительную директорию самого низкого злодея, какого когда-либо видела в своих рядах контрреволюция… Олицетворение этой факции Баррас; нет преступления против человечества, которого бы он уже не совершил”.[197 - Выдержки из газет, в отчете за термидор, опубликованном Schmidt, III, с. 420 и след.]
Газеты, больше пятидесяти сразу, подняли страшный шум. Воскресшие органы правой всячески поносили правительство, не останавливаясь ни перед чем, находя возможность даже клеветать на “его. Газета свободных людей (Journal des hommes libres) сделалась официальным вестником якобинства, ее прозвали Газетой тигров; своих противников она обзывала “газетными подлецами” (feuilistes d'inf?mie).[198 - Номер от 17 фрюктидора VII года.] Эта газетка и некоторые другие в том же духе напоминали худшие органы печати 1793 года; то же упорство в травле, та же мания доносов, смесь грубой ругани с ядовитыми инсинуациями. Всех принимавших какое бы то ни было участие в делах, обливали грязью; оскорбляли женщин – и тех, которые, по слухам, были причастны поставкам, и тех, которые сочиняли книги и занимались политикой; беззастенчиво вторгались в частную жизнь; самая чистая репутация не спасала от такого вторжения. Люди, наиболее преданные принципам свободы, в том числе добродетельный Кабанис, приходили в ужас перед этим “потоком клеветы, грозившим все поглотить”.[199 - “Publicliste” от 16 термидора.]
Наряду с газетами выходило неисчислимое множество брошюр, предвещавших общее разложение и конец режима. Их предавали открыто, по всему городу публиковали объявления о них; разносчики во все горло выкрикивали на улицах: “Завещание республики, или Дело плохо. – Старая директория продавала нас; новая будет вешать. – Четверо повешенных и пятый, готовящий себе петлю. – Полиция арестовала Завещание республики; суд отказался преследовать издателя”. По углам улиц всюду были расклеены афиши, требовавшие общего вооружения граждан, разжигавшие ненависть и дурные страсти.[200 - Brinkman а Sparre, 19 juillet, р. 301.] Вокруг дворца Бурбонов продавали книжонку сочинения депутата-памфлетиста Пульсье, озаглавленную “Перемена местожительства”. Автор предполагал переселить старейшин на Монмартр (где прежде вешали), пятьсот в сточную трубу; военного министра в улицу Боен, рекрутов в Покойницкую улицу (rue de la Mortellerie), роялистов на мыс Доброй Надежды, а прогрессивный налог в улицу Чистки-Карманов (Vide-Cousset).[201 - См. у Maurice Fournet “Bibliographie de l'histoire de Paris pendant la Rеvolution”, список памфлетов той эпохи, хранящихся в национальной библиотеке; немало их хранится и в Парижской городской библиотеке.]