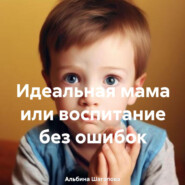По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Я не вижу твоего лица
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Она испорчена, – как-то заявил отец, когда я заказала ему привести из библиотеки какой-нибудь любовный роман, и тут же принялся утишать мать, уверять её в том, что она не в чём не виновата, просто их ребёнок оказался с червоточиной, ведь в семье не без урода.
Я занимала много места, на меня уходило много денег, я громко разговаривала и много ела. Меня было слишком много в его жизни. В их с матерью жизни.
Отец читал долгие и нудные нравоучения, мать защищала и зацеловывала. Отец проявлял недовольство каждым моим шагом, мать – называла больным ребёнком и жалела, стараясь всё сделать за меня. Отец сравнивал с детьми своих коллег и друзей, мать – плакала и говорила, что будет нести свой крест до конца. Они бурно ссорились по поводу моего воспитания, а потом, где-то недели на две в квартире воцарялась тягостная обстановка. Как же это ужасно, как тяжело быть центром чьей-то вселенной! Ты не ощущаешь себя личностью с собственными желаниями, мечтами, тайнами. Ты- причина, ты- повод, ты- объект удушающей родительской любви, на грани безумия.
Все разговоры, все перепалки, все планы моих родителей крутились вокруг меня и моего лечения. Казалось, что кроме моей персоны обсудить им было нечего. Порой, мне думалось, что и живут они рядом друг с другом только ради меня. В их отношениях не было нежности, романтики. Мама и папа, словно бы стыдились проявления чувств друг к другу. Держались холодно, отстранённо, словно коллеги по работе, объединённые лишь общим делом. Свой старенький всхлипывающий диван делили стыдясь присутствия друг друга. Мать перед сном натягивала длинную плотную ночнушку, с завязками у горла. Отец облачался в пижаму. По тому, когда Соня познакомила меня с любовными романами, я была удивлена и напугана. И мысль о том, что делаю нечто нехорошее, слушая о любви Катрин и Арно, преследовала, будоражила и мучила чувством вины перед родителями.
Хлёсткая пощёчина обожгла левую сторону лица. Перед глазами вспыхнули жёлтые звёзды. Мои зубы клацнули, прикусив кончик языка. Во рту разлился солоноватый вкус крови.
– Ты поедешь в свой интернат, раз тебе так хочется, – прошипел отец, и шёпот его был так же чёрен, как и ночная мгла, наполнявшая нашу комнату. – Но не смей ныть и жаловаться.
Ночь. Розоватый свет уличного фонаря растекается по заплаканным оконным стёклам, отражается на полированной дверце большого шкафа, размазывается по белому постельному белью, стоящих в два ряда кроватей. В воздухе стойко застыл запах кишечных газов, несвежего белья и женских дней. Сопение, храп и бессвязное бормотание. Мучительно хочется спать, погрузиться в спасительное небытиё, чёрное, мягкое, словно бархат. Но стоит забыться, как всё тело вздрагивает, будто от толчка, и я вновь выныриваю на поверхность, в отвратительную, ненавистную реальность. А в голове набатом звучат слова Ленуси:
– Спи спокойно, Рейтуза, так уж и быть. Но с завтрашнего дня у тебя начнётся весёленькая жизнь. Правильно говорю, бабцы?
–Позвонить отцу, завтра же! Всё, хватит с меня самостоятельности, наигралась! – твержу себе, немного успокаиваясь, но потом вспоминаю, насколько трудно будет это сделать. Пока я объясню, кто я такая и по какой причине звоню, пока разыщут отца, пока он дойдёт из своего цеха, пройдёт целая вечность. А висеть на телефоне мне никто не позволит. Восьмёрка- удовольствие дорогое.
Подушка кажется твёрдой и неудобной, воздух непригодным для дыхания, а завтрашний день … Ох! Лучше бы он вообще не наступал!
Глава 2
Гривы золотых клёнов и тополей, облитые густым предзакатным солнечным светом, бесстыдно и нагло полыхали на фоне ослепительно- синего неба. Осень, празднично-нарядная, пропахшая горечью увядающей растительности, дымом костров и вечерней свежестью, щедро дарила прощальное тепло, вызывая в моей душе жгучую злобу.
Наглухо заколоченные оконные рамы не пропускали ни одной струйки свежего воздуха. И если все обитатели интерната ловили открытыми частями тела ласковые, прощальные поцелуи солнца, вдыхали горьковатый осенний дух, шуршали подошвами по ковру из золотых монет, мне приходилось елозить грязной, воняющей плесенью тряпкой по щелястому деревянному полу. Руки сводило от холода, горячей воды в интернате не было.
Кровати, тумбочки, стулья и столы. Чтобы вымыть под ними пол, приходилось ложиться на живот, пачкая в пыли одежду. К пальцам липли чьи-то волосы, пару раз, я угодила ладонью в зловонную липкую лужу. Болела спина, плечи и голова. Хотелось просто лечь и забыться. А ведь кроме мытья пола мне предстояло протереть подоконники, выбить длиннющий палас и заправить кровати. Время неумолимо утекало, а я ни на йоту не продвинулась в наведении порядка в этой проклятой комнатушке. Пол, сколько я не елозила тряпицей по деревяшкам, оставался таким же пыльным и липким, скатанный в рулон, на метр выше меня, палас, терпеливо дожидался своей очереди. Десять кроватей, развороченные, уродливые в своём беспорядке, угрожающе серели в весёлой желтизне осеннего дня, щедро сочившегося сквозь мутные оконные стёкла.
Отчаяние подкрадывалось постепенно, холодной скользкой лапой сжимая сердце, щекоча кишечник.
– Не успеешь, – хлюпала тряпка ложась на пол.
Я и сама это уже знала, но продолжала остервенело надраивать, не обращая внимания на летящие в лицо грязные брызги, на ломоту в суставах, на переполненный мочевой пузырь.
С правилами дежурства по спальне меня ознакомили утром. Краснуха объяснила, что дежурный, получивший оценку комиссии ниже пятёрки, моет полы и выбивает палас и на следующий день. И так будет продолжаться до тех пор, пока жертва плесневелой тряпки и пыльного ковра не получит заветную пятёрку.
Перевернуть матрасы, вытащить подушки из наволочек и одеяла из пододеяльников была инициатива Надюхи – белокурой грудастой девахи.
– Ленусь, мне очень не нравится, как наша Рейтуза заправляет кровать. Думаю, её нужно научить, – елейно пропела она в тот момент, когда обитательницы спальни собирались на прогулку, а я с трудом затаскивала жестяное ведро, до отказу наполненное ледяной водой. Заполнить ведро так, чтобы вода переливалась за края, велела мне староста нашей спальни- всё та же великая и ужасная Ленуся.
– А это идея, – весело поддержала староста. – Вы согласны, бабцы?
Бабцам предложение Ленуси пришлось по душе. Наверняка, каждая из девушек радовалась, что немилость старосты пала не на неё. Да и смотреть на то, как унижают другого, крайне занятно и приятно, так как человек- существо жестокое. Ему доставляет удовольствие наблюдать за мучениями ближнего, ведь в это время он ощущает своё превосходство.
Ленуся и Надюха, в ту же секунду, бросились выполнять свой план, самозабвенно перекручивать простыни, переворачивать матрасы, засовывать полотенца в наволочки.
Ощущение беспомощности давило на меня тяжёлой плитой. Я сжимала жирную ручку ведра, будто этот, протёртый множеством рук кусок железа, мог мне помочь. Спорить и ругаться было бесполезно, я знала это точно. Их много, а я – одна, маленькая, слабая, беззащитная, не привыкшая к жестокости и насмешкам. Отец покрикивал на меня, придирался, но ведь рядом всегда находилась мама, которая утишала и защищала, называя кровиночкой и бедным больным ребёнком.
От этих воспоминаний на душе стало ещё гаже. Жалкое, никчемное существо, неспособное себя защитить.
Пахло недавним обедом – тушёной капустой. Во рту так же присутствовал кисловатый привкус, и жгло в желудке. Если вчера меня тошнило от одного только запаха еды, то сегодня мой желудочно-кишечный тракт бунтовал , бурлил, ныл и горел изнутри, требуя пищи.
Звонок резкий, словно раздражённый, разрывает тишину. Всё! Не успела! Палас так и остался не выбитым, да и как бы мне это удалось, поди, спусти эдакую бандуру со второго на первый этаж, да вынеси её на улицу. Не заправленными остались и кровати. Плевать! Больше не могу! Руки уже не ноют, они ревут от холода, в пояснице стреляет, а в голове бьют колокола. Встаю с пола, иду к ведру, чтобы до прихода комиссии вылить грязную воду. Нога скользит на чём-то маленьком и я падаю. Ведро выпадает из руки, переворачивается, на полу образовывается лужа. Чувствую, как моя кофта становится мокрой, как липнет к коже ткань. Лежу в луже, устало и обречённо смотрю в потолок, будь что будет.
После второго звонка открылась дверь и у входа в комнату выстроились три квадрата, красный, в котором я сразу узнала Наталью Георгиевну, белый – школьный медработник и коричневый – завуч.
– А ну, встань! – рявкнула Краснуха.
Я попыталась встать, но вновь упала. Нога опять наступила на странное нечто. Потянулась к нему и подняла чей-то носок. Чёрт! Как же это отвратительно плохо видеть. Если бы не он.… Ну да ладно, что теперь об этом говорить?
– Да уж, Наталья Георгиевна, приучение детей к труду у вас, как я погляжу, проходит успешно, – проскрипел коричневый квадрат, с кислинкой ехидства в голосе.
– Ольга Валентиновна, – зато в грубом, деревенско – развязно говоре Краснухи проступили капельки приторного мёда. – Эта девочка была, до сей поры, на индивидуальном обучении, за неё всё делала мать, даже мыла, даже трусики стирала. Представляете? Вот и приходится биться…
– Заметно, – усмехнулся белый квадрат с обманчивой весёлостью. Голосок медика был тонким и звонким, как весенняя капель, но нотки отстранённой прохладцы не оставляли никаких сомнений в том, что происходящее её ни чуть не веселит, и даже раздражает. – Единица, однозначно единица.
– Даю установку, – провозгласила завуч. – Обучить новенькую всему за неделю. Вы меня поняли, Наталья Георгиевна, Макаренко вы наш доморощенный.
Коричневый и белый квадрат исчезли, а Краснуха подскочила ко мне.
К тому времени я уже поднялась на ноги и стояла мокрая, растрёпанная, теребя в руках чужой носок.
По телу волнами пробегала гадкая дрожь. Краснуха приблизила ко мне своё лицо, багровое, блестящее от пота, крупным носом и кустистыми бровями.
– Немедленно в класс, на самоподготовку, – процедила она сквозь зубы, несколько капель слюны упало мне на щёку, но я не решилась смахнуть их рукой, дабы не прогневить грозную воспитательницу ещё больше.
Огромная ручища ухватила меня за шиворот и потащила в коридор.
– Мне нужно сменить одежду, – пискнула я, на что Краснуха злорадно осклабилась.
– Ну, уж нет, – пропела она. – Пусть все посмотрят на тебя, такую мокрую и грязную. Весь вечер у меня будешь так ходить, дорогуша.
Грифели с хрустом протыкали ватман, шуршали страницы учебников. Муха, случайно залетевшая в окно раздражённо жужжа, просилась на волю. Мне тоже хотелось на волю, прочь от духоты, от насмешливых шепотков, от внимания Натальи Георгиевны, от грозящей мне вечерней расправы. В том, что она состоится, я даже не сомневалась. Не даром Краснуха о чём-то долго шепталась с Ленусей и Надюхой, а те, гаденько хихикали.
Задача не решалась, да и до математики ли мне было? Ой нет, не могу! Цифры смешиваются, забываются, условие кажется сумбурным. Строители, бетонные блоки. Тьфу! Тоска зелёная! Лучше литературу почитать. Итак, Александр Сергеевич Грибоедов «Горе от ума».
Но и метания Чадского, и любовные переживания Сони казались глупыми, высосанными из пальца по сравнению с моими бедами. Их-то никто не заставляет наводить порядок в комнате, где проживает десять человек и сидеть в мокрой и грязной одежде.
– Давид Львович приехал, – шепнула Надюха своей подружке.
Их спины закрывали меня от взгляда Краснухи, и я была этому рада, хоть какая-то польза от этих девиц.
– А он уезжал?– голос Ленуси представлялся мне чёрным, шершавым, словно наждак. – Где он шлялся-то?
– Домой к себе уезжал, – в голоске Надюхи мне слышалось шуршание полиэтилена, к тому же она немножко пришепётывала. – У него мать умерла, отец у Давида больной, старый уже. Вот наш псих и ездил с похоронами помочь, ну и с матерью попрощаться, конечно.
– А ты, я смотрю, уже с ним и пообщаться успела?
– А то, – полиэтилен зашуршал чуть нежнее. – Я его о походе для девятиклассников спросила, мол нельзя традиции нарушать. И он сказал, что на этих выходных пойдём. Мне показалось, что он по мне соскучился. Представляешь, Давидка мне на плечо руку положил. Ведь это что-то значит, правда значит, а, Ленусь?