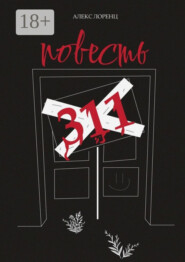По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Щань. Повесть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Исчезло село – заросло кладбище. И не надо много времени, чтоб оно стёрлось. За полвека любой деревянный крест без поновления в труху рассыплется. То же самое с гробницами: раньше-то их тоже из дерева делали, никаких вам железных да каменных. А дерево – оно быстро гниёт.
А холмики… а что холмики? Травой зарастут, корни их помаленьку разворотят – вот и конец. Нету больше могилки. Была – и нету.
А потом где-нибудь поблизости новый погост делают. После войны их особенно много новых повырастало – как грибы. Старые стирались, новые уж в других местах делались.
Повсюду эти курганы да рощи, где раньше кладбища были. Повсюду. Даже вот под вашим домом. Кости ещё глодает сырая земля, а наверху уж новая деревня стоит. Или новый городской микрорайон.
Вся Россия-матушка – одно большое кладбище. Под землёй – слои да слои мертвецов…
Вон, в Михайловке нашей – одно кладбище общедеревенское, одно родовое, одно семейное. Тимофейки Герасимова и жена тама, на семейном, упокоилась, и дети, и племянник. А самого Тимофейку в лагеря угнали. Как подкулачника. Много тогда народу-то полегло, ой мно-о-о-о-о-о-ого. Тяжкий был год…
Прохор задремал, лишь когда отзвонил, отдребезжал заведённый Бергом на четыре утра сварливый будильник. Ещё нескоро робкая утренняя серость проклюнется сквозь черноту дождливой ночи.
Он уснул, забившись в угол, с топором в обнимку. Долго просидел так, боялся шевельнуться: воображение рисовало бабку с внучонком, стоящих на крыльце за дверью, запертой на хлипкую щеколду. Так и задремал.
Неизвестно, сколько бы пробыл в тяжёлом забытьи, если б не разбудила проклятая «Вега». Слушая старушечье шамканье о деревне Михайловке, он продолжал сидеть с закрытыми глазами, съёжившись. От неудобного положения ныли мышцы. Ныли кости. Ныли сухожилия. Ноги занемели, стали деревянными.
«Вега»…
По крыше глухо, лениво молотил похмельный дождь.
Мысли худо-бедно пришли в порядок, в памяти восстановились события…
Это и вправду было? – подумал он.
Пожалуй, про бабку с внучонком примерещилось. Или приснилось… Он вообще выходил ночью? Или просто спал и видел сон? Но тогда почему сейчас сидит в углу с топором в обнимку?
И почему играет «Вега»?
А, да! Женька вернулся! Шалопай поганый! Это он радио включил. Дурак…
Прохор наконец открыл глаза. Женьки в доме не было.
Конечно, как же он мог вернуться, если дверь заперта на щеколду?..
А была ли она заперта, когда Прохор ночью выходил искать Женьку? Похоже, что так.
А выходил ли Прохор? Или всё же приснилось?
Если приснилось, то как могло получиться, что Берг вышел, а дверь потом оказалась заперта на щеколду?..
Не надо было пить вчера – вот что. Мера – понятие растяжимое. Спирт не пиво, с ним осторожность нужна.
Он кое-как заставил мышцы работать, поднялся на ноги.
Дождь не только молотил по крыше, но и стукал по полу. Именно в эту ночь кровля домишки прохудилась. Капало из прорехи редко, но к утру успела натечь лужица.
– Много тогда народу-то полегло, ой мно-о-о-о-о-о-ого. Тяжкий был год…
Михайловка… Знакомое название. Нет ли тут рядом Михайловки? Может, и есть. Кажется, видел на карте. Наверняка деревень с этим названием прорва по всему Союзу…
Он потянулся к приёмнику, чтобы выключить. Словно почувствовав, что он собирается сделать, «Вега» прервала рассказ о сталинских репрессиях на деревне. Из динамика донёсся хриплый шум переключения.
– Пси-волна… двадцатый уровень… мощность тридцать четыре… направление юго-запад… Щань…
Мужской голос с металлическими нотками, словно пропущенный сквозь несколько динамиков.
Пси-волна…
Что-то такое Прохору попадалось не то в какой-то современной книжке, не то в журнале…
В горле стояла шершавая, колючая сухость. Промочив глотку водой из пластиковой бутылки, он долго вглядывался в мутные мокрые силуэты за окном – раздумывал, что делать дальше.
При свете дня отыскать озерцо оказалось нетрудно. К нему привела узкая, но хорошо утоптанная тропинка, что хитро петляла меж деревьев. Водоём маленький, окружён топью. Подход всего один – и тот почти затоплен дождями. Едва удалось отыскать среди пожелтелого камыша. Границы берегов размыты. Не провалиться бы…
Осторожно ступая, он двинулся поближе к тому месту, где из воды торчали гнилые обломки деревянных мостков. Остановился, когда нога сочно чавкнула и утонула по щиколотку. Оттуда открывался вид на всё вышедшее из берегов озеро, обрамлённое седым, изрядно полысевшим камышом.
Женьки не видать. Либо потерялся и шастает в окрестностях, либо утоп. Утопнуть много ума не надо – достаточно пьяному поскользнуться в грязи да ухнуть в лужу поглубже. Так, наверное, и случилось. Через месяц придут холода. Лежащее ничком тело покроется ледяной корочкой. Потом пойдёт снег. С первым апрельским теплом труп вспухнет, начнёт разлагаться и вонять. Вернутся из спячки дикие звери, придут на пир. Что не доедят они, то дожрут жуки да червяки. До голых косточек охотнички тоже найдутся. Бабка сварганит для внучонка наваристый бульон.
– Нет уж, сам я тебя в этих дебрях не отыщу, – сказал Прохор вслух, озираясь. – Пусть менты ищут.
Продрогшие в котелке макароны с тушёнкой аппетита не вызывали. Но поесть было нужно – путь предстоял неблизкий. Он силком запихал в себя добрую порцию, заел хлебом, запил стылым чаем. Накрыл котелок крышкой, поставил в угол. Сунул в рюкзак оставшуюся банку тушенки. На клочке газеты написал карандашом: «Ушёл в Сосновое Болото искать участкового. Тебя искал, не нашёл. Прохор». Оставил на видном месте.
Женькины пожитки аккуратно сложил у стенки, ничего не взял – даже топор оставил. Мало ли, вернётся Женька. Хотя Прохор был уверен: не вернётся.
В сухую погоду идти по этой просёлочной дороге было легко – можно сказать, одно удовольствие. Зато после хорошего затяжного дождичка она раскисла, расхлябилась. Ноги если не скользили, то увязали. На сапоги налипали жирные комья глинистой грязи.
Часа через два он понял, что не узнаёт местность. Они с Бергом тут точно не проходили. Впереди за пеленой дождя виднелся протяжённый ступенчатый склон, в конце которого, вдалеке, тянулась ЛЭП.
В другую погоду и при других обстоятельствах картина могла бы захватить дух. Но сейчас Прохор лишь скрипнул зубами. Он явно не туда свернул и уже, возможно, оставил позади Богдановку с Сосновым Болотом.
Придётся возвращаться, искать другую развилку, чтобы пойти на север – в большое село Красный Рог.
Он хотел закурить, но за время пути сигареты и спички отсырели в кармане, превратились в кашу. Всё обернулось против него.
Времени прошло ещё с час или полтора. Дорога с каждым шагом становилась хуже, а дождь – напористее. Уже не моросил, а лил. Двигаться приходилось не по само?й дороге, а вдоль – по кромке. Здесь пучки травы пока ещё не позволяли почве превратиться в коричневый кисель.
Местность пошла под уклон, и вскоре путь преградила вода – лужа размером с озерцо. Затопила дорогу, часть поля. Лишь кое-где над покрытой рябью поверхностью проглядывали, словно зовя на помощь, утопающие травы.
Он попробовал перейти лужищу вброд, но через пару шагов нога провалилась, в сапог через край хлынула ледяная вода. Мышцы зашлись в судороге.
Отпрянул на шаг, едва не ухнул спиной в грязную жижу. Ручейки потекли с края капюшона на лоб, залили лицо. Струйка пробралась за ворот, под свитер.
За лужей – крутая горка. Просматриваются две глубокие колеи – кто-то когда-то забуксовал. Поросли? высокой травой, которая от дождей приникла к земле. Там обогнуть самые трудные места тоже будет непросто: по сторонам – непролазный хмызник.
С Красным Рогом не вышло. Придётся возвращаться в Щань, искать третий путь. Наверняка есть дорога на юг, в Трубчевский район.
Переступил порог хуторского дома. Комната – сырая, холодная, но хотя бы без хлещущей сверху воды, без ветра, что норовит пробраться под одежду. Плотно прикрыл за собой дверь. Отряхнулся, скинул плащ – тот беспомощной мокрой кучкой плюхнулся на грязный пол.