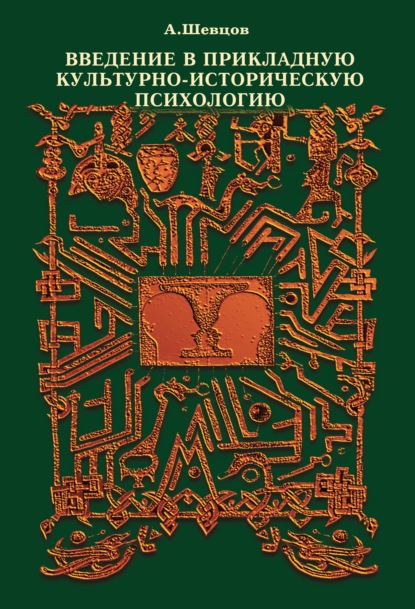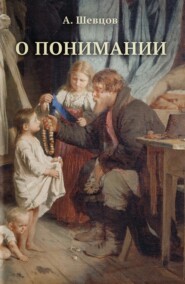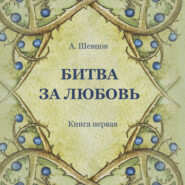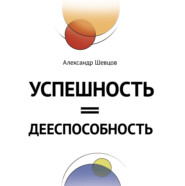По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Введение в прикладную культурно-историческую психологию
Год написания книги
2000
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но продолжу историю. Так возникло понятие «этика».
Понятие «мораль», возникает несколькими веками позже в Риме.
«Для точного перевода аристотелевского понятия этического с греческого языка на латинский Цицерон сконструировал термин “moralis” (моральный). Он образовал его от слова “mos” (mores – множественное число) – латинского аналога греческого “этос”, означавшего характер, темперамент, моду, покрой одежды, обычай. Цицерон, в частности, говорил о моральной философии, понимая под ней ту же область знания, которую Аристотель называл этикой. В IV веке н. э.в латинском языке появляется термин “moralitas” (мораль), являющийся прямым аналогом греческого термина “этика”» (Гусейнов, Апресян, с. 9–10).
В Европу слово мораль проникает только в эпоху Возрождения, а попытки понять, что оно означает, начинаются лишь в Новое время, то есть не раньше семнадцатого века.
Как вы понимаете, искать в сознании европейцев какое-то отличное от слова «этика» значение для слова «мораль» бессмысленно, хотя и возможно. Но это будет лишь искусственное различение.
Вполне естественно, что эти слова, поскольку их использовали очень крупные мыслители в сочинениях, оказавших огромное влияние на умственное развитие западного человечества, использовались в речи как заимствования. Просто потому, что не было иных слов для обозначения этих предметов. Однако так было не всегда.
Французский, правда, так до сих пор и пользуется латинской «моралью», оправдывая свою принадлежность к романским языкам, то есть языкам, основывающимся на культуре Рима. Зато германский и славянский языки предпочли быть независимыми. Поэтому в немецком и русском есть свои слова для передачи этого понятия. «Это в русском языке “нравственность”, в немецком языке “Sittlichkeit”. Они, насколько можно судить, повторяют историю возникновения терминов “этика” и “мораль”: от слова “нрав” (Sitte) образуется прилагательное “нравственный” (Sittlich) и от него уже – новое существительное “нравственность”» (Там же, с.10).
Это «насколько можно судить» в устах лучших русских знатоков этики очень показательно. Русская наука об этике, похоже, не озадачилась тем, чтобы выяснить для себя, как и когда появляется в русском языке слово «нравственность». Этимологические словари русского языка такого слова не знают. Нет его и в «Словаре древнерусского языка» Срезневского, а вот для Даля оно уже привычно, будто знакомо с детства и само собой разумеется. Это значит, что оно возникает не позже начала девятнадцатого века. В действительности оно уже есть в «Словаре Академии Российской» 1793 года. Точней сказать не могу.
Но тогда же к русским мозгам прививается французскими гувернантками и цирюльниками и словечко «мораль». Прививается в несколько неожиданном значении:
«Значительно сложнее с понятиями “мораль” и “нравственность”. До сих пор считается, что в русском языке это просто синонимы. Собственно говоря, так оно и было… Научная литература настаивает на их тождестве, и во всех словарях эти два слова пишутся как синонимы. Но самый живой, обыденный, разговорный язык тут же опровергает это. В общеизвестном выражении “Ну вот! Нам опять прочитали мораль” невозможно заменить это слово на “нравственность”.Почему?
Объяснение опять-таки дает история. Слово “мораль” пришло из французского языка. Гувернеры-французы своим воспитанникам в буквальном смысле слова “читали мораль” – то есть наставления, назидания, касающиеся правильного поведения. “Нрав” не имел ничего общего с книжной ученостью. Произведенное от “нрав” понятие “нравственность” касалось реального поведения, практического действия, поступка.
То есть понятие “мораль” относится к сфере сознания (моральный кодекс, моральные нормы, моральный выбор), тогда как понятие “нравственность” характеризует реальное поведение (нравственный поступок, нравственный конфликт). Отсюда – удачное выражение, предложенное Н.Н.Крутовым: “Нравственность – мораль в действии”» (Иванов В.Г., с. 8–9).
Прекрасное историческое объяснение профессора Иванова, хотя я и не соглашусь с итоговым выводом. Возможно, сейчас, глядя на то, что мы имеем, и можно увидеть взаимоотношения морали и нравственности как созерцания и праксиса, говоря языком Аристотеля. Но в действительности различия объяснены все той же историей, которую рассказал Иванов. Мораль – это правила поведения, которые читались детям того сословия, которое могло позволить себе нанять французского гувернанта. В сущности, французская мораль – это этикет, правила поведения правящего сообщества.
А русские нрав, норов и нравственность – это не этикет, это то, что определяет поведение простого русского человека. Различия в понимании русских «морали» и «нравственности» – классовые или сословные. А широта распространения у нас «этики», «морали» и «этикета» объясняется, в первую очередь, страстным желанием сначала русского дворянства, а потом интеллигенции приобщиться к власти через европейское образование и европейский облик.
В 1920 году в России прекратили преподавать этику как предмет. С тех пор в нравственной философии происходил упадок, а в языке – беспредел и путаница.
Поэтому я завершу эту главу определением из учебника этики А.Гусейнова и Р.Апресяна, которое считаю наиболее приемлемым. Оно хорошо еще и тем, что четко разграничивает сферы использования каждого из понятий, что почти несвойственно нашим ученым.
«В рамках учебной дисциплины “этикой” мы будем называть науку, область знания, интеллектуальную традицию, а “моралью” или “нравственностью”, употребляя эти слова как синонимы – то, что изучается этикой, ее предмет» (Гусейнов, Апресян, с.11).
Это лучшее определение нашей науки, хотя, как вы уже поняли, и оно не совсем точно. Но это данность, в которой существует наука о нравственности. Данность и ограничение, потому что, несмотря на заветы Аристотеля, философы не изучают нравственность психологически, как деятельность души. Они только поминают о душевных проявлениях, но затем одергивают себя. Все-таки этика – это наука самоограничения.
Как писал Кант, вслед за Аристотелем очень ратовавший за «этическое государство», в одном из своих сочинений:
«…ведь здесь ставится также вопрос о месте души как в аспекте ее способности воспринимать чувственные данные, так и в аспекте ее способности сообщать движущую силу.
Тем самым искомый ответ может вызвать спор двух факультетов по вопросу о границах их компетенции – медицинского, к ведению которого относится анатомия и физиология, и философского, к ведению которого относится психология…
…и здесь легко могут возникнуть неприятности, связанные со спором факультетов о том, кому из них надлежит вынести решение по вопросу, предложенному в том или ином случае университету (как учреждению, являющему собой сосредоточие всей мудрости)» (Кант, Об органе души, с.620).
Глава 3
Что же такое нравственность философов?
Итак, философы считают, что этика – это наука о нравственности и морали. Мораль я разбирать не хочу, потому что для русского человека это не более, чем занесенный на нашу землю европейский этикет прошлых веков. Он, безусловно, способ управления поведением, но только определенного класса людей. Когда-то аристократов, сейчас – тех, кто считает себя повыше, пообразованней других.
Неплохо бы теперь было понять, что же понимают философы под русским словом «нравственность».
Дело это непростое. Философы чрезмерно отягощены делами своего сообщества и трудно пишут для простых людей. Самым показательным является пример первого русского философского словаря Эрнеста Радлова.
Радлов настолько занят нерусскими делами философов, что попросту отказывает нравственности в праве на существование и пишет в статье «Нравственность: смотри этика».
А этике дает определение как «учению о нравственности и человеческой деятельности», естественно, не дав определения ни одному из этих составляющих для него этику понятий. А затем сам постоянно сбивается на использование по-бытовому понятного ему слова нравственность. Но при этом так ничего и не говорит о ней, а целых две с половиной страницы очень мелкого шрифта излагает, что говорили об этике самые разные учения и школы. Иначе говоря, затаскивает читателя в жизнь сообщества, подменив этим действительную задачу словаря.
Брать понятие нравственности из старых работ европейских мыслителей тоже бессмысленно. Во-первых, они все-таки писали не о нравственности, во-вторых, у тех, кто считается главными творцами этического учения, как на подбор есть одна помеха пониманию действительной природы нравственности. Помеха эта психологическая. Объясню на трех примерах – Аристотеля, Канта и Милля.
Вот Аристотель заявляет мысль, которая ощущается бесспорной не только мной, но и всеми философами: в основе нравственности – душевные движения. Поэтому этика должна выводиться из психологии и вести к той цели, ради которой творит ее создатель. Если это государственник, то к этическому государству, то есть к государству, где люди нравственны в том смысле, в каком они удобны для государственного управления. Удобны, поскольку их делают управляемыми не только принуждения и законы, но и внутреннее чувство.
Для этого этика или искусственно создаваемая государством нравственность должны доходить до людских сердец или душ. Пример подобного творения мы видели и даже пробовали на себе, когда были частью новой общности людей – Советского народа. Творцы коммунизма хорошо понимали, как важно заложить в сознание управляемой толпы новые мировоззрение и нравственность, и творили их вполне осознанно и даже успешно… до какой-то черты.
Нравственность должна доходить до души…
То есть докуда?
Не хочу разворачивать длинное исследование, воспользуюсь словами издававшего этические сочинения Аристотеля Ф.Кессиди, опиравшегося на крупного немецкого филолога Вернера Йегера:
«Исследователи (В.Йегер) полагают, что “Никомахова этика”, а также некоторые части “Метафизики” и “Политики” были написаны Аристотелем в последний период (то есть с 336 по 322 годы) его жизни и деятельности. В это время он подвергает критике теорию идей Платона и развивает учение о форме и материи, изложенное в ранних частях “Метафизики”, а также формулирует идею о единстве души и тела. Он выдвигает концепцию, согласно которой взаимоотношение души и тела аналогично отношению формы и материи; душа является энтелехией (“осуществлением” цели) тела, то есть органического существа, предназначенного для жизни; душа придает смысл и цель жизни» (Кессиди, Этические, с.6).
Это высказывание точно передает суть Аристотелева трактата «О душе», и означает это то, что для Аристотеля души нет, а есть психика… то есть нечто присущее телу, несамостоятельное, и пусть еще не деятельность нервной системы, но без тела и невозможное. А я выходил из тела! И для меня это значит очень простую вещь: Аристотель не знает действительности. А более сложная вещь такова: от этой точки по имени «понятие о душе», за которой начинаются его Этика и Политика, он движется неверным путем, он расстался с истиной.
Другой великий творец научной нравственности – Иммануил Кант – вообще чрезмерно стремился вписать себя в естественнонаучное сообщество. В прошлой главе я приводил его ужимки по поводу того, как не навлечь на себя неудовольствие ученых братьев. Вот его определение души из сноски к уже приводившемуся мною сочинению для книги Земмеринга «Об органе души»:
«Под душой следует понимать лишь способность суммировать данные представления и создавать единство эмпирической апперцепции (animus), а не субстанцию (anima) в ее полностью различенной от материи природе…» (Кант, Об органе души, с.621).
Так и тянет процитировать Булгаковского Воланда, который говорил «старику Иммануилу» что-то о том, что мудрено завернул, не поймут-с… Мудрено значит, далеко от того, что человек видит в действительности и просто узнает, как соответствие ей.
Что же касается создателя утилитарной этики Джона Стюарта Милля, то он как ловкий политический оратор завершает свою огромную «Систему логики» большим этическим трактатом в духе Аристотеля, приводя всё изложение на последней его странице не к выводу, а к мнению, которое хоть и не логично, зато эмоционально и потому действенно:
«…я просто выскажу свое убеждение, что тот общий принцип, с которым должны сообразовываться все практические правила, и тот признак, которым надо пользоваться для их испытания, есть содействие счастью человечества или, скорее, всех чувствующих существ; иначе говоря, конечный принцип телеологии есть увеличение счастья» (Милль, с.867).
Аристотель тоже начинает свою «Никомахову этику» с телеологии, то есть с целеустроения, а потом путается в том, как определить счастье. И не может не путаться, потому что счастье каждый понимает по-своему, как свое счастье. И если для Аристотеля счастьем было прожить жизнь, ощущая себя выше и умнее великих мира сего, то для друга и соратника Милля – Александра Бэна – получить уважение естественнонаучного сообщества.
Бэн был очень уважаем Миллем, потому что, как считалось, он продолжал дело его отца – Джеймса Милля, а дело это было – создание ассоциативной психологии как английского или, точнее, шотландского варианта психологии сознания. Так вот завершил Бэн это дело тем, что выпустил сочинение «Чувство и интеллект», выпустил тогда, когда «Система логики» была уже в печати, и потому Милль младший смог лишь вставить в нее небольшую сноску, в которой оценивает труд Бэна.
Сноска эта ценна тем, что она косвенно показывает, что понимал Милль под душой. У него есть большой раздел, посвященный духу и психологии, но явственного определения души он там не дает. Зато ссылка позволяет понять, что он согласен с тем, как видит душу Бэн:
«Когда была написана эта глава, профессор Бэн не выпускал еще и 1 части (Чувство и интеллект) своего глубокомысленного трактата о духе. В этом сочинении законы ассоциации изложены более обстоятельно и более обильно пояснены примерами, чем у кого бы то ни было из прежних писателей. Вообще на книгу Бэна… можно указать теперь как на несравненно более полное аналитическое изложение психических явлений на основе правильной индукции, чем какое мы находим во всех других появившихся до сих пор произведениях подобного рода» (Там же, с.776).
В действительности же эта книга Бэна была полным предательством психологии сознания и на большую часть была попыткой вывести ассоциации из работы нервной системы. Если кто-то листал этот увесистый том, то мог заметить: слово душа не поминается в его подробнейшем оглавлении, как нет его и в «Системе логики» Милля…
Счастье счастьем, но мы достигнем очень разных состояний, если отправимся из разных исходных точек. Особенно трудно достичь взаимопонимания, если мы будем говорить, что выводим нравственность из души без души.
Вот этим и болеют философские определения. Они пытаются описывать, как нравственность правит поведением людей, обращаясь не к их страху за жизнь тел и не к их стремлению удовлетворять телесные потребности, но не говоря, что же вызывает желательные изменения поведения. Выглядят такие определения подлинной эквилибристикой ума, пытающегося сказать о том, о чем нельзя сказать, не назвав имени, но очень нужно…
«Философский энциклопедический словарь» Губского, Россия, 1997:
Понятие «мораль», возникает несколькими веками позже в Риме.
«Для точного перевода аристотелевского понятия этического с греческого языка на латинский Цицерон сконструировал термин “moralis” (моральный). Он образовал его от слова “mos” (mores – множественное число) – латинского аналога греческого “этос”, означавшего характер, темперамент, моду, покрой одежды, обычай. Цицерон, в частности, говорил о моральной философии, понимая под ней ту же область знания, которую Аристотель называл этикой. В IV веке н. э.в латинском языке появляется термин “moralitas” (мораль), являющийся прямым аналогом греческого термина “этика”» (Гусейнов, Апресян, с. 9–10).
В Европу слово мораль проникает только в эпоху Возрождения, а попытки понять, что оно означает, начинаются лишь в Новое время, то есть не раньше семнадцатого века.
Как вы понимаете, искать в сознании европейцев какое-то отличное от слова «этика» значение для слова «мораль» бессмысленно, хотя и возможно. Но это будет лишь искусственное различение.
Вполне естественно, что эти слова, поскольку их использовали очень крупные мыслители в сочинениях, оказавших огромное влияние на умственное развитие западного человечества, использовались в речи как заимствования. Просто потому, что не было иных слов для обозначения этих предметов. Однако так было не всегда.
Французский, правда, так до сих пор и пользуется латинской «моралью», оправдывая свою принадлежность к романским языкам, то есть языкам, основывающимся на культуре Рима. Зато германский и славянский языки предпочли быть независимыми. Поэтому в немецком и русском есть свои слова для передачи этого понятия. «Это в русском языке “нравственность”, в немецком языке “Sittlichkeit”. Они, насколько можно судить, повторяют историю возникновения терминов “этика” и “мораль”: от слова “нрав” (Sitte) образуется прилагательное “нравственный” (Sittlich) и от него уже – новое существительное “нравственность”» (Там же, с.10).
Это «насколько можно судить» в устах лучших русских знатоков этики очень показательно. Русская наука об этике, похоже, не озадачилась тем, чтобы выяснить для себя, как и когда появляется в русском языке слово «нравственность». Этимологические словари русского языка такого слова не знают. Нет его и в «Словаре древнерусского языка» Срезневского, а вот для Даля оно уже привычно, будто знакомо с детства и само собой разумеется. Это значит, что оно возникает не позже начала девятнадцатого века. В действительности оно уже есть в «Словаре Академии Российской» 1793 года. Точней сказать не могу.
Но тогда же к русским мозгам прививается французскими гувернантками и цирюльниками и словечко «мораль». Прививается в несколько неожиданном значении:
«Значительно сложнее с понятиями “мораль” и “нравственность”. До сих пор считается, что в русском языке это просто синонимы. Собственно говоря, так оно и было… Научная литература настаивает на их тождестве, и во всех словарях эти два слова пишутся как синонимы. Но самый живой, обыденный, разговорный язык тут же опровергает это. В общеизвестном выражении “Ну вот! Нам опять прочитали мораль” невозможно заменить это слово на “нравственность”.Почему?
Объяснение опять-таки дает история. Слово “мораль” пришло из французского языка. Гувернеры-французы своим воспитанникам в буквальном смысле слова “читали мораль” – то есть наставления, назидания, касающиеся правильного поведения. “Нрав” не имел ничего общего с книжной ученостью. Произведенное от “нрав” понятие “нравственность” касалось реального поведения, практического действия, поступка.
То есть понятие “мораль” относится к сфере сознания (моральный кодекс, моральные нормы, моральный выбор), тогда как понятие “нравственность” характеризует реальное поведение (нравственный поступок, нравственный конфликт). Отсюда – удачное выражение, предложенное Н.Н.Крутовым: “Нравственность – мораль в действии”» (Иванов В.Г., с. 8–9).
Прекрасное историческое объяснение профессора Иванова, хотя я и не соглашусь с итоговым выводом. Возможно, сейчас, глядя на то, что мы имеем, и можно увидеть взаимоотношения морали и нравственности как созерцания и праксиса, говоря языком Аристотеля. Но в действительности различия объяснены все той же историей, которую рассказал Иванов. Мораль – это правила поведения, которые читались детям того сословия, которое могло позволить себе нанять французского гувернанта. В сущности, французская мораль – это этикет, правила поведения правящего сообщества.
А русские нрав, норов и нравственность – это не этикет, это то, что определяет поведение простого русского человека. Различия в понимании русских «морали» и «нравственности» – классовые или сословные. А широта распространения у нас «этики», «морали» и «этикета» объясняется, в первую очередь, страстным желанием сначала русского дворянства, а потом интеллигенции приобщиться к власти через европейское образование и европейский облик.
В 1920 году в России прекратили преподавать этику как предмет. С тех пор в нравственной философии происходил упадок, а в языке – беспредел и путаница.
Поэтому я завершу эту главу определением из учебника этики А.Гусейнова и Р.Апресяна, которое считаю наиболее приемлемым. Оно хорошо еще и тем, что четко разграничивает сферы использования каждого из понятий, что почти несвойственно нашим ученым.
«В рамках учебной дисциплины “этикой” мы будем называть науку, область знания, интеллектуальную традицию, а “моралью” или “нравственностью”, употребляя эти слова как синонимы – то, что изучается этикой, ее предмет» (Гусейнов, Апресян, с.11).
Это лучшее определение нашей науки, хотя, как вы уже поняли, и оно не совсем точно. Но это данность, в которой существует наука о нравственности. Данность и ограничение, потому что, несмотря на заветы Аристотеля, философы не изучают нравственность психологически, как деятельность души. Они только поминают о душевных проявлениях, но затем одергивают себя. Все-таки этика – это наука самоограничения.
Как писал Кант, вслед за Аристотелем очень ратовавший за «этическое государство», в одном из своих сочинений:
«…ведь здесь ставится также вопрос о месте души как в аспекте ее способности воспринимать чувственные данные, так и в аспекте ее способности сообщать движущую силу.
Тем самым искомый ответ может вызвать спор двух факультетов по вопросу о границах их компетенции – медицинского, к ведению которого относится анатомия и физиология, и философского, к ведению которого относится психология…
…и здесь легко могут возникнуть неприятности, связанные со спором факультетов о том, кому из них надлежит вынести решение по вопросу, предложенному в том или ином случае университету (как учреждению, являющему собой сосредоточие всей мудрости)» (Кант, Об органе души, с.620).
Глава 3
Что же такое нравственность философов?
Итак, философы считают, что этика – это наука о нравственности и морали. Мораль я разбирать не хочу, потому что для русского человека это не более, чем занесенный на нашу землю европейский этикет прошлых веков. Он, безусловно, способ управления поведением, но только определенного класса людей. Когда-то аристократов, сейчас – тех, кто считает себя повыше, пообразованней других.
Неплохо бы теперь было понять, что же понимают философы под русским словом «нравственность».
Дело это непростое. Философы чрезмерно отягощены делами своего сообщества и трудно пишут для простых людей. Самым показательным является пример первого русского философского словаря Эрнеста Радлова.
Радлов настолько занят нерусскими делами философов, что попросту отказывает нравственности в праве на существование и пишет в статье «Нравственность: смотри этика».
А этике дает определение как «учению о нравственности и человеческой деятельности», естественно, не дав определения ни одному из этих составляющих для него этику понятий. А затем сам постоянно сбивается на использование по-бытовому понятного ему слова нравственность. Но при этом так ничего и не говорит о ней, а целых две с половиной страницы очень мелкого шрифта излагает, что говорили об этике самые разные учения и школы. Иначе говоря, затаскивает читателя в жизнь сообщества, подменив этим действительную задачу словаря.
Брать понятие нравственности из старых работ европейских мыслителей тоже бессмысленно. Во-первых, они все-таки писали не о нравственности, во-вторых, у тех, кто считается главными творцами этического учения, как на подбор есть одна помеха пониманию действительной природы нравственности. Помеха эта психологическая. Объясню на трех примерах – Аристотеля, Канта и Милля.
Вот Аристотель заявляет мысль, которая ощущается бесспорной не только мной, но и всеми философами: в основе нравственности – душевные движения. Поэтому этика должна выводиться из психологии и вести к той цели, ради которой творит ее создатель. Если это государственник, то к этическому государству, то есть к государству, где люди нравственны в том смысле, в каком они удобны для государственного управления. Удобны, поскольку их делают управляемыми не только принуждения и законы, но и внутреннее чувство.
Для этого этика или искусственно создаваемая государством нравственность должны доходить до людских сердец или душ. Пример подобного творения мы видели и даже пробовали на себе, когда были частью новой общности людей – Советского народа. Творцы коммунизма хорошо понимали, как важно заложить в сознание управляемой толпы новые мировоззрение и нравственность, и творили их вполне осознанно и даже успешно… до какой-то черты.
Нравственность должна доходить до души…
То есть докуда?
Не хочу разворачивать длинное исследование, воспользуюсь словами издававшего этические сочинения Аристотеля Ф.Кессиди, опиравшегося на крупного немецкого филолога Вернера Йегера:
«Исследователи (В.Йегер) полагают, что “Никомахова этика”, а также некоторые части “Метафизики” и “Политики” были написаны Аристотелем в последний период (то есть с 336 по 322 годы) его жизни и деятельности. В это время он подвергает критике теорию идей Платона и развивает учение о форме и материи, изложенное в ранних частях “Метафизики”, а также формулирует идею о единстве души и тела. Он выдвигает концепцию, согласно которой взаимоотношение души и тела аналогично отношению формы и материи; душа является энтелехией (“осуществлением” цели) тела, то есть органического существа, предназначенного для жизни; душа придает смысл и цель жизни» (Кессиди, Этические, с.6).
Это высказывание точно передает суть Аристотелева трактата «О душе», и означает это то, что для Аристотеля души нет, а есть психика… то есть нечто присущее телу, несамостоятельное, и пусть еще не деятельность нервной системы, но без тела и невозможное. А я выходил из тела! И для меня это значит очень простую вещь: Аристотель не знает действительности. А более сложная вещь такова: от этой точки по имени «понятие о душе», за которой начинаются его Этика и Политика, он движется неверным путем, он расстался с истиной.
Другой великий творец научной нравственности – Иммануил Кант – вообще чрезмерно стремился вписать себя в естественнонаучное сообщество. В прошлой главе я приводил его ужимки по поводу того, как не навлечь на себя неудовольствие ученых братьев. Вот его определение души из сноски к уже приводившемуся мною сочинению для книги Земмеринга «Об органе души»:
«Под душой следует понимать лишь способность суммировать данные представления и создавать единство эмпирической апперцепции (animus), а не субстанцию (anima) в ее полностью различенной от материи природе…» (Кант, Об органе души, с.621).
Так и тянет процитировать Булгаковского Воланда, который говорил «старику Иммануилу» что-то о том, что мудрено завернул, не поймут-с… Мудрено значит, далеко от того, что человек видит в действительности и просто узнает, как соответствие ей.
Что же касается создателя утилитарной этики Джона Стюарта Милля, то он как ловкий политический оратор завершает свою огромную «Систему логики» большим этическим трактатом в духе Аристотеля, приводя всё изложение на последней его странице не к выводу, а к мнению, которое хоть и не логично, зато эмоционально и потому действенно:
«…я просто выскажу свое убеждение, что тот общий принцип, с которым должны сообразовываться все практические правила, и тот признак, которым надо пользоваться для их испытания, есть содействие счастью человечества или, скорее, всех чувствующих существ; иначе говоря, конечный принцип телеологии есть увеличение счастья» (Милль, с.867).
Аристотель тоже начинает свою «Никомахову этику» с телеологии, то есть с целеустроения, а потом путается в том, как определить счастье. И не может не путаться, потому что счастье каждый понимает по-своему, как свое счастье. И если для Аристотеля счастьем было прожить жизнь, ощущая себя выше и умнее великих мира сего, то для друга и соратника Милля – Александра Бэна – получить уважение естественнонаучного сообщества.
Бэн был очень уважаем Миллем, потому что, как считалось, он продолжал дело его отца – Джеймса Милля, а дело это было – создание ассоциативной психологии как английского или, точнее, шотландского варианта психологии сознания. Так вот завершил Бэн это дело тем, что выпустил сочинение «Чувство и интеллект», выпустил тогда, когда «Система логики» была уже в печати, и потому Милль младший смог лишь вставить в нее небольшую сноску, в которой оценивает труд Бэна.
Сноска эта ценна тем, что она косвенно показывает, что понимал Милль под душой. У него есть большой раздел, посвященный духу и психологии, но явственного определения души он там не дает. Зато ссылка позволяет понять, что он согласен с тем, как видит душу Бэн:
«Когда была написана эта глава, профессор Бэн не выпускал еще и 1 части (Чувство и интеллект) своего глубокомысленного трактата о духе. В этом сочинении законы ассоциации изложены более обстоятельно и более обильно пояснены примерами, чем у кого бы то ни было из прежних писателей. Вообще на книгу Бэна… можно указать теперь как на несравненно более полное аналитическое изложение психических явлений на основе правильной индукции, чем какое мы находим во всех других появившихся до сих пор произведениях подобного рода» (Там же, с.776).
В действительности же эта книга Бэна была полным предательством психологии сознания и на большую часть была попыткой вывести ассоциации из работы нервной системы. Если кто-то листал этот увесистый том, то мог заметить: слово душа не поминается в его подробнейшем оглавлении, как нет его и в «Системе логики» Милля…
Счастье счастьем, но мы достигнем очень разных состояний, если отправимся из разных исходных точек. Особенно трудно достичь взаимопонимания, если мы будем говорить, что выводим нравственность из души без души.
Вот этим и болеют философские определения. Они пытаются описывать, как нравственность правит поведением людей, обращаясь не к их страху за жизнь тел и не к их стремлению удовлетворять телесные потребности, но не говоря, что же вызывает желательные изменения поведения. Выглядят такие определения подлинной эквилибристикой ума, пытающегося сказать о том, о чем нельзя сказать, не назвав имени, но очень нужно…
«Философский энциклопедический словарь» Губского, Россия, 1997: