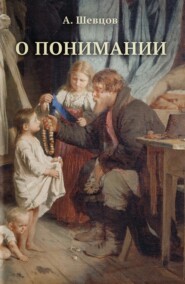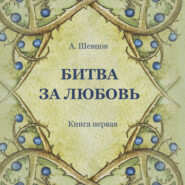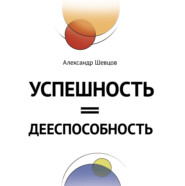По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мир Тропы. Очерки русской этнопсихологии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Иди, иди, не мешай работать!
Только отошел немного, слышит: хрясь!
– Эх ты! Вот ведь колдун, а!
Можно было бы посчитать, что колдовство они считали просто здравым смыслом. Но если быть до конца точным, то как раз здравый-то смысл они и не уважали, считая его одной из ловушек нашего мышления. Воротами в человеческое естество они считали не здравый смысл, а Разум, но рассказывать об этом придется особо, когда дойдем до их Науки мышления. К счастью, они не только делились со мной своими знаниями, они учили. Это редкая удача, я могу это уверенно заявить, потому что в моей жизни были встречи и с другими колдунами, и с шаманами, и волхвами новой формации, но о некоторых из них я узнавал, что они колдуны, только через много лет, а с некоторыми даже не смог начать разговор, как это было с одним хантыйским шаманом. Эти учили и учили, по-своему, системно. Не могу похвастаться, что и я стал колдуном, но вот понять их я постарался. Удалось ли мне это полноценно – не знаю. Как удалось, так и расскажу. Начну с истории.
Изредка мои старички рассказывали о своих отцах и дедах, но больше о прадедах. Прадеды у них были скоморохами. Целой артелью бродячих скоморохов, ходоков, пришли они в конце XVII века, но уже при Петре, в Шую, а потом «испоселились» в нескольких деревнях Шуйского, Ковровского и Суздальского уездов. Офеней так и звали в прошлом веке – суздала. Но еще их звали мазыками.
Один из моих старичков – Дядька – рассказывал мне, что мазыки или музыки – это своеобразная аристократия среди офеней, потому что они-то как раз и вели свой род от тех скоморохов-музыков. Отсюда, говорил он, и два имени блатного языка – фени, который, как общеизвестно, произошел от тайного офенского языка и до сих пор хранит многие из его слов. Процитирую Михаила Грачева. В книге «Язык из мрака: блатная музыка и феня» у него говорится: «Слово феня обозначает то же самое, что и блатная музыка, и оно, конечно, никак не связано с женским именем, а является одним из элементов воровского фразеологизма ботать по фене – “говорить на языке деклассированных”. Когда-то оно имело следующий вид: по офене болтать, т. е. говорить на языке офеней. Офени – это торговцы мелким товаром, у них был свой условно-профессиональный язык, который они использовали при обмане покупателей, в опасных ситуациях, когда нужно было скрыть свои намерения и действия. Бродячая, полная риска профессия офеней сделала их близкими к людям “дна”. И поэтому не случайно в лексике деклассированных элементов имеется значительное количество слов, перешедших из условно-профессионального языка офеней» [4]. Блатные, если верить Дядьке, не только позаимствовали у офеней тайный язык, но и заметили, что их у офеней два: общий для всех офеней и особый, на котором говорили только мазыки или музыки. Именно поэтому блатной жаргон называется то феня, то блатная музыка. Но, взяв феню, блатные не смогли освоить языка мазыков, его и офени-то знали немногие. Дядька, как и процитированный мною Грачев, считал, что это произошло из-за того, что торгашеский язык офеней подходил блатным потому, что был полуворовским. А вот мазыкская речь им попросту была не нужна, настолько она была специфически скоморошья. Называлась она, если верить Дядьке, «язык-огонь» и «язык-свет», а феню сами офени звали «маяк».
Исторических подтверждений существования таких языков у офеней я найти не смог, сколько ни старался, но, тем не менее, отказываться от этого названия не хочу, потому что очень многое рассказывалось мне с постоянными уточнениями: «На Огне это называется так-то». Даже если это очень поздняя придумка, она уже факт культуры и, к тому же, облегчает понимание той «науки», с которой мне довелось столкнуться.
Итак, дедовские записи, рассказы бабушки и несколько лет обучения у потомков офеней и, может быть, скоморохов – вот что стало начальными источниками по возрождению традиции, которую мы называем Тропой. Затем начались целенаправленные этнографические сборы и поиск подтверждений в науке – этнографии и психологии, который мы ведем уже все вместе, всей новой Тропой.
Постоянный поиск этнографических подтверждений оказался принципиально важным, потому что к девяносто шестому году умерли все старики. Мы оказались с колоссальным по объему и во многом практически не имеющим аналогов материалом на руках. Мы до сих пор по детски радуемся, когда очередное этнографическое издание, попавшее нам в руки, приносит новое подтверждение того, что мы знали по единичным свидетельствам наших учителей. Это значит для нас, что знания наши, несмотря на всю уникальность, не оторваны от общей народной культуры, и в них проступают подчас невидимые в других явлениях русской культуры законы развития русского духа. Именно это присутствие четких и даже жестких закономерностей в исследуемом материале заставило нас отойти от фольклорно-этнографического подхода в чистом виде и перейти к исследованию психологическому, рассматривая полученные знания как народную школу «наивной» психологии.
Традиция изучать народную психологию этнографически вообще родилась в России задолго до появления в конце прошлого века «народной психологии» в Германии. Сейчас бы я отнес ее к источникам или составным частям современной культурно-исторической психологии. Тем не менее, мы сохраняем за тем предметом, что описывается в этой книге, название «Прикладная этнопсихология». Этнопсихология – в значении психология этнографическая, а не этническая. А прикладная потому, что мировоззрение Тропы, которое и есть основа этой психологии, родилось в те времена, когда мир спасала еще не наука, а магия. Про магию же – когда я спросил, можно ли так говорить про русских колдунов – мой первый учитель Степаныч сказал:
– Магия значит могия. Кто могет, тот и маг!
Деды. Их обычаи заставляли их прятаться, исчезать от глаз наблюдателей и даже доброхотов. Я ходил к ним семь лет, но мне ни разу не разрешили ни фотографировать, ни записывать на магнитофон и даже вместо имен требовали использовать прозвища. Их отговорки казались подчас такими наивными! Записывать нельзя было, потому что «некогда», фотографировать – потому что «нечего тут фотографировать», рассказывать о Тропе и о них – потому что, пока ты не понял, ты наврешь, а когда поймешь, то будешь «рассказывать себя», а не о других. Даже говоря о них.
Я понимал, что это традиция, переданная им их собственными родителями и дедами, но далеко не сразу с этим смирился. Желание как-то обжулить их, обмануть и сделать тайком записи казалось мне ложью во спасение. Степаныча я боялся и поэтому нарушать запреты не рисковал. А с Дядькой однажды попробовал. Он был очень «ругучим», но с ним было не так страшно. Я взял диктофон, зарядил и спрятал во внутреннем кармане в надежде, что сумею незаметно включить, когда Дядька начнет рассказывать что-нибудь интересное. То ли он все понял, то ли почуял подвох, а может, что гораздо вероятнее, просто не мог начать настоящего разговора, пока я не в подходящем состоянии сознания, – но он мурыжил меня всяческой чепухой, наверное, часа два. Все это время я, естественно, был в напряжении, потому что боялся, что он заметит магнитофон, мысли мои постоянно сбегали к образу того, как незаметно его включать и, самое страшное, как выключать, чтобы – не дай бог! – он не щелкнул сам, когда испишет всю пленку. К тому же все это перемежалось постоянными переживаниями и по поводу того, что меня уличат во лжи – я же обещал ничего не записывать (все то же «некогда ерундой заниматься – пришел учиться, ну и учись!»), что меня вообще выгонят и больше не примут, что я вообще обгажусь, как последний обманщик и подлец. В конце концов, я не выдержал всех этих мучений, принял решение, что никогда больше ничего не буду делать тайно от стариков, сбежал под каким-то предлогом от Дядьки и быстренько спрятал магнитофон в рюкзак. И тут же понял, что сразу же и нарушил только что принятое решение ничего не делать тайком. Пришлось пойти к Дядьке и все рассказать. Вопреки всем моим ожиданиям, мы долго смеялись, и сразу же пошла интереснейшая и сложная работа. Тогда мой разум впустил в себя наипервейшее требование троповой прикладной психологии – быть искренним.
Это было на второй год моих сборов, но лишь на третий год, когда они превратились из «фольклорно-этнографических экспедиций» в учебу, я однажды осознал, что что-то во мне, точнее, в моем мировоззрении принципиально изменилось, я понял и то, что за всем в Тропе стоят глубокие психологические и психотерапевтические механизмы. В том числе и в освобождении от собственного имени, как это, кстати, делается при любых переходных обрядах во всех религиях и верованиях мира. Время идет, мои знания Тропы углубляются, и с ними растет уважение к начальным требованиям стариков. Поэтому мы до сих пор применяем этот прием на Тропе и меняем свои имена на учебные, чтобы прошлое не так тяготело над пришедшими за обновлением.
Тропа не любила о себе рассказывать. Времена были такие. «Побольше помолчишь – подольше поживешь», – говорили мне. Всего десяток лет назад один из троповых стариков поразил меня своими словами, когда я просил разрешения опубликовать какие-нибудь материалы о Тропе и о нем:
– Даже когда я умру, никогда не поминай моего имени!
– Но почему? Времена уже другие!
– Времена, может, и другие, а люди те же. У меня внуки есть.
– Ну а внукам-то что могут сделать?!
– Что? Затравят!
А он был одним из умнейших людей, которых я встречал в своей жизни, как я это сейчас понимаю. И исходил он даже не из жизненного опыта, а исключительно из знания того, как устроено человеческое мышление, какова его механика.
Не выделяться из окружения, не привлекать к себе внимания было с рождения воспитано в них обычаем. Выставить их сейчас на всеобщее обозрение значит не только нарушить этот обычай и их заветы, но и выставить искаженно. Я не смог получить свои знания о них в ходе чистого научного сбора информации. Мое общение со стариками было глубоко личным. Когда я приезжал, они все обставляли так, что мне крайне редко приходилось встречаться с их родственниками или даже соседями. Например, последний из старичков, Поханя, когда приезжала на выходные внучка с дочерьми и мужем, здоровенным битюгом лет сорока и за центнер весом, тут же говорил мне с заговорщицким видом: «Толстомордый приехал. Уходим задами в подполье». И уводил меня в маленькую избушку, которая стояла у них «на задах» – в дальнем конце огорода. И мы практически не выходили из избушки, пока родственники не заканчивали свои дела и не уезжали. Они приезжали из Коврова в основном из-за картошки, которую сажали на участке у Похани. Ни я, ни Поханя, ни его знания их просто не интересовали. Мне кажется, они считали его чокнутым. Его жена, тетя Катя, никогда нас не выдавала и спокойно «брала родственничков на себя». Она приходила только перед самым отъездом и звала Поханю прощаться. Я вначале рвался проявить вежливость и сходить вместе с ним, но мне быстро и без лишних слов объяснили, что это ни к чему. Только хуже будет. Я вспомнил недоброжелательный взгляд Толстомордого и больше не рвался.
Жена Дядьки тетя Нюра, когда я приезжал, соседей дальше крыльца не пускала: «Занят. Не беспокойте». К Дядьке в деревне относились с почтением и беспокоить в таких случаях не решались.
Кроме всего прочего, я довольно быстро понял, что я прихожу к старикам не за диссертацией, а за чем-то совсем другим. Сейчас я бы назвал это мировоззрением. И они понимали это и, если можно так выразиться, старались соответствовать моему запросу. Можно сказать, что для общения со мной, еще точнее было бы сказать, что для общения с тем вопросом, который приходил со мной, они вычленяли соответствующую часть себя из всей своей полноты. С одной стороны, это была для меня самая интересная часть этих людей, с другой, очень многое терялось, особенно бытового, повседневно-поверхностного, что было просто не нужно нам на земле нашего общения, но что обычно и составляет основной объем «личности для других». В итоге в моих описаниях они перестали быть полноценными, живыми людьми, а стали, в общем-то, литературными персонажами. Я обеднил и изменил их помимо своего желания уже тем, что своим интересом заставлял при мне жить только той частью себя, которая мне была нужна. Я определенно знаю, что если я сейчас раскрою их имена, их родственники скажут, что это неправда, наш дед или наша бабушка никогда не были такими! Он все придумал, все наврал!
Да, я многое придумал, додумал и даже приписал им. Я писал свои записи всегда значительно позже насыщенного общения и головокружительной учебы, а уж обрабатывал спустя много лет. Тогда я уже плохо помнил конкретные, точные слова, за исключением врезавшихся в память. Но зато, по прошествии лет, вдруг соединялись в моей голове разрозненные случаи, приходило понимание, и я начинал видеть, что же стояло у дедов за словами и поступками. Тогда-то я и бросался записывать свое «откровение». И тут же понимал, что очень плохо помню, как же они подводили меня к осознаванию этого. И сколько я ни пытался быть предельно точным, как этнограф при записи быличек, ничего не получалось. Я даже доходил до отчаяния. Но однажды я окончательно плюнул на свое желание состояться как ученый и решил, что полученные мной знания важнее, чем карьера и неуязвимость. Тогда, на основе старых записей, я начал создавать обобщающие образы каждого откровения. В общем, это уже мое видение. Неожиданное оправдание себе я, спустя годы, нашел в статье А. Л. Налепина, посвященной такому же собирателю-дилетанту, но одновременно классику нашей фольклористики – Н. Е. Ончукову. Современная наука упрекает его во множестве упущений, сделанных при записи сказок и былин. Однако: «Все эти очевидные для современной фольклористики аксиомы, как мы видим, были хорошо известны и фольклористам рубежа XIX–XX вв. Однако собиратель-одиночка (а именно это характерно для фольклористики той эпохи), работая на пределе физических сил и исследуя огромные в географическом отношении районы, не успевал все эти требования выполнять – надо было срочно фиксировать навсегда уходящее, и, как показала история, в этом они были правы» [5].
Со стариками нельзя было быть ученым или репортером. Передо мной сразу же и очень жестко был поставлен предельно личный вопрос: «Зачем ты пришел?» И он ставился неоднократно и всеми ими. Ставился сразу в нескольких плоскостях, начиная от Бога и Русского пути и до самых бытовых целей. И постоянно жесткий выбор – или то, или другое, но не посередке. И ответ прямо сейчас. Или уходи – если ты не искренен, то нам есть чем заняться и без тебя. По сути, выбора и не было на самом-то деле. Они меня готовы были принять только таким, с каким им было приятно проводить время. Это были последние годы их жизни, и они проводили их в свое удовольствие. Но мое мышление требовалось перестроить, убрать из него разъедающую интеллигентскую потребность сохранять множество путей к отступлению и размазывать себя недееспособной кашей по тарелке умствований. Поэтому я подвергался, с одной стороны, постоянной чистке, а с другой, перестройке мышления, «мыслена древа». А это, в первую очередь, означает искусство видеть выбор, узнавать его и принимать определенные решения, поскольку древо это строится нами из решений на основе выборов. Частенько это казалось мне чуть ли не садизмом с их стороны, по крайней мере, излишней жестокостью. Но когда через год ушел первый учитель, я понял, что времени сюсюкать действительно нет. Ни у дедов. Ни у меня. Просто ни у кого нет лишнего времени!
Ни я, ни они не такие, как это мной описано. Но там, внутри, в нашем Мире мы были такими и только такими. Там иначе нельзя.
Да, я вошел в Тропу, как в иной мир. Но как об этом рассказать? Ведь он почти ничем не отличался от привычного мира обыденности и в то же время был совсем иным. Это были те же русские деревни с их колхозно-советским наследием, в которых я жил и раньше. Но было в них что-то от Диккенсовской Лавки древностей.
Помню, в детстве я прочитал про эту лавку, которая всегда находится где-то рядом, на одной из узких и привычных до стертости Лондонских улочек, но которую никак не удается найти самому, по своей воле. Кажется, вот она улица, вот тот приметный дом, и вон за тем углом стоит она, но нет… нет… нет… А потом она внезапно сама появляется на твоем пути там, где ты ее не ждешь и не ищешь, и дарит путешествие в сказку.
И я нашел такую лавочку в Иванове – это был старый охотничий магазин, живший совершенно определенно где-то недалеко от крошечного рынка со странным именем Барашек. В витринах Магазинчика стояли старинные ружья, чучела и что-то еще, завораживавшее меня. Я не помню, бывал ли я внутри, но у витрины стоял подолгу. Мы жили не так далеко от Барашка, и иногда у меня появлялись возможности забежать к Магазинчику, но редко удавалось мне застать его на месте…
Конечно, впоследствии, уже взрослым, я разобрался в механике этого чуда. Просто там были улицы, тогда чем-то для меня схожие, и я искал не там. А потом, когда запомнил весь этот мирок, Магазинчик переехал жить в другое место… Но ведь это и есть главный вопрос человеческой жизни: в детстве, когда волшебные лавки и двери еще являются нам, мы ищем не там, а потом, вместо поиска начинаем заучивать Мир наизусть…
Однажды, находясь у стариков, я вспомнил про Лавку древностей и подумал, что мне очень повезло, раз она была у меня и не дала забыть про детство. Древность вообще завораживает и оживляет ощущение чудесности мира. И древность, которую ты помнишь, не дает отказаться от поиска.
Тропа всегда была для меня завораживающе наполнена древностью, как Волшебная лавка. Не стариной даже, а именно древностью с ее отсутствием геометрии, технологии, рекламы. Тропа, эти старички, их дома, их игры и чудеса, даже их рассуждения и записи, словно вышедшие из века деревенских славянофилов, корреспондентов этнографического бюро князя Тенишева, похожи для меня на Псковские или Новгородские церквушки шестнадцатого-пятнадцатого веков – неровные, неархитектурные и негеометрические, но словно бы выпеченные из теста и все еще теплые.
Наверное, старики и сами с наслаждением играли в Тропу. Но игра была священна для них как для потомков скоморохов, даже божественна. Они предпочитали и жить, и работать, и даже уходить играючи. Они звали своих собственных дедов и прадедов игрецами. Но если ты не выходишь из игры, то вся жизнь оказывается игрой. Не это ли и подразумевалось, когда были сказаны слова: станьте как дети?!
Я помню странные сказочные ночи со стариками в, казалось бы, таких знакомых мне Савинских и Ковровских лесах, но я помню и не менее странные ночи чудес в обычных деревенских избах, когда мы словно мчались сквозь неведомые пространства. Помню и скоморошьи издевки, и подлинные чудеса, и самокопание, чистку сознания, длящуюся сутками, просто сутками подряд! Песни, пляски, игры… и мои обиды! О! мои обиды! Как я обижался! Как я хотел сбежать от них и спасти свою личность! Как я рад, что мне это не удалось!
Не удалось!.. Это еще суметь рассказать, как не удалось! И кому не удалось! Однажды мой первый учитель Степаныч в очередной раз зацепил очень болезненный кусочек моей личности. Не все помню точно, но как-то это выходило на недооцененность. Всплывает уже образ, в котором он мне говорит, что я говно и пришел к нему, чтобы сбежать в старину, а в старину я сбегаю, чтобы отомстить всем, кто меня недооценил, не оценил по достоинству и тем обидел. А поскольку я их победить не могу, то и сбегаю в самоубийство, потому что я трус, слабак и тупица. И я переполнен ненавистью; ненавидеть всех, кто меня недооценивает – основной способ моих взаимоотношений с другими людьми, а сбегать из жизни, совершать самоубийство – основной способ взаимоотношений с самим собой. И его лично я при первой же возможности накажу тем, что сбегу и брошу, значит, убью в моем мире!
Мало того, что он меня «готовил» к такому разговору несколько суток, что, значит, делал все, чтобы такие слова ударили побольней, так к тому же это все явно не имело ко мне никакого отношения. Я ощущал в себе немало недостатков, но только не этих.
Я сидел перед ним и держался в облике ученика, сколько хватало сил, вроде бы, пытаясь все это понять. Даже, кажется, искал какие-то соответствия сказанному в своем мышлении. Вдруг мозги мои словно схлопнулись, я истощился и понял, что не могу больше сдерживаться и изображать ученика. Все, что говорил этот сумасшедший дед, было настолько неточно, неверно, не то, он ТАК не рассмотрел и не понял меня, что стало ясно – учиться у него мне больше нечему. Обижать его мне не хотелось, все-таки он старался, но ведь одновременно он и пользовался мною, чтобы поиздеваться и почувствовать себя выше кого-то! Я не люблю быть мальчиком для битья или навозом для чьей-то почвы. Подчеркнуто ровно, чтобы не обидеть, я поблагодарил Степаныча «за все, что он для меня сделал», сказал, что я многому у него научился, но мне пора идти. И начал собираться.
Он смотрел на меня, как-то странно улыбаясь, но я от усталости никак не мог понять, о чем говорит этот его взгляд, и уж совсем не замечал, что делаю именно то, что он про меня только что сказал! Я сбегал, выкидывая его из своей жизни навсегда, можно сказать, убивал его в моем мире.
Сейчас-то я вижу, какую боль он разбередил во мне, говоря про недооцененность и предательства, но тогда она даже намеком не присутствовала в моем самоосознавании. Это было для меня открытием – в нас живет и такая боль, которую мы запретили себе чувствовать и помнить. А вместе с ней мы вырезали часть себя и часть способности воспринимать мир, соответствующий этой боли. Вот так человечество и теряло Видение, за которым охотятся даже Боги мифов, и без которого никакая Магия не возможна.
Такую боль очень трудно победить, потому что желание сбежать становится с ее приходом всецельным. Сколько людей, которых я не смог удержать, сбежало с Тропы, разбередив ее!
Я помню, что состояние мое стало очень странным – видение сузилось, зрение словно стало «туннельным». Что-то гудело и шуршало в пространстве вокруг. Взгляд Степаныча начал меня пугать, и я избегал его. Я оделся и пошел к двери. Но двери там не было. Я подумал, что спутал в этом состоянии дом. И тут же понял, что это действительно так. Это в доме тети Шуры, бабушки, которая привела меня к Степанычу, дверь находилась в этом месте. И я тут же вспомнил, где дверь в этом доме, и направился туда. Но и там двери не было. Тут уж я без труда вспомнил, что в этом месте дверь была в моем собственном доме, который я купил у другой бабушки в моей родовой деревне. А у Степаныча дверь совсем в другом месте. Но и там я ее не обнаружил, но зато в памяти всплыл образ совсем случайного дома, я даже не помню, из какой местности…
Я не знаю, сколько времени я бродил по всем имевшимся у меня образам домов. Помню только, что возле последней двери я остановился, посмотрел на нее, что-то словно тонко сломалось в моей голове, и я сел рядом с дверью на корточки под стену и задумался. Не могу сказать, о чем я думал, помню только, что плакал и уснул, а когда проснулся, Степаныч с улыбкой сидел передо мной на табурете. Было по-утреннему светло, а уйти я пытался ближе к вечеру. Мне ни на миг не показалось, что это все приснилось. Но утро вечера мудренее, и я знал, что никуда не ухожу, потому что мне нужна помощь Степаныча. Я попытался подняться, чтобы сказать ему об этом, и свалился на пол, вопя от боли в ногах. Я катался по полу, скрипя зубами, а Степаныч заходился от смеха и кричал мне что-то о том, что у него бы сил не хватило проспать ночь на корточках, он мне завидует – такой подвиг совершить, и что он уже давно ждет, когда я проснусь – специально не будил, чтобы пробуждение было порадостнее! Сейчас бы я ему, конечно, сказал правильные слова, которые полагается говорить русскому человеку в таких случаях хорошим друзьям. К сожалению, я в то время еще имел запрет на настоящий русский мат!
Степаныч, однако, довольно быстро убрал мои боли, куда-то понажимав и что-то еще поделав с моими ногами, дотащил меня до стола и стал кормить.
– Степаныч, – сказал я, как только меня отпустило, – давай поработаем с недооцененностью!
– Тебе пора домой, – ответил он.
Я засмеялся, считая, что это шутка, что после того, когда он таким образом не отпустил меня, мы просто обязаны с ним залезть в эту мою проблему. Но он набил меня пищей поплотнее и действительно отправил домой, сказав только на дорогу:
– Теперь ты справишься сам.
Помню, как я сидел в пригородном поезде Новки-Иваново, словно больной, забившись в угол, и глядел в мир, окружающий меня, точно сквозь тот же туннель откуда-то из своего далека. За моим столом играли вчетвером в карты, в «дурака», яростно сердясь на своих напарников за проигрышные ходы.
В соседнем купе пили и матерились с затравленными бабами охамевшие мужики. За двухместным столиком у окна обедала семья из пяти человек со скулящим ребенком. Мать держала его на коленях и время от времени шлепала, чтобы не мешал разговаривать, истерично крича: «Да заткнешься ли ты! Не видишь, мы разговариваем! Сиди спокойно, чего тебе еще не хватает?!» И не слушая его, снова ныряла в разговор, крепче прижимая к себе рукой. А говорили они все, по всему вагону, почему-то только о картошке: о том, какая она в этом году, сколько ее, сколько мешков удалось набрать, почем будет зимой, и как бороться с колорадским жуком… Даже пьяные хвастались, как «загнали» кому-то машину краденой картошки… А ребенок все ныл и гадючничал, незаметно скидывая со стола куски еды на пол и матери на платье. Он вызывал у меня отвращение, и я старался его не слышать. Потом я понял, что делаю то же, что и его собственная мать и перевел на него свой «туннель». Это стоило определенного труда – понять его, но вдруг у меня словно прорезался слух, и я начал его слышать. Он просил у матери отпустить его с колен… Наверное, ему было скучно с ними.
Только отошел немного, слышит: хрясь!
– Эх ты! Вот ведь колдун, а!
Можно было бы посчитать, что колдовство они считали просто здравым смыслом. Но если быть до конца точным, то как раз здравый-то смысл они и не уважали, считая его одной из ловушек нашего мышления. Воротами в человеческое естество они считали не здравый смысл, а Разум, но рассказывать об этом придется особо, когда дойдем до их Науки мышления. К счастью, они не только делились со мной своими знаниями, они учили. Это редкая удача, я могу это уверенно заявить, потому что в моей жизни были встречи и с другими колдунами, и с шаманами, и волхвами новой формации, но о некоторых из них я узнавал, что они колдуны, только через много лет, а с некоторыми даже не смог начать разговор, как это было с одним хантыйским шаманом. Эти учили и учили, по-своему, системно. Не могу похвастаться, что и я стал колдуном, но вот понять их я постарался. Удалось ли мне это полноценно – не знаю. Как удалось, так и расскажу. Начну с истории.
Изредка мои старички рассказывали о своих отцах и дедах, но больше о прадедах. Прадеды у них были скоморохами. Целой артелью бродячих скоморохов, ходоков, пришли они в конце XVII века, но уже при Петре, в Шую, а потом «испоселились» в нескольких деревнях Шуйского, Ковровского и Суздальского уездов. Офеней так и звали в прошлом веке – суздала. Но еще их звали мазыками.
Один из моих старичков – Дядька – рассказывал мне, что мазыки или музыки – это своеобразная аристократия среди офеней, потому что они-то как раз и вели свой род от тех скоморохов-музыков. Отсюда, говорил он, и два имени блатного языка – фени, который, как общеизвестно, произошел от тайного офенского языка и до сих пор хранит многие из его слов. Процитирую Михаила Грачева. В книге «Язык из мрака: блатная музыка и феня» у него говорится: «Слово феня обозначает то же самое, что и блатная музыка, и оно, конечно, никак не связано с женским именем, а является одним из элементов воровского фразеологизма ботать по фене – “говорить на языке деклассированных”. Когда-то оно имело следующий вид: по офене болтать, т. е. говорить на языке офеней. Офени – это торговцы мелким товаром, у них был свой условно-профессиональный язык, который они использовали при обмане покупателей, в опасных ситуациях, когда нужно было скрыть свои намерения и действия. Бродячая, полная риска профессия офеней сделала их близкими к людям “дна”. И поэтому не случайно в лексике деклассированных элементов имеется значительное количество слов, перешедших из условно-профессионального языка офеней» [4]. Блатные, если верить Дядьке, не только позаимствовали у офеней тайный язык, но и заметили, что их у офеней два: общий для всех офеней и особый, на котором говорили только мазыки или музыки. Именно поэтому блатной жаргон называется то феня, то блатная музыка. Но, взяв феню, блатные не смогли освоить языка мазыков, его и офени-то знали немногие. Дядька, как и процитированный мною Грачев, считал, что это произошло из-за того, что торгашеский язык офеней подходил блатным потому, что был полуворовским. А вот мазыкская речь им попросту была не нужна, настолько она была специфически скоморошья. Называлась она, если верить Дядьке, «язык-огонь» и «язык-свет», а феню сами офени звали «маяк».
Исторических подтверждений существования таких языков у офеней я найти не смог, сколько ни старался, но, тем не менее, отказываться от этого названия не хочу, потому что очень многое рассказывалось мне с постоянными уточнениями: «На Огне это называется так-то». Даже если это очень поздняя придумка, она уже факт культуры и, к тому же, облегчает понимание той «науки», с которой мне довелось столкнуться.
Итак, дедовские записи, рассказы бабушки и несколько лет обучения у потомков офеней и, может быть, скоморохов – вот что стало начальными источниками по возрождению традиции, которую мы называем Тропой. Затем начались целенаправленные этнографические сборы и поиск подтверждений в науке – этнографии и психологии, который мы ведем уже все вместе, всей новой Тропой.
Постоянный поиск этнографических подтверждений оказался принципиально важным, потому что к девяносто шестому году умерли все старики. Мы оказались с колоссальным по объему и во многом практически не имеющим аналогов материалом на руках. Мы до сих пор по детски радуемся, когда очередное этнографическое издание, попавшее нам в руки, приносит новое подтверждение того, что мы знали по единичным свидетельствам наших учителей. Это значит для нас, что знания наши, несмотря на всю уникальность, не оторваны от общей народной культуры, и в них проступают подчас невидимые в других явлениях русской культуры законы развития русского духа. Именно это присутствие четких и даже жестких закономерностей в исследуемом материале заставило нас отойти от фольклорно-этнографического подхода в чистом виде и перейти к исследованию психологическому, рассматривая полученные знания как народную школу «наивной» психологии.
Традиция изучать народную психологию этнографически вообще родилась в России задолго до появления в конце прошлого века «народной психологии» в Германии. Сейчас бы я отнес ее к источникам или составным частям современной культурно-исторической психологии. Тем не менее, мы сохраняем за тем предметом, что описывается в этой книге, название «Прикладная этнопсихология». Этнопсихология – в значении психология этнографическая, а не этническая. А прикладная потому, что мировоззрение Тропы, которое и есть основа этой психологии, родилось в те времена, когда мир спасала еще не наука, а магия. Про магию же – когда я спросил, можно ли так говорить про русских колдунов – мой первый учитель Степаныч сказал:
– Магия значит могия. Кто могет, тот и маг!
Деды. Их обычаи заставляли их прятаться, исчезать от глаз наблюдателей и даже доброхотов. Я ходил к ним семь лет, но мне ни разу не разрешили ни фотографировать, ни записывать на магнитофон и даже вместо имен требовали использовать прозвища. Их отговорки казались подчас такими наивными! Записывать нельзя было, потому что «некогда», фотографировать – потому что «нечего тут фотографировать», рассказывать о Тропе и о них – потому что, пока ты не понял, ты наврешь, а когда поймешь, то будешь «рассказывать себя», а не о других. Даже говоря о них.
Я понимал, что это традиция, переданная им их собственными родителями и дедами, но далеко не сразу с этим смирился. Желание как-то обжулить их, обмануть и сделать тайком записи казалось мне ложью во спасение. Степаныча я боялся и поэтому нарушать запреты не рисковал. А с Дядькой однажды попробовал. Он был очень «ругучим», но с ним было не так страшно. Я взял диктофон, зарядил и спрятал во внутреннем кармане в надежде, что сумею незаметно включить, когда Дядька начнет рассказывать что-нибудь интересное. То ли он все понял, то ли почуял подвох, а может, что гораздо вероятнее, просто не мог начать настоящего разговора, пока я не в подходящем состоянии сознания, – но он мурыжил меня всяческой чепухой, наверное, часа два. Все это время я, естественно, был в напряжении, потому что боялся, что он заметит магнитофон, мысли мои постоянно сбегали к образу того, как незаметно его включать и, самое страшное, как выключать, чтобы – не дай бог! – он не щелкнул сам, когда испишет всю пленку. К тому же все это перемежалось постоянными переживаниями и по поводу того, что меня уличат во лжи – я же обещал ничего не записывать (все то же «некогда ерундой заниматься – пришел учиться, ну и учись!»), что меня вообще выгонят и больше не примут, что я вообще обгажусь, как последний обманщик и подлец. В конце концов, я не выдержал всех этих мучений, принял решение, что никогда больше ничего не буду делать тайно от стариков, сбежал под каким-то предлогом от Дядьки и быстренько спрятал магнитофон в рюкзак. И тут же понял, что сразу же и нарушил только что принятое решение ничего не делать тайком. Пришлось пойти к Дядьке и все рассказать. Вопреки всем моим ожиданиям, мы долго смеялись, и сразу же пошла интереснейшая и сложная работа. Тогда мой разум впустил в себя наипервейшее требование троповой прикладной психологии – быть искренним.
Это было на второй год моих сборов, но лишь на третий год, когда они превратились из «фольклорно-этнографических экспедиций» в учебу, я однажды осознал, что что-то во мне, точнее, в моем мировоззрении принципиально изменилось, я понял и то, что за всем в Тропе стоят глубокие психологические и психотерапевтические механизмы. В том числе и в освобождении от собственного имени, как это, кстати, делается при любых переходных обрядах во всех религиях и верованиях мира. Время идет, мои знания Тропы углубляются, и с ними растет уважение к начальным требованиям стариков. Поэтому мы до сих пор применяем этот прием на Тропе и меняем свои имена на учебные, чтобы прошлое не так тяготело над пришедшими за обновлением.
Тропа не любила о себе рассказывать. Времена были такие. «Побольше помолчишь – подольше поживешь», – говорили мне. Всего десяток лет назад один из троповых стариков поразил меня своими словами, когда я просил разрешения опубликовать какие-нибудь материалы о Тропе и о нем:
– Даже когда я умру, никогда не поминай моего имени!
– Но почему? Времена уже другие!
– Времена, может, и другие, а люди те же. У меня внуки есть.
– Ну а внукам-то что могут сделать?!
– Что? Затравят!
А он был одним из умнейших людей, которых я встречал в своей жизни, как я это сейчас понимаю. И исходил он даже не из жизненного опыта, а исключительно из знания того, как устроено человеческое мышление, какова его механика.
Не выделяться из окружения, не привлекать к себе внимания было с рождения воспитано в них обычаем. Выставить их сейчас на всеобщее обозрение значит не только нарушить этот обычай и их заветы, но и выставить искаженно. Я не смог получить свои знания о них в ходе чистого научного сбора информации. Мое общение со стариками было глубоко личным. Когда я приезжал, они все обставляли так, что мне крайне редко приходилось встречаться с их родственниками или даже соседями. Например, последний из старичков, Поханя, когда приезжала на выходные внучка с дочерьми и мужем, здоровенным битюгом лет сорока и за центнер весом, тут же говорил мне с заговорщицким видом: «Толстомордый приехал. Уходим задами в подполье». И уводил меня в маленькую избушку, которая стояла у них «на задах» – в дальнем конце огорода. И мы практически не выходили из избушки, пока родственники не заканчивали свои дела и не уезжали. Они приезжали из Коврова в основном из-за картошки, которую сажали на участке у Похани. Ни я, ни Поханя, ни его знания их просто не интересовали. Мне кажется, они считали его чокнутым. Его жена, тетя Катя, никогда нас не выдавала и спокойно «брала родственничков на себя». Она приходила только перед самым отъездом и звала Поханю прощаться. Я вначале рвался проявить вежливость и сходить вместе с ним, но мне быстро и без лишних слов объяснили, что это ни к чему. Только хуже будет. Я вспомнил недоброжелательный взгляд Толстомордого и больше не рвался.
Жена Дядьки тетя Нюра, когда я приезжал, соседей дальше крыльца не пускала: «Занят. Не беспокойте». К Дядьке в деревне относились с почтением и беспокоить в таких случаях не решались.
Кроме всего прочего, я довольно быстро понял, что я прихожу к старикам не за диссертацией, а за чем-то совсем другим. Сейчас я бы назвал это мировоззрением. И они понимали это и, если можно так выразиться, старались соответствовать моему запросу. Можно сказать, что для общения со мной, еще точнее было бы сказать, что для общения с тем вопросом, который приходил со мной, они вычленяли соответствующую часть себя из всей своей полноты. С одной стороны, это была для меня самая интересная часть этих людей, с другой, очень многое терялось, особенно бытового, повседневно-поверхностного, что было просто не нужно нам на земле нашего общения, но что обычно и составляет основной объем «личности для других». В итоге в моих описаниях они перестали быть полноценными, живыми людьми, а стали, в общем-то, литературными персонажами. Я обеднил и изменил их помимо своего желания уже тем, что своим интересом заставлял при мне жить только той частью себя, которая мне была нужна. Я определенно знаю, что если я сейчас раскрою их имена, их родственники скажут, что это неправда, наш дед или наша бабушка никогда не были такими! Он все придумал, все наврал!
Да, я многое придумал, додумал и даже приписал им. Я писал свои записи всегда значительно позже насыщенного общения и головокружительной учебы, а уж обрабатывал спустя много лет. Тогда я уже плохо помнил конкретные, точные слова, за исключением врезавшихся в память. Но зато, по прошествии лет, вдруг соединялись в моей голове разрозненные случаи, приходило понимание, и я начинал видеть, что же стояло у дедов за словами и поступками. Тогда-то я и бросался записывать свое «откровение». И тут же понимал, что очень плохо помню, как же они подводили меня к осознаванию этого. И сколько я ни пытался быть предельно точным, как этнограф при записи быличек, ничего не получалось. Я даже доходил до отчаяния. Но однажды я окончательно плюнул на свое желание состояться как ученый и решил, что полученные мной знания важнее, чем карьера и неуязвимость. Тогда, на основе старых записей, я начал создавать обобщающие образы каждого откровения. В общем, это уже мое видение. Неожиданное оправдание себе я, спустя годы, нашел в статье А. Л. Налепина, посвященной такому же собирателю-дилетанту, но одновременно классику нашей фольклористики – Н. Е. Ончукову. Современная наука упрекает его во множестве упущений, сделанных при записи сказок и былин. Однако: «Все эти очевидные для современной фольклористики аксиомы, как мы видим, были хорошо известны и фольклористам рубежа XIX–XX вв. Однако собиратель-одиночка (а именно это характерно для фольклористики той эпохи), работая на пределе физических сил и исследуя огромные в географическом отношении районы, не успевал все эти требования выполнять – надо было срочно фиксировать навсегда уходящее, и, как показала история, в этом они были правы» [5].
Со стариками нельзя было быть ученым или репортером. Передо мной сразу же и очень жестко был поставлен предельно личный вопрос: «Зачем ты пришел?» И он ставился неоднократно и всеми ими. Ставился сразу в нескольких плоскостях, начиная от Бога и Русского пути и до самых бытовых целей. И постоянно жесткий выбор – или то, или другое, но не посередке. И ответ прямо сейчас. Или уходи – если ты не искренен, то нам есть чем заняться и без тебя. По сути, выбора и не было на самом-то деле. Они меня готовы были принять только таким, с каким им было приятно проводить время. Это были последние годы их жизни, и они проводили их в свое удовольствие. Но мое мышление требовалось перестроить, убрать из него разъедающую интеллигентскую потребность сохранять множество путей к отступлению и размазывать себя недееспособной кашей по тарелке умствований. Поэтому я подвергался, с одной стороны, постоянной чистке, а с другой, перестройке мышления, «мыслена древа». А это, в первую очередь, означает искусство видеть выбор, узнавать его и принимать определенные решения, поскольку древо это строится нами из решений на основе выборов. Частенько это казалось мне чуть ли не садизмом с их стороны, по крайней мере, излишней жестокостью. Но когда через год ушел первый учитель, я понял, что времени сюсюкать действительно нет. Ни у дедов. Ни у меня. Просто ни у кого нет лишнего времени!
Ни я, ни они не такие, как это мной описано. Но там, внутри, в нашем Мире мы были такими и только такими. Там иначе нельзя.
Да, я вошел в Тропу, как в иной мир. Но как об этом рассказать? Ведь он почти ничем не отличался от привычного мира обыденности и в то же время был совсем иным. Это были те же русские деревни с их колхозно-советским наследием, в которых я жил и раньше. Но было в них что-то от Диккенсовской Лавки древностей.
Помню, в детстве я прочитал про эту лавку, которая всегда находится где-то рядом, на одной из узких и привычных до стертости Лондонских улочек, но которую никак не удается найти самому, по своей воле. Кажется, вот она улица, вот тот приметный дом, и вон за тем углом стоит она, но нет… нет… нет… А потом она внезапно сама появляется на твоем пути там, где ты ее не ждешь и не ищешь, и дарит путешествие в сказку.
И я нашел такую лавочку в Иванове – это был старый охотничий магазин, живший совершенно определенно где-то недалеко от крошечного рынка со странным именем Барашек. В витринах Магазинчика стояли старинные ружья, чучела и что-то еще, завораживавшее меня. Я не помню, бывал ли я внутри, но у витрины стоял подолгу. Мы жили не так далеко от Барашка, и иногда у меня появлялись возможности забежать к Магазинчику, но редко удавалось мне застать его на месте…
Конечно, впоследствии, уже взрослым, я разобрался в механике этого чуда. Просто там были улицы, тогда чем-то для меня схожие, и я искал не там. А потом, когда запомнил весь этот мирок, Магазинчик переехал жить в другое место… Но ведь это и есть главный вопрос человеческой жизни: в детстве, когда волшебные лавки и двери еще являются нам, мы ищем не там, а потом, вместо поиска начинаем заучивать Мир наизусть…
Однажды, находясь у стариков, я вспомнил про Лавку древностей и подумал, что мне очень повезло, раз она была у меня и не дала забыть про детство. Древность вообще завораживает и оживляет ощущение чудесности мира. И древность, которую ты помнишь, не дает отказаться от поиска.
Тропа всегда была для меня завораживающе наполнена древностью, как Волшебная лавка. Не стариной даже, а именно древностью с ее отсутствием геометрии, технологии, рекламы. Тропа, эти старички, их дома, их игры и чудеса, даже их рассуждения и записи, словно вышедшие из века деревенских славянофилов, корреспондентов этнографического бюро князя Тенишева, похожи для меня на Псковские или Новгородские церквушки шестнадцатого-пятнадцатого веков – неровные, неархитектурные и негеометрические, но словно бы выпеченные из теста и все еще теплые.
Наверное, старики и сами с наслаждением играли в Тропу. Но игра была священна для них как для потомков скоморохов, даже божественна. Они предпочитали и жить, и работать, и даже уходить играючи. Они звали своих собственных дедов и прадедов игрецами. Но если ты не выходишь из игры, то вся жизнь оказывается игрой. Не это ли и подразумевалось, когда были сказаны слова: станьте как дети?!
Я помню странные сказочные ночи со стариками в, казалось бы, таких знакомых мне Савинских и Ковровских лесах, но я помню и не менее странные ночи чудес в обычных деревенских избах, когда мы словно мчались сквозь неведомые пространства. Помню и скоморошьи издевки, и подлинные чудеса, и самокопание, чистку сознания, длящуюся сутками, просто сутками подряд! Песни, пляски, игры… и мои обиды! О! мои обиды! Как я обижался! Как я хотел сбежать от них и спасти свою личность! Как я рад, что мне это не удалось!
Не удалось!.. Это еще суметь рассказать, как не удалось! И кому не удалось! Однажды мой первый учитель Степаныч в очередной раз зацепил очень болезненный кусочек моей личности. Не все помню точно, но как-то это выходило на недооцененность. Всплывает уже образ, в котором он мне говорит, что я говно и пришел к нему, чтобы сбежать в старину, а в старину я сбегаю, чтобы отомстить всем, кто меня недооценил, не оценил по достоинству и тем обидел. А поскольку я их победить не могу, то и сбегаю в самоубийство, потому что я трус, слабак и тупица. И я переполнен ненавистью; ненавидеть всех, кто меня недооценивает – основной способ моих взаимоотношений с другими людьми, а сбегать из жизни, совершать самоубийство – основной способ взаимоотношений с самим собой. И его лично я при первой же возможности накажу тем, что сбегу и брошу, значит, убью в моем мире!
Мало того, что он меня «готовил» к такому разговору несколько суток, что, значит, делал все, чтобы такие слова ударили побольней, так к тому же это все явно не имело ко мне никакого отношения. Я ощущал в себе немало недостатков, но только не этих.
Я сидел перед ним и держался в облике ученика, сколько хватало сил, вроде бы, пытаясь все это понять. Даже, кажется, искал какие-то соответствия сказанному в своем мышлении. Вдруг мозги мои словно схлопнулись, я истощился и понял, что не могу больше сдерживаться и изображать ученика. Все, что говорил этот сумасшедший дед, было настолько неточно, неверно, не то, он ТАК не рассмотрел и не понял меня, что стало ясно – учиться у него мне больше нечему. Обижать его мне не хотелось, все-таки он старался, но ведь одновременно он и пользовался мною, чтобы поиздеваться и почувствовать себя выше кого-то! Я не люблю быть мальчиком для битья или навозом для чьей-то почвы. Подчеркнуто ровно, чтобы не обидеть, я поблагодарил Степаныча «за все, что он для меня сделал», сказал, что я многому у него научился, но мне пора идти. И начал собираться.
Он смотрел на меня, как-то странно улыбаясь, но я от усталости никак не мог понять, о чем говорит этот его взгляд, и уж совсем не замечал, что делаю именно то, что он про меня только что сказал! Я сбегал, выкидывая его из своей жизни навсегда, можно сказать, убивал его в моем мире.
Сейчас-то я вижу, какую боль он разбередил во мне, говоря про недооцененность и предательства, но тогда она даже намеком не присутствовала в моем самоосознавании. Это было для меня открытием – в нас живет и такая боль, которую мы запретили себе чувствовать и помнить. А вместе с ней мы вырезали часть себя и часть способности воспринимать мир, соответствующий этой боли. Вот так человечество и теряло Видение, за которым охотятся даже Боги мифов, и без которого никакая Магия не возможна.
Такую боль очень трудно победить, потому что желание сбежать становится с ее приходом всецельным. Сколько людей, которых я не смог удержать, сбежало с Тропы, разбередив ее!
Я помню, что состояние мое стало очень странным – видение сузилось, зрение словно стало «туннельным». Что-то гудело и шуршало в пространстве вокруг. Взгляд Степаныча начал меня пугать, и я избегал его. Я оделся и пошел к двери. Но двери там не было. Я подумал, что спутал в этом состоянии дом. И тут же понял, что это действительно так. Это в доме тети Шуры, бабушки, которая привела меня к Степанычу, дверь находилась в этом месте. И я тут же вспомнил, где дверь в этом доме, и направился туда. Но и там двери не было. Тут уж я без труда вспомнил, что в этом месте дверь была в моем собственном доме, который я купил у другой бабушки в моей родовой деревне. А у Степаныча дверь совсем в другом месте. Но и там я ее не обнаружил, но зато в памяти всплыл образ совсем случайного дома, я даже не помню, из какой местности…
Я не знаю, сколько времени я бродил по всем имевшимся у меня образам домов. Помню только, что возле последней двери я остановился, посмотрел на нее, что-то словно тонко сломалось в моей голове, и я сел рядом с дверью на корточки под стену и задумался. Не могу сказать, о чем я думал, помню только, что плакал и уснул, а когда проснулся, Степаныч с улыбкой сидел передо мной на табурете. Было по-утреннему светло, а уйти я пытался ближе к вечеру. Мне ни на миг не показалось, что это все приснилось. Но утро вечера мудренее, и я знал, что никуда не ухожу, потому что мне нужна помощь Степаныча. Я попытался подняться, чтобы сказать ему об этом, и свалился на пол, вопя от боли в ногах. Я катался по полу, скрипя зубами, а Степаныч заходился от смеха и кричал мне что-то о том, что у него бы сил не хватило проспать ночь на корточках, он мне завидует – такой подвиг совершить, и что он уже давно ждет, когда я проснусь – специально не будил, чтобы пробуждение было порадостнее! Сейчас бы я ему, конечно, сказал правильные слова, которые полагается говорить русскому человеку в таких случаях хорошим друзьям. К сожалению, я в то время еще имел запрет на настоящий русский мат!
Степаныч, однако, довольно быстро убрал мои боли, куда-то понажимав и что-то еще поделав с моими ногами, дотащил меня до стола и стал кормить.
– Степаныч, – сказал я, как только меня отпустило, – давай поработаем с недооцененностью!
– Тебе пора домой, – ответил он.
Я засмеялся, считая, что это шутка, что после того, когда он таким образом не отпустил меня, мы просто обязаны с ним залезть в эту мою проблему. Но он набил меня пищей поплотнее и действительно отправил домой, сказав только на дорогу:
– Теперь ты справишься сам.
Помню, как я сидел в пригородном поезде Новки-Иваново, словно больной, забившись в угол, и глядел в мир, окружающий меня, точно сквозь тот же туннель откуда-то из своего далека. За моим столом играли вчетвером в карты, в «дурака», яростно сердясь на своих напарников за проигрышные ходы.
В соседнем купе пили и матерились с затравленными бабами охамевшие мужики. За двухместным столиком у окна обедала семья из пяти человек со скулящим ребенком. Мать держала его на коленях и время от времени шлепала, чтобы не мешал разговаривать, истерично крича: «Да заткнешься ли ты! Не видишь, мы разговариваем! Сиди спокойно, чего тебе еще не хватает?!» И не слушая его, снова ныряла в разговор, крепче прижимая к себе рукой. А говорили они все, по всему вагону, почему-то только о картошке: о том, какая она в этом году, сколько ее, сколько мешков удалось набрать, почем будет зимой, и как бороться с колорадским жуком… Даже пьяные хвастались, как «загнали» кому-то машину краденой картошки… А ребенок все ныл и гадючничал, незаметно скидывая со стола куски еды на пол и матери на платье. Он вызывал у меня отвращение, и я старался его не слышать. Потом я понял, что делаю то же, что и его собственная мать и перевел на него свой «туннель». Это стоило определенного труда – понять его, но вдруг у меня словно прорезался слух, и я начал его слышать. Он просил у матери отпустить его с колен… Наверное, ему было скучно с ними.