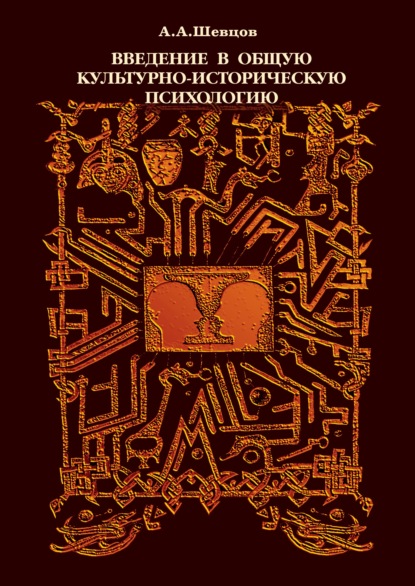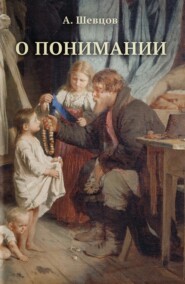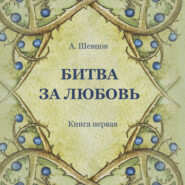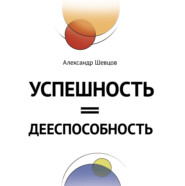По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Введение в общую культурно-историческую психологию
Год написания книги
2021
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Очевидно, в том, что они имели совсем другую цель. Какую?
Давайте посмотрим на то, что мы имеем в итоге этого чтения. Несколько человек довольны собой, несколько человек напряженно и с легким сомнением тоже довольны собой, остальные – пошли в другое место! То есть, скорее всего, бросили чтение. Это не для них. Повторю: что мы имеем в результате наших действий, то и было нашей целью.
По понятиям общественной психологии и социологии целью использования подобного языка было: отобрать своих и не впустить чужих. Иначе говоря, создать еще одно маленькое научное сообщество. Так сказать, подсообщество философов языка внутри сообщества языковедов.
Это полностью соответствует мыслям выдающегося русского и американского социолога Питирима Сорокина о предназначении общественных институтов, к которым относится и наука:
«В любом обществе есть много людей, жаждущих продвижения в верхние слои. Но так как только некоторым удается сделать это, и так как при нормальных условиях социальная циркуляция не носит неупорядоченного характера, то вероятно предположить, что в любом обществе существует особый механизм, контролирующий процесс вертикальной циркуляции. Этот контроль заключается, во-первых, в тестировании индивидов для установления адекватного выполнения ими социальных функций; во-вторых, в селекции индивидов для определенных социальных позиций; в-третьих, в соответствующем распределении членов общества по различным социальным слоям, в их продвижении или деградации» (Сорокин, с.405).
К нашему случаю более всего подходит тот механизм, который Сорокин описывает под названием «школа»:
«До последних лет люди склонны были рассматривать школу прежде всего как образовательный институт. Ее социальная функция виделась во ”вливании” в учащегося определенного набора знаний и в корректировке его поведения. Тестирующая, селекционирующая и дистрибутивная функции почти полностью игнорировались, хотя именно эти функции школы едва ли менее значимы, чем функции “просвещения” и “образования”.<…> Иными словами, фундаментальная социальная функция школы заключается, во-первых, не только в том, чтобы выяснить, усвоил ли ученик часть учебников или нет, а прежде всего в том, чтобы при помощи экзаменов и наблюдений определить, кто талантлив, а кто нет, какие у кого способности, в какой степени они проявляются, какие из них социально и морально значимы. Во-вторых, эта функция заключается и в том, чтобы устранить тех, у кого нет ожидаемых интеллектуальных и моральных качеств. В-третьих, устраняя “неугодных”, закрыть для них пути для дальнейшего продвижения, по крайней мере, в определенные социальные области» (Там же, с.409).
Это наблюдение Сорокина о том, что такое «обучение» в обществе, еще понадобится нам впоследствии.
Согласия
Итак, на взгляд социального психолога, совершенно верные по сути наблюдения авторов текста о философии языка используются не в соответствии с явным смыслом высказываний, а в соответствии со смыслом скрытым. Кто этот скрытый смысл принимает, тот входит в число своих, сплоченных неким негласным согласием, например, согласием говорить на одном языке, или на тайном языке, языке, понятном только нашим. То же самое мы наблюдаем в детской психологии, психологии преступных сообществ, а также в психологии этнографических профессиональных, кастовых и тайных обществ. Причем язык этот, как и упомянутый выше «советский язык», имеет несколько уровней сложности. Это, например, использование «терминов» вместо слов, что означает или использование незнакомых обычному читателю иностранных слов, или использование слов родного языка в непривычном для всех значении. Ярчайшим примером этого был язык торговцев-офеней, использовавший грамматический строй русского языка, но заменявший русские слова на слова выдуманные, чтобы скрыть от покупателя торговые тайны. Тут надо уделить особое внимание одной разновидности использования обычных слов в науке. Их можно назвать личными терминами. На вид – это всего лишь самое обычное и привычное использование всем понятных слов. На самом же деле ученый использует их так, как понятно ему самому, не обговаривая это. Первый пример. Очень часто учеными всех стран используется яркое словечко анализ. И все, вроде бы, понимают фразы с этим словом. Но настоящее значение этого слова, как дают словари, – разложение, расчленение. При этом словари добавляют, что в науке анализ стал «методом научного исследования, состоящим в мысленном или фактическом разложении целого на составные части». В итоге слово и его определение как-то странно «трансмутировались» в мозгах людей и превратились в нечто странное. Метод исследования путем отсечения лишнего, разложения на составные части понимается лишь по первому слову – как исследование вообще. Вполне можно встретить даже у больших ученых фразы типа: «Я анализирую Платона!» При этом автор, чаще всего, вовсе и не применяет к сочинениям Платона метод собственно аналитический. Он просто исследует его.
Даже у такого знаменитого и действительно хорошего русского философа А. Ф. Лосева есть анекдотические рассуждения на эту тему. Анекдотические потому, что он в них как раз требует понятийной чистоты при употреблении подобных терминов, а сам не замечает, как «анализ» незаметно пробрался в его мышление:
«Всякий, кто достаточно занимался историей философии или эстетики, должен признать, что в процессе исследования он часто встречался с такими терминами, которые обычно считаются общепонятными и которые без всяких усилий обычно переводятся на всякий другой язык, оставаясь повсюду одним и тем же словом. До поры до времени мы оставляем эти термины без всякого анализа; и если они встречаются в античной философии, то зачастую и очень долго при употреблении их в новых языках мы так и оставляем их в греческом или латинском виде. Таковы, например, термины “структура”, “элемент”, “идея”, “форма”, “текст” и “контекст”. Однако такого рода иллюзия общепонятности при исследовании античных текстов начинает мало-помалу разрушаться, так что исследователь принужден бывает расстаться с ней и подвергнуть многие термины или понятия специальному историческому исследованию» (Лосев, 1973, с.182).
Очевидно, анекдотичность эта не случайна и будет сохраняться у всех ученых, кто попытается делать науку, но излагать ее обычным языком. В том числе и у меня. Слишком много уже сделано научным сообществом, слишком много действительно важных явлений мира уже описано на тайном языке, чтобы можно было сразу полностью избежать его употребления. Там, где удается перевести на русский слово «анализ», приходится использовать без перевода какое-нибудь другое, например, «текст» или «термин»…
Это, безусловно, связано с тем, что все подобные научные «термины», по сути, есть инструменты исследования, которые ученый изготовляет сам и по ходу, когда сталкивается с новым явлением. И другого пути в неведомое, похоже, нет. По крайней мере, если ты хочешь идти туда не один.
О чем-то подобном в языке науки писал Павел Флоренский, рассказывая, как он сам входил в науку:
«Я научился сам изготовлять себе потребные мне инструменты, как в буквальном смысле, так и в переносном, говоря о понятиях, и потому, хороши или плохи были мои научные понятия, я знал, как вообще делались они. Орудия научной мысли большинством даже образованных людей берутся или, скорее, получаются готовыми из-за границы и потому порабощают мысль, которая неспособна работать без них и весьма неясно представляет себе, как именно они выработаны и какова их настоящая прочность. Отсюда – склонность к научному фетишизму и тяжеловесная неповоротливость, когда поднимается вопрос о критике их предпосылок. Если большинство отвергает какие-нибудь понятия, то только потому, что уверовало в противоположные, т. е. настолько поработилось ими, что решительно неспособно мыслить без них» (Флоренский, с.123).
Другой пример – это использование обычных, бытовых слов в научном тексте без оговаривания их значения. По сути, это более тонкий пример того же самого, что и с иностранными заимствованиями. Русское слово оказывается настолько привычным, что ученый совершенно не в состоянии дать ему определение, а значит и видеть, какое понятие за ним стоит. В главе о Сократе это будет показано на примере такого «понятного» слова как «справедливость». В итоге употребление этого родного слова оказывается таким же, как иностранного. Ученый употребляет его с ощущением, что это-то слово уж точно всем понятно. И оно точно всем как-то понятно! Но вот как? А когда начинаешь разбираться, то выясняется, что за этим словом чаще всего скрывается понятийное устройство, несколько отличающееся от того, которое хотел использовать автор.
Можно вполне уверенно заявить, что молодая наука во время своего зарождения и становления, со свойственной любой молодости торопливостью, жаждала скорых плодов. Естественно, на деле их жаждали те молодые люди, которые рвались в науку, как в сообщество. И основная психологическая задача этой молодежи была – доказать «отцам», что они их догнали и превзошли. Поэтому в своей молодости наука предпочитает быстро заимствовать множество уже готовых иностранных терминов, вместо того, чтобы присмотреться к понятиям родного языка, то есть языка отцов. И им совершенно не важно, что язык рождался из тысячелетних наблюдений миллионов людей над теми же самыми физическими явлениями мира, которые они тщатся одолеть с наскоку новым методом. Родной язык есть, если приглядеться к нему, уже готовое и чрезвычайно тонкое описание того явления, которое и пытается исследовать наука. А с описания явления, с описания условий задачи только и может начинаться ее решение. Впрочем, оставлю в стороне точные и естественные науки. Пока мне важнее разобраться с тем согласием, которое существует по поводу языка у психологов.
Следующим уровнем сложности тайного языка можно назвать использование образов, которые известны только своим. Что означает в отношении научных сообществ: потратившим достаточно много времени и сил, чтобы такие образы запомнить (это вполне можно считать платой за вход в сообщество). При этом, тот же образ часто вполне может быть передан и по-другому – проще и понятнее, но это почти недопустимо, и отступник будет наказан легким презрением за «популяризаторство», которое портит лицо «настоящего» ученого.
Кроме того, обязательно существует несколько тем, по которым велись споры с другими школами или сообществами. «Наши» обязаны знать эти особенные темы и не имеют права ошибаться в их оценке даже в тонкостях. Отсутствие упоминания о каком-нибудь из подобных противников вызывает у ученых ядовитое замечание, вроде: «С ним можно не соглашаться, но знать-то старика надо…» Здесь вопрос стоит уже о своего рода нравственных ценностях сообщества, поэтому любой его настоящий член нравственно обязан показать, что он обязательно знает все бои науки, а упоминая подобные темы, дать почувствовать, как он оценивает сообщество противников и их взгляды. Отсутствие оценки «их» как плохих (пусть даже сильно завуалированной, тонкой), а «нас» как хороших, расценивается как своеобразное предательство. Особенно отличаются этим политизированные научные школы, какими, например, рассматривались общественные науки в советский период. Не избежала этого и психология. Если же ты читаешь работу незнакомого тебе автора, где таких оценок нет, и он явственно пытается быть «объективным», ты воспринимаешь его как ученого, но принадлежащего к иной школе, то есть любопытного чужака.
Соответственно, по всем вышеперечисленным пунктам все члены сообщества должны быть между собой более или менее определенно согласны. В случае явного несогласия сообщество разваливается или на два враждебных сообщества, или делится внутри себя на подсообщества. Есть, конечно, менее значимые вопросы, по которым допускается свободомыслие, но по основным, так сказать, нравственным, согласие считается обязательным.
Вот этот вот набор основных согласий, объединяющий людей в научное или иное сообщество, и является, по сути, его парадигмой.
При этом любая парадигма, в том числе и научная, включает в себя, с психологической точки зрения, как явные, заявленные согласия, так и скрытые. Почему? Потому что «вопросы», по которым достигаются «согласия», на самом деле являются целями или путями к тем или иным общественным благам, которые хочет иметь сообщество для своих членов в обход членов других сообществ. Иначе говоря, жизнь сообщества – это война, а на войне как на войне! Пути к целям и способы их достижения называются в армии тактикой и стратегией победы, а в науке – методом. А ученый – не только искатель истины, но и борец за место в своем сообществе, а для сообщества – боец на научном фронте за достойное место научного сообщества в обществе.
Следовательно, как бы ни выглядела научная или внешняя часть парадигмы, при психологическом ее исследовании нам придется заглядывать и в скрытую или нравственно-мировоззренческую ее часть, то есть задаваться вопросом: а зачем это нужно создателю теории? Что он хотел и чего достигал, делая это? В общей психологии это приблизительно обозначается термином «мотив».
Однако проверим, соответствует ли данное определение понятия «парадигма» общепринятым в психологии.
Психологический словарь дает следующее определение: «Парадигма (от греческого paradeigma – пример, образец) – система основных научных достижений (теорий, методов), по образцу которых организуется исследовательская практика ученых в данной области знаний (дисциплине) в определенный исторический период. Понятие введено американским историком Т. Куном, выделившим различные этапы в развитии научной дисциплины: препарадигмальный (предшествующий установлению Парадигмы), господства Парадигмы (“нормальная наука”), кризиса и научной революции, заключающейся в смене Парадигм, переходе от одной к другой. Проблемы, которые поставила концепция Парадигмы (о научной дисциплине и стадиях ее развития, о научном сообществе как коллективном субъекте познания и др.), разрабатываются советскими учеными с позиций диалектико-материалистической методологии. В дискуссиях о применимости понятия о Парадигме к психологии американские авторы высказали мнение о том, что в начале XX в. произошла смена интроспективной Парадигмы (психология сознания) на бихевиористскую (психология поведения), однако это мнение ошибочно, как односторонне отражающее реальный ход формирования психологии как научной дисциплины» (Психология. Словарь.1990).
Зачем автором этой словарной статьи высказана оценка противников в ее конце, по-моему, ясно. На войне как на войне! Мне, впрочем, вполне достаточно того, что данное определение полностью подтверждает мое представление о сути понятия “парадигма”.Бесспорно, на мой взгляд, и то, что правящая научная парадигма «советской науки», как и правящая парадигма любого другого научного сообщества, является оружием войны с «чужими», которую вели советские «ученые на службе партии или диктатуры пролетариата». И примеров того, как ради «нашей» победы «закрывались» научные истины и целые науки, немало на нашей исторической памяти.
Против этих моих слов о советской научной парадигме мне, дословно, уже говорилось следующее: «Не стоит вот так огульно хаять всю советскую науку сталинских времен. Все наши Нобелевские лауреаты вышли из этой школы. Надо ли ради красного хлесткого словца перечеркивать чью-то научную судьбу?» С психологической точки зрения, это очень важный пример того, как защищается само сообщество. Естественно, устами отдельных ученых. Ведь другие ученые в подобных условиях избирают говорить: «Все верно! Вот вам пример генетики или кибернетики в Советском Союзе! А вспомнить роман Дудинцева “Не хлебом единым”! О том, каково было тогда прорываться настоящим ученым сквозь собственное сообщество. Как их травили за то, что мыслили не так, как все! Да и сколько всего!»
Повторю еще раз. Исследуя научную парадигму, я не говорю о том, что раз плоха парадигма, так плохи и все ученые. Я всего лишь показываю сущность научного сообщества, как одной из частей общества, раскрывая его парадигму, то есть существующий между учеными набор согласий о совместном и правильном поведении. Вопрос о советских Нобелевских лауреатах и вообще выдающихся ученых для меня – это вопрос о том, они сделали свои открытия благодаря научному сообществу или же вопреки? А если было и то и другое, то какую помощь оказывало научное сообщество и в чем мешало? И соответственно, как ученый преодолевал эти помехи? И как изменить научное сообщество, чтобы оно перестало мешать и помогало больше?
Однако в данном исследовании меня интересует не постановка вопроса о русской, советской или психологической парадигме вообще, а то, какая парадигма должна лежать в основе культурно-исторической психологии как прикладной науки.
При такой постановке вопроса приведенного определения парадигмы оказывается недостаточно. Необходимо очертить такой круг согласий, который ощущался бы достаточным и, по крайней мере, давал бы возможность вести исследование. Итак, какие согласия должны входить в парадигму или, другими словами, в чем должно быть достигнуто согласие, чтобы сообщество оказалось жизнеспособным?
Вряд ли вызывает сомнения, что самое малое – это то, что члены сообщества должны понимать друг друга. Значит, язык, о чем уже говорилось ранее. Однако общепонятным для всего сообщества языком согласия не исчерпываются. Более того, даже при использовании единого языка любое сообщество что-то делает явным, а что-то скрывает ради выживания и неуязвимости. Как это делается?
Если исходить из бытового представления о том, как люди собираются в сообщества, то они должны договориться о том, зачем они собрались. Мы можем назвать это согласие целью сообщества.
Естественно, после того, как определена цель, решается вопрос о том, как ее достигать, то есть о способах. В науке это называется метод.
Однако определить способы можно только имея представление об условиях, в которых придется работать, то есть достигать цели. А это значит, необходимо описание мира, в котором будет жить сообщество, а также способ видеть мир или мировоззрение, с помощью которого сообщество может управлять поведением своих членов и обеспечивать свою жизнеспособность.
Наука о науке может говорить и о других составляющих парадигмы, например, о таких, как предмет. Однако, если присмотреться, то мы увидим, что это рассуждения о явной части парадигмы или, как это называется, идеальном образе науки, науке, как она должна быть, а значит, с точки зрения психологии сообществ, входит в способ достижения цели.
Пример. Твоя цель – выжить во что бы то ни стало во время крестьянского бунта, когда убивают всех правительственных шпионов. А за шпионов крестьяне принимают всех горожан, слоняющихся по селу без дела. Ты заявляешь, что ты землемер, и начинаешь мерить землю. Теперь у тебя есть «предмет». И ты принимаешься его самоотверженно исследовать. И даже достигаешь в этом деле значительных успехов, может быть, даже открываешь немало истин об устройстве земли! Но таких «предметов» ты можешь придумать множество, лишь бы выжить. Предмет, по сути, есть лишь составная часть способа, потому что является лишь материалом, из которого лепится будущая победа сообщества или отдельной личности.
У науки он должен быть подчеркнуто наукообразным исключительно в целях неуязвимости. Более того, вся явная часть парадигмы есть лишь один из приемов, относящихся к способу достижения цели, и может быть названа щитом.
Поэтому, с психологической точки зрения, парадигма научного сообщества представляется имеющей двойное устройство, состоящее из частей, повторяющих друг друга и вложенных одна в другую. Как это ни странно, но наружу она вывернута своей меньшей и как бы внутренней частью – той, что мы обычно и принимаем за истинную научную парадигму: это предмет, метод, язык науки, основания и описание мира, то есть щит или явная парадигма научного сообщества.
Чужой – а чужой всегда опасен – налетает при знакомстве с наукой именно на эти защитные рубежи, которые на самом деле являются лишь одним из приемов защиты от внешнего мира в рамках способа достижения цели, который работает по общему согласию у людей, одинаково видящих мир и понимающих друг друга чуть ли не без слов.
При таком подходе явная часть научной парадигмы может рассматриваться как крепостная стена, за которой идет жизнь по своим законам. Эти законы, безусловно, определяются той целью, ради которой сообщество собралось. Эту цель мы можем назвать стягом, то есть своего рода знаменем, под которое собираются свои.
Но вот цель эта на самом-то деле вовсе не договорное явление, не предмет согласия. К сожалению, в ней люди не вольны. По сути, она есть психологическая данность мышления определенного типа людей, которые подбираются по сходству, как бы притягиваются туда, где все такие. Забегая вперед, можно сказать, что наука – есть внешнее проявление весьма определенной психологической болезни, которой подвержена значительная часть человечества. Однако обоснованно это можно показать лишь в прикладном разделе исследования.
Скрытая цель научного сообщества, как и любого другого, – это всегда очень личностный и в силу этого уязвимый набор желаний. Именно в силу повышенной уязвимости этих желаний членов научного сообщества со стороны общественного мнения явная цель должна быть предельно неуязвимой, то есть из разряда таких, которые оправдывают даже самоубийство, как познание Бога в религии. Явная цель, как хороший щит, должна выдерживать самые яростные нападения. Поэтому явные цели всех сообществ, добившихся высокого места в мире, очень и очень схожи, потому что опираются на одни и те же основания, таящиеся в бытовом и мифологическом мышлении людей. И эти же основания можно обнаружить в сказке.
Научная парадигма возникает в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, внутри религиозной парадигмы, закрепляя в общественном мнении право определенной части общества жить по иным психологическим законам, чем остальная масса людей. Возникает она в борьбе не на жизнь, а на смерть с церковью, во время которой многие борцы почти добровольно шли на смерть.
Эта «добровольность» весьма условна – в сознании ученого есть нечто, что не дает ему жить, как все. Если он «смирится» и попытается принять правящий обычай, это нечто все равно сделает его жизнь невыносимой. Поэтому он предпочитает не мучиться, а умирать в бою за право жить так, как хочет, попросту говоря, выбирая из двух смертей более достойную. В миг, когда религиозная парадигма оказалась невыносимой для слишком большого количества людей, общественное мнение признало за отступниками право жить по своим законам. Очевидно, их оказалось слишком много, чтобы можно было сжечь их всех, как ведьм.
Плодом этой борьбы оказалось полное неприятие наукой основной цели религии – Бога. Неприятие настолько категоричное внешне и так часто нарушаемое тайком, что через него отчетливо проступает парадигма науки как сообщества. Неважно, есть бог или нет, но мы всегда будем его отрицать, и никогда наука не будет проверять «эту гипотезу, без которой можно обойтись», своими средствами. Она в ней не нуждается! Бога нет не потому, что это доказано научно, а потому, что сообщество ученых договорилось так считать. Подлинная наука – это подлинно материалистическая наука!
За этими псевдонаучными лозунгами ощущается присутствие условной договоренности между двумя сообществами: религия позволит науке существовать, если та не будет лезть в ее дела. Соответственно, в отказе ученых исследовать многие духовные явления просматривается то же самое согласие.
Однако, отказавшись от такой высокой цели как Бог, наука должна была закрыться чем-то чрезвычайно значимым для общественного мнения, что оправдывало бы любые странности поведения ученых. И было найдено нечто, что долгие века служило иным именем Бога – истина!
Истина и есть явный стяг научного сообщества. Скрытым же является все то же самое счастье, что и в любом обычном сообществе.
Счастье, которое этимологически происходит от понятия «часть». Быть с частью общей добычи, с долей общественного продукта, иметь свой удел, надел, выдел – все эти слова определяют твое место в обществе и соответствующую ему честь – достоинство, то есть цену – что ты стоишь. Ученый может получить свою настоящую цену, то есть быть оценен по достоинству, по чести только в сообществе себе подобных. Там он может и занять подобающее ему место. Вот это и есть счастье или скрыто-явная цель члена любого сообщества. Скрытая для чужих и явная для своих.
Давайте посмотрим на то, что мы имеем в итоге этого чтения. Несколько человек довольны собой, несколько человек напряженно и с легким сомнением тоже довольны собой, остальные – пошли в другое место! То есть, скорее всего, бросили чтение. Это не для них. Повторю: что мы имеем в результате наших действий, то и было нашей целью.
По понятиям общественной психологии и социологии целью использования подобного языка было: отобрать своих и не впустить чужих. Иначе говоря, создать еще одно маленькое научное сообщество. Так сказать, подсообщество философов языка внутри сообщества языковедов.
Это полностью соответствует мыслям выдающегося русского и американского социолога Питирима Сорокина о предназначении общественных институтов, к которым относится и наука:
«В любом обществе есть много людей, жаждущих продвижения в верхние слои. Но так как только некоторым удается сделать это, и так как при нормальных условиях социальная циркуляция не носит неупорядоченного характера, то вероятно предположить, что в любом обществе существует особый механизм, контролирующий процесс вертикальной циркуляции. Этот контроль заключается, во-первых, в тестировании индивидов для установления адекватного выполнения ими социальных функций; во-вторых, в селекции индивидов для определенных социальных позиций; в-третьих, в соответствующем распределении членов общества по различным социальным слоям, в их продвижении или деградации» (Сорокин, с.405).
К нашему случаю более всего подходит тот механизм, который Сорокин описывает под названием «школа»:
«До последних лет люди склонны были рассматривать школу прежде всего как образовательный институт. Ее социальная функция виделась во ”вливании” в учащегося определенного набора знаний и в корректировке его поведения. Тестирующая, селекционирующая и дистрибутивная функции почти полностью игнорировались, хотя именно эти функции школы едва ли менее значимы, чем функции “просвещения” и “образования”.<…> Иными словами, фундаментальная социальная функция школы заключается, во-первых, не только в том, чтобы выяснить, усвоил ли ученик часть учебников или нет, а прежде всего в том, чтобы при помощи экзаменов и наблюдений определить, кто талантлив, а кто нет, какие у кого способности, в какой степени они проявляются, какие из них социально и морально значимы. Во-вторых, эта функция заключается и в том, чтобы устранить тех, у кого нет ожидаемых интеллектуальных и моральных качеств. В-третьих, устраняя “неугодных”, закрыть для них пути для дальнейшего продвижения, по крайней мере, в определенные социальные области» (Там же, с.409).
Это наблюдение Сорокина о том, что такое «обучение» в обществе, еще понадобится нам впоследствии.
Согласия
Итак, на взгляд социального психолога, совершенно верные по сути наблюдения авторов текста о философии языка используются не в соответствии с явным смыслом высказываний, а в соответствии со смыслом скрытым. Кто этот скрытый смысл принимает, тот входит в число своих, сплоченных неким негласным согласием, например, согласием говорить на одном языке, или на тайном языке, языке, понятном только нашим. То же самое мы наблюдаем в детской психологии, психологии преступных сообществ, а также в психологии этнографических профессиональных, кастовых и тайных обществ. Причем язык этот, как и упомянутый выше «советский язык», имеет несколько уровней сложности. Это, например, использование «терминов» вместо слов, что означает или использование незнакомых обычному читателю иностранных слов, или использование слов родного языка в непривычном для всех значении. Ярчайшим примером этого был язык торговцев-офеней, использовавший грамматический строй русского языка, но заменявший русские слова на слова выдуманные, чтобы скрыть от покупателя торговые тайны. Тут надо уделить особое внимание одной разновидности использования обычных слов в науке. Их можно назвать личными терминами. На вид – это всего лишь самое обычное и привычное использование всем понятных слов. На самом же деле ученый использует их так, как понятно ему самому, не обговаривая это. Первый пример. Очень часто учеными всех стран используется яркое словечко анализ. И все, вроде бы, понимают фразы с этим словом. Но настоящее значение этого слова, как дают словари, – разложение, расчленение. При этом словари добавляют, что в науке анализ стал «методом научного исследования, состоящим в мысленном или фактическом разложении целого на составные части». В итоге слово и его определение как-то странно «трансмутировались» в мозгах людей и превратились в нечто странное. Метод исследования путем отсечения лишнего, разложения на составные части понимается лишь по первому слову – как исследование вообще. Вполне можно встретить даже у больших ученых фразы типа: «Я анализирую Платона!» При этом автор, чаще всего, вовсе и не применяет к сочинениям Платона метод собственно аналитический. Он просто исследует его.
Даже у такого знаменитого и действительно хорошего русского философа А. Ф. Лосева есть анекдотические рассуждения на эту тему. Анекдотические потому, что он в них как раз требует понятийной чистоты при употреблении подобных терминов, а сам не замечает, как «анализ» незаметно пробрался в его мышление:
«Всякий, кто достаточно занимался историей философии или эстетики, должен признать, что в процессе исследования он часто встречался с такими терминами, которые обычно считаются общепонятными и которые без всяких усилий обычно переводятся на всякий другой язык, оставаясь повсюду одним и тем же словом. До поры до времени мы оставляем эти термины без всякого анализа; и если они встречаются в античной философии, то зачастую и очень долго при употреблении их в новых языках мы так и оставляем их в греческом или латинском виде. Таковы, например, термины “структура”, “элемент”, “идея”, “форма”, “текст” и “контекст”. Однако такого рода иллюзия общепонятности при исследовании античных текстов начинает мало-помалу разрушаться, так что исследователь принужден бывает расстаться с ней и подвергнуть многие термины или понятия специальному историческому исследованию» (Лосев, 1973, с.182).
Очевидно, анекдотичность эта не случайна и будет сохраняться у всех ученых, кто попытается делать науку, но излагать ее обычным языком. В том числе и у меня. Слишком много уже сделано научным сообществом, слишком много действительно важных явлений мира уже описано на тайном языке, чтобы можно было сразу полностью избежать его употребления. Там, где удается перевести на русский слово «анализ», приходится использовать без перевода какое-нибудь другое, например, «текст» или «термин»…
Это, безусловно, связано с тем, что все подобные научные «термины», по сути, есть инструменты исследования, которые ученый изготовляет сам и по ходу, когда сталкивается с новым явлением. И другого пути в неведомое, похоже, нет. По крайней мере, если ты хочешь идти туда не один.
О чем-то подобном в языке науки писал Павел Флоренский, рассказывая, как он сам входил в науку:
«Я научился сам изготовлять себе потребные мне инструменты, как в буквальном смысле, так и в переносном, говоря о понятиях, и потому, хороши или плохи были мои научные понятия, я знал, как вообще делались они. Орудия научной мысли большинством даже образованных людей берутся или, скорее, получаются готовыми из-за границы и потому порабощают мысль, которая неспособна работать без них и весьма неясно представляет себе, как именно они выработаны и какова их настоящая прочность. Отсюда – склонность к научному фетишизму и тяжеловесная неповоротливость, когда поднимается вопрос о критике их предпосылок. Если большинство отвергает какие-нибудь понятия, то только потому, что уверовало в противоположные, т. е. настолько поработилось ими, что решительно неспособно мыслить без них» (Флоренский, с.123).
Другой пример – это использование обычных, бытовых слов в научном тексте без оговаривания их значения. По сути, это более тонкий пример того же самого, что и с иностранными заимствованиями. Русское слово оказывается настолько привычным, что ученый совершенно не в состоянии дать ему определение, а значит и видеть, какое понятие за ним стоит. В главе о Сократе это будет показано на примере такого «понятного» слова как «справедливость». В итоге употребление этого родного слова оказывается таким же, как иностранного. Ученый употребляет его с ощущением, что это-то слово уж точно всем понятно. И оно точно всем как-то понятно! Но вот как? А когда начинаешь разбираться, то выясняется, что за этим словом чаще всего скрывается понятийное устройство, несколько отличающееся от того, которое хотел использовать автор.
Можно вполне уверенно заявить, что молодая наука во время своего зарождения и становления, со свойственной любой молодости торопливостью, жаждала скорых плодов. Естественно, на деле их жаждали те молодые люди, которые рвались в науку, как в сообщество. И основная психологическая задача этой молодежи была – доказать «отцам», что они их догнали и превзошли. Поэтому в своей молодости наука предпочитает быстро заимствовать множество уже готовых иностранных терминов, вместо того, чтобы присмотреться к понятиям родного языка, то есть языка отцов. И им совершенно не важно, что язык рождался из тысячелетних наблюдений миллионов людей над теми же самыми физическими явлениями мира, которые они тщатся одолеть с наскоку новым методом. Родной язык есть, если приглядеться к нему, уже готовое и чрезвычайно тонкое описание того явления, которое и пытается исследовать наука. А с описания явления, с описания условий задачи только и может начинаться ее решение. Впрочем, оставлю в стороне точные и естественные науки. Пока мне важнее разобраться с тем согласием, которое существует по поводу языка у психологов.
Следующим уровнем сложности тайного языка можно назвать использование образов, которые известны только своим. Что означает в отношении научных сообществ: потратившим достаточно много времени и сил, чтобы такие образы запомнить (это вполне можно считать платой за вход в сообщество). При этом, тот же образ часто вполне может быть передан и по-другому – проще и понятнее, но это почти недопустимо, и отступник будет наказан легким презрением за «популяризаторство», которое портит лицо «настоящего» ученого.
Кроме того, обязательно существует несколько тем, по которым велись споры с другими школами или сообществами. «Наши» обязаны знать эти особенные темы и не имеют права ошибаться в их оценке даже в тонкостях. Отсутствие упоминания о каком-нибудь из подобных противников вызывает у ученых ядовитое замечание, вроде: «С ним можно не соглашаться, но знать-то старика надо…» Здесь вопрос стоит уже о своего рода нравственных ценностях сообщества, поэтому любой его настоящий член нравственно обязан показать, что он обязательно знает все бои науки, а упоминая подобные темы, дать почувствовать, как он оценивает сообщество противников и их взгляды. Отсутствие оценки «их» как плохих (пусть даже сильно завуалированной, тонкой), а «нас» как хороших, расценивается как своеобразное предательство. Особенно отличаются этим политизированные научные школы, какими, например, рассматривались общественные науки в советский период. Не избежала этого и психология. Если же ты читаешь работу незнакомого тебе автора, где таких оценок нет, и он явственно пытается быть «объективным», ты воспринимаешь его как ученого, но принадлежащего к иной школе, то есть любопытного чужака.
Соответственно, по всем вышеперечисленным пунктам все члены сообщества должны быть между собой более или менее определенно согласны. В случае явного несогласия сообщество разваливается или на два враждебных сообщества, или делится внутри себя на подсообщества. Есть, конечно, менее значимые вопросы, по которым допускается свободомыслие, но по основным, так сказать, нравственным, согласие считается обязательным.
Вот этот вот набор основных согласий, объединяющий людей в научное или иное сообщество, и является, по сути, его парадигмой.
При этом любая парадигма, в том числе и научная, включает в себя, с психологической точки зрения, как явные, заявленные согласия, так и скрытые. Почему? Потому что «вопросы», по которым достигаются «согласия», на самом деле являются целями или путями к тем или иным общественным благам, которые хочет иметь сообщество для своих членов в обход членов других сообществ. Иначе говоря, жизнь сообщества – это война, а на войне как на войне! Пути к целям и способы их достижения называются в армии тактикой и стратегией победы, а в науке – методом. А ученый – не только искатель истины, но и борец за место в своем сообществе, а для сообщества – боец на научном фронте за достойное место научного сообщества в обществе.
Следовательно, как бы ни выглядела научная или внешняя часть парадигмы, при психологическом ее исследовании нам придется заглядывать и в скрытую или нравственно-мировоззренческую ее часть, то есть задаваться вопросом: а зачем это нужно создателю теории? Что он хотел и чего достигал, делая это? В общей психологии это приблизительно обозначается термином «мотив».
Однако проверим, соответствует ли данное определение понятия «парадигма» общепринятым в психологии.
Психологический словарь дает следующее определение: «Парадигма (от греческого paradeigma – пример, образец) – система основных научных достижений (теорий, методов), по образцу которых организуется исследовательская практика ученых в данной области знаний (дисциплине) в определенный исторический период. Понятие введено американским историком Т. Куном, выделившим различные этапы в развитии научной дисциплины: препарадигмальный (предшествующий установлению Парадигмы), господства Парадигмы (“нормальная наука”), кризиса и научной революции, заключающейся в смене Парадигм, переходе от одной к другой. Проблемы, которые поставила концепция Парадигмы (о научной дисциплине и стадиях ее развития, о научном сообществе как коллективном субъекте познания и др.), разрабатываются советскими учеными с позиций диалектико-материалистической методологии. В дискуссиях о применимости понятия о Парадигме к психологии американские авторы высказали мнение о том, что в начале XX в. произошла смена интроспективной Парадигмы (психология сознания) на бихевиористскую (психология поведения), однако это мнение ошибочно, как односторонне отражающее реальный ход формирования психологии как научной дисциплины» (Психология. Словарь.1990).
Зачем автором этой словарной статьи высказана оценка противников в ее конце, по-моему, ясно. На войне как на войне! Мне, впрочем, вполне достаточно того, что данное определение полностью подтверждает мое представление о сути понятия “парадигма”.Бесспорно, на мой взгляд, и то, что правящая научная парадигма «советской науки», как и правящая парадигма любого другого научного сообщества, является оружием войны с «чужими», которую вели советские «ученые на службе партии или диктатуры пролетариата». И примеров того, как ради «нашей» победы «закрывались» научные истины и целые науки, немало на нашей исторической памяти.
Против этих моих слов о советской научной парадигме мне, дословно, уже говорилось следующее: «Не стоит вот так огульно хаять всю советскую науку сталинских времен. Все наши Нобелевские лауреаты вышли из этой школы. Надо ли ради красного хлесткого словца перечеркивать чью-то научную судьбу?» С психологической точки зрения, это очень важный пример того, как защищается само сообщество. Естественно, устами отдельных ученых. Ведь другие ученые в подобных условиях избирают говорить: «Все верно! Вот вам пример генетики или кибернетики в Советском Союзе! А вспомнить роман Дудинцева “Не хлебом единым”! О том, каково было тогда прорываться настоящим ученым сквозь собственное сообщество. Как их травили за то, что мыслили не так, как все! Да и сколько всего!»
Повторю еще раз. Исследуя научную парадигму, я не говорю о том, что раз плоха парадигма, так плохи и все ученые. Я всего лишь показываю сущность научного сообщества, как одной из частей общества, раскрывая его парадигму, то есть существующий между учеными набор согласий о совместном и правильном поведении. Вопрос о советских Нобелевских лауреатах и вообще выдающихся ученых для меня – это вопрос о том, они сделали свои открытия благодаря научному сообществу или же вопреки? А если было и то и другое, то какую помощь оказывало научное сообщество и в чем мешало? И соответственно, как ученый преодолевал эти помехи? И как изменить научное сообщество, чтобы оно перестало мешать и помогало больше?
Однако в данном исследовании меня интересует не постановка вопроса о русской, советской или психологической парадигме вообще, а то, какая парадигма должна лежать в основе культурно-исторической психологии как прикладной науки.
При такой постановке вопроса приведенного определения парадигмы оказывается недостаточно. Необходимо очертить такой круг согласий, который ощущался бы достаточным и, по крайней мере, давал бы возможность вести исследование. Итак, какие согласия должны входить в парадигму или, другими словами, в чем должно быть достигнуто согласие, чтобы сообщество оказалось жизнеспособным?
Вряд ли вызывает сомнения, что самое малое – это то, что члены сообщества должны понимать друг друга. Значит, язык, о чем уже говорилось ранее. Однако общепонятным для всего сообщества языком согласия не исчерпываются. Более того, даже при использовании единого языка любое сообщество что-то делает явным, а что-то скрывает ради выживания и неуязвимости. Как это делается?
Если исходить из бытового представления о том, как люди собираются в сообщества, то они должны договориться о том, зачем они собрались. Мы можем назвать это согласие целью сообщества.
Естественно, после того, как определена цель, решается вопрос о том, как ее достигать, то есть о способах. В науке это называется метод.
Однако определить способы можно только имея представление об условиях, в которых придется работать, то есть достигать цели. А это значит, необходимо описание мира, в котором будет жить сообщество, а также способ видеть мир или мировоззрение, с помощью которого сообщество может управлять поведением своих членов и обеспечивать свою жизнеспособность.
Наука о науке может говорить и о других составляющих парадигмы, например, о таких, как предмет. Однако, если присмотреться, то мы увидим, что это рассуждения о явной части парадигмы или, как это называется, идеальном образе науки, науке, как она должна быть, а значит, с точки зрения психологии сообществ, входит в способ достижения цели.
Пример. Твоя цель – выжить во что бы то ни стало во время крестьянского бунта, когда убивают всех правительственных шпионов. А за шпионов крестьяне принимают всех горожан, слоняющихся по селу без дела. Ты заявляешь, что ты землемер, и начинаешь мерить землю. Теперь у тебя есть «предмет». И ты принимаешься его самоотверженно исследовать. И даже достигаешь в этом деле значительных успехов, может быть, даже открываешь немало истин об устройстве земли! Но таких «предметов» ты можешь придумать множество, лишь бы выжить. Предмет, по сути, есть лишь составная часть способа, потому что является лишь материалом, из которого лепится будущая победа сообщества или отдельной личности.
У науки он должен быть подчеркнуто наукообразным исключительно в целях неуязвимости. Более того, вся явная часть парадигмы есть лишь один из приемов, относящихся к способу достижения цели, и может быть названа щитом.
Поэтому, с психологической точки зрения, парадигма научного сообщества представляется имеющей двойное устройство, состоящее из частей, повторяющих друг друга и вложенных одна в другую. Как это ни странно, но наружу она вывернута своей меньшей и как бы внутренней частью – той, что мы обычно и принимаем за истинную научную парадигму: это предмет, метод, язык науки, основания и описание мира, то есть щит или явная парадигма научного сообщества.
Чужой – а чужой всегда опасен – налетает при знакомстве с наукой именно на эти защитные рубежи, которые на самом деле являются лишь одним из приемов защиты от внешнего мира в рамках способа достижения цели, который работает по общему согласию у людей, одинаково видящих мир и понимающих друг друга чуть ли не без слов.
При таком подходе явная часть научной парадигмы может рассматриваться как крепостная стена, за которой идет жизнь по своим законам. Эти законы, безусловно, определяются той целью, ради которой сообщество собралось. Эту цель мы можем назвать стягом, то есть своего рода знаменем, под которое собираются свои.
Но вот цель эта на самом-то деле вовсе не договорное явление, не предмет согласия. К сожалению, в ней люди не вольны. По сути, она есть психологическая данность мышления определенного типа людей, которые подбираются по сходству, как бы притягиваются туда, где все такие. Забегая вперед, можно сказать, что наука – есть внешнее проявление весьма определенной психологической болезни, которой подвержена значительная часть человечества. Однако обоснованно это можно показать лишь в прикладном разделе исследования.
Скрытая цель научного сообщества, как и любого другого, – это всегда очень личностный и в силу этого уязвимый набор желаний. Именно в силу повышенной уязвимости этих желаний членов научного сообщества со стороны общественного мнения явная цель должна быть предельно неуязвимой, то есть из разряда таких, которые оправдывают даже самоубийство, как познание Бога в религии. Явная цель, как хороший щит, должна выдерживать самые яростные нападения. Поэтому явные цели всех сообществ, добившихся высокого места в мире, очень и очень схожи, потому что опираются на одни и те же основания, таящиеся в бытовом и мифологическом мышлении людей. И эти же основания можно обнаружить в сказке.
Научная парадигма возникает в том виде, в каком мы ее знаем сегодня, внутри религиозной парадигмы, закрепляя в общественном мнении право определенной части общества жить по иным психологическим законам, чем остальная масса людей. Возникает она в борьбе не на жизнь, а на смерть с церковью, во время которой многие борцы почти добровольно шли на смерть.
Эта «добровольность» весьма условна – в сознании ученого есть нечто, что не дает ему жить, как все. Если он «смирится» и попытается принять правящий обычай, это нечто все равно сделает его жизнь невыносимой. Поэтому он предпочитает не мучиться, а умирать в бою за право жить так, как хочет, попросту говоря, выбирая из двух смертей более достойную. В миг, когда религиозная парадигма оказалась невыносимой для слишком большого количества людей, общественное мнение признало за отступниками право жить по своим законам. Очевидно, их оказалось слишком много, чтобы можно было сжечь их всех, как ведьм.
Плодом этой борьбы оказалось полное неприятие наукой основной цели религии – Бога. Неприятие настолько категоричное внешне и так часто нарушаемое тайком, что через него отчетливо проступает парадигма науки как сообщества. Неважно, есть бог или нет, но мы всегда будем его отрицать, и никогда наука не будет проверять «эту гипотезу, без которой можно обойтись», своими средствами. Она в ней не нуждается! Бога нет не потому, что это доказано научно, а потому, что сообщество ученых договорилось так считать. Подлинная наука – это подлинно материалистическая наука!
За этими псевдонаучными лозунгами ощущается присутствие условной договоренности между двумя сообществами: религия позволит науке существовать, если та не будет лезть в ее дела. Соответственно, в отказе ученых исследовать многие духовные явления просматривается то же самое согласие.
Однако, отказавшись от такой высокой цели как Бог, наука должна была закрыться чем-то чрезвычайно значимым для общественного мнения, что оправдывало бы любые странности поведения ученых. И было найдено нечто, что долгие века служило иным именем Бога – истина!
Истина и есть явный стяг научного сообщества. Скрытым же является все то же самое счастье, что и в любом обычном сообществе.
Счастье, которое этимологически происходит от понятия «часть». Быть с частью общей добычи, с долей общественного продукта, иметь свой удел, надел, выдел – все эти слова определяют твое место в обществе и соответствующую ему честь – достоинство, то есть цену – что ты стоишь. Ученый может получить свою настоящую цену, то есть быть оценен по достоинству, по чести только в сообществе себе подобных. Там он может и занять подобающее ему место. Вот это и есть счастье или скрыто-явная цель члена любого сообщества. Скрытая для чужих и явная для своих.