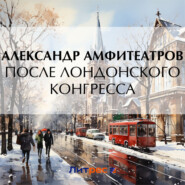По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жар-Цвет
Год написания книги
1895
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Любезный тесть, – возразил Алексей Леонидович с тревожным блеском в глазах, – я знаю, что не могу противопоставить вашему желанию ни одной разумной причины. Но у меня есть свои доводы, нелепые, может быть, но очень сильные… Выйдите на минуту в коридор. Я посоветуюсь с графом Валерием: как он скажет, так тому и быть…
Моллок и Вучич вышли.
– Вы знаете, о чем я хочу говорить? – спросил Дебрянский. Граф на его внимательный взгляд ответил таким же внимательным.
– Кажется, догадываюсь.
– Граф, меня никто не разуверит в том, что я гибну жертвой Лалы.
– Гибну – сильное слово, – возразил граф, – но госпожи этой, я не стану разуверять вас, вам, действительно, надо опасаться, так как – черт ее возьми совсем – она бешено зла на вас и, по дикому невежеству и суеверию своему, в самом деле, вполне способна устроить вам какую-нибудь большую гнусность.
– Вы говорили с ней? Узнали что-нибудь? – быстро прервал его больной.
– Да… как вам сказать… Говорил, да. Она странная особа, очень опасная и вредная во всяком случае… Или фантастка дикая, фанатическая, или отчаянная и мрачная шарлатанка… Каюсь, я было заподозрил даже, что она подсыпала вам чего-нибудь в вино или воду.
Дебрянский качал головой:
– Нет, нет, нет… я испорчен, не отравлен… я чувствую себя снова, как в Москве, под влиянием…
Он остановился, бросив на Гичовского подозрительный взгляд.
– Будьте откровенны, Дебрянский, – сказал Гичовский, – это очень важно.
Алексей Леонидович молчал и только смотрел жалко-жалко…
– Эта ведьма… Лала… – сказал он, наконец, – я боюсь ее, Гичовский, до ужаса боюсь. Из-за нее не хочу переезжать на виллу. Пусть вся ее власть надо мною – один бред расстроенного воображения, пусть она такая же, как все мы, может быть, даже лучше нас. Но раз я уверен, что она приносит мне вред, неужели вы думаете, что вблизи ее я буду чувствовать себя спокойно и могу поправиться?
– О нет. Конечно, вы правы. Но какую же приличную причину отказа мы скажем Вучичу?
– Ах, да скажите прямо настоящую! Что тут церемониться? У меня смерть в груди! – с досадою утомления, задыхаясь, произнес больной и закрыл глаза.
Но Вучича было трудно переупрямить. Узнав, что вся остановка из-за Лалы он только нахмурился косматыми бровями и головою кивнул:
– Ну, мы все это оборудуем.
И не заходя обратно в номер к Дебрянскому, сел в свою коляску – и умчался.
Гичовский сел возле дремлющего больного, вынул из кармана газету и с полчаса читал о выборах во Франции.
– Граф, – услыхал он голос Дебрянского, – помните ли вы: при первой нашей встрече я обещал вам рассказать странную галлюцинацию, жертвою которой я был в Москве.
Гичовский кивнул головою.
– Если вы расположены слушать, я хотел бы исполнить свое обещание.
– Я-то, конечно, расположен, Алексей Леонидович, но вас-то, я боюсь, эти воспоминания утомят и взволнуют, не повредили бы вы себе…
– Нет, ничего, да если бы и так, должен же я посоветоваться и разрешить свои сомнения… Наедине с ними в тоске болезни этой я хуже себя убиваю… Я очень боюсь сойти с ума, дорогой друг мой, а иногда мне кажется, что я уже сошел. Выслушайте меня, проверьте болезнь моего мозга – я доверяюсь вам, потому что вы можете тонко чувствовать и разберете в бреде моем, что было внутри меня, что – извне… Этот рыжий доктор туп и прямолинеен, он ничего не смыслит, кроме своей латинской кухни. Рассказать Вучичу я не решаюсь, потому что Зоица суеверна, и я боюсь ее перепугать… Хотя… быть может… вот, выслушайте и дайте мне совет: возможно, что мозг мой уже в таком плачевном состоянии, что мне следует лучше отказаться от Зоицы? Не погублю ли я девушку за собою? Гожусь ли я для брака и потомства? Не создам ли я какую-либо чудовищную наследственность? Обрекать девушку быть женою сумасшедшего – преступление, плодить психических выродков – тоже… Помогите мне. Я постараюсь быть как можно спокойнее. Слушайте. Вот – тот секрет, который загнал меня на Корфу…
Долог был рассказ больного, и, когда он кончил, Гичовский долго сидел смущенный, молча. В уме встали – вызывающим совпадением – недавние слова Лалы о мер твой женщине, которой силы Оби будто бы отдали Дебрянского в жертву.
– Почему вы молчите? – задыхаясь спросил больной.
– Потому что я должен обмыслить фантастику вашего рассказа в естественную систему и найти к нему логический ключ. Я не принадлежу к числу тех, кто отделывается от подобных историй легким словом «галлюцинация». Больной со страхом уставился на него.
– Вы верите в реальность этой… Анны?
– Нисколько.
– Этого не могло быть?
– Никак.
– Тогда – почему же вас смущает, зачем не хотите вы определить ее появление моей галлюцинацией?
– Напротив. Я именно так ее определяю, но ложные представления имеют свою логику: это те же сновидения, только наяву. Приблизительные сновидения можно фабриковать по заказу. Альфред Мори делал по этой части опыты изумительные. Логика сновидения идет кривыми или даже зигзагами извращения мысли, но все-таки остается логикою, и если ее не всегда удается проследить, то лишь по лени нашей слишком внимательно и пристально рыться в бесчисленных мелочах нашей дробной бодрственной жизни, дающей нашим снам наводящие отражения. Что человек смутно чувствует в снах присутствие логической основы, тому доказательство – извечное существование сонников. Все они – не что иное, как попытки своего рода научной классификации, желание найти в зыбкости грез закономерность, устойчивость и предсказательное постоянство. Всякий сонник, начиная с Oneirokritikon («Толкование снов» (др. – греч) Артемидора Эфесского, делившего вещие сны на теорематические и аллегорические, даже, пожалуй, начиная с Гомера, в стихах которого о белых воротах слоновой кости для снов, не имеющих значения, и о других, роговых, для вещих сновидений, Шопенгауэр усматривал намек на белое и серое вещество мозга, – так всякий сонник, говорю я, есть изыскание бредовой причинности, только обращенное вперед, а не назад, от себя, а не к себе. Причинная связь вашей московской галлюцинации обнаруживается легко. Этот врач Прядильников был совершенно прав, предостерегая вас от визитов к Петрову. Его бред упал на подготовленную почву нервного расстройства, в вас назревавшего, и которому навстречу вы сами шли с тем легким кокетством, что свойственно почти всем неврастеникам: пока нет невроза – почти обидно, зачем его нет, что, мол, я за грубая натура такая, что лишен его интересной чуткости? А нажил невроз – ан, и не знаешь, куда его деть, только дрожишь, как бы он не перешел в психоз? Не правда ли?
Дебрянский согласно склонил голову. Гичовский продолжал.
– Вы занималались оккультизмом. Скверно занимались. Любительски, дилетантски, в полувере, поисками «интересного», способного жутко пощекотать нервы и смутить чувства, такого, чтобы получить сильное ощущение и чтобы мороз подрал по коже. Это опять-таки кокетство с собственною нервною системою. Кто подходит к оккультическому ведению не во всеоружии «ума холодных наблюдений», кто не прочь соприкоснуться с ним чувством и полуверою фантазии и любопытства, тот никогда не будет господином оккультизма, но непременно станет его рабом или, по крайней мере, временно обязанным. Ваше мистическое чтение, ваши сеансы подготовили, так сказать, воздух для материализации бреда, который вы усвоили себе от Петрова, и достаточно было вам получить толчок от его безумного завещания, чтобы – на почве нервного расстройства и в воздухе поверхностной мистики – заразная галлюцинация вылепилась в самом деле, как какой-то «пузырь земли»… Знаете, о «лепком воздухе» – это у него, вашего Петрова, вышло выразительно. Это мне напоминает немца, который высчитал, что в пространство одной кубической мили может войти до ста тысяч миллионов умерших душ.
Дебрянский остановил его.
– Я нисколько не сомневаюсь, что вы правы в объяснении происхождения моей первой галлюцинации. Но не забудьте, что она была не минутная, но длящаяся, и повторилась несколько раз.
Гичовский пожал плечами.
– Относительно длительности галлюцинаций ни вы, ни я – не судьи. Знаете, почему бессмысленны на сцене и никогда не осмыслятся, как бы красиво их не ставили и хорошо ни играли, явления Духа в «Гамлете»? Потому что надо пересказать «мгновение» – даже не столько, сколько надо, чтобы сосчитать до ста, как уверяет Марцелло, а именно-таки мгновение. Мгновение во сне может быть полно действия на часы и даже на дни, но рассказать и показать действие мгновения в течение часа – скука, неестественность, чепуха страшная. Поэтому-то рассказывать сны справедливо почитается занятием довольно праздным, потерею времени. Сон очень слабо считается с идеей пространства и вовсе не считается с идеей времени, которое он заставляет работать в истинно бешеном темпе, с быстротою молнии. Мори однажды, в лихорадке, как вы, видел во сне Великую французскую революцию: террор, уличные убийства, конвент, революционный трибунал, Робеспьера, Марата, Фукье Тенвиля, вел с ними дебаты, был арестован, схвачен, судим, приговорен к смерти; вот его везут на колеснице при огромном стечении народа на площадь Революции, вот он входит на эшафот, палач привязывает его к роковой доске, раскачивает ее, и топор падает. Мори чувствует, что его голова отделилась от туловища, просыпается в страшной тоске и видит, что у него на шее стрелка от кровати, которая неожиданно оторвалась и упала ему на шейные позвонки, как нож гильотины. По словам его матери, это случилось в ту же минуту, как Мори проснулся, а между тем это внешнее впечатление послужило исходною точкою для сложнейшего сновидения, успевшего охватить целую историческую эпоху. Так точно один больной доктора Реха, приняв гашиш, прожил в течение одного часа три тысячи лет. Я наблюдал в России читальщиков псалтыря над покойниками. Эти усталые люди иногда охватываются быстро преходящим сном – на точке, на красной строке, на повороте страницы, причем засыпание и пробуждение так быстро следуют одно за другим, что, слушая их чтение, посторонний человек не замечает этих сонных интервалов. Между тем, сам спящий чувствует их отлично – вдруг ни с того, ни с сего обращается к вам со сконфуженным вопросом: я, кажется, вздремнул? – и если вы начнете его расспрашивать, то окажется, что он успел видеть длинный и интересный сон. Сновидение – это вечность в мгновении. То же самое и с галлюцинациями. Вы не убедите меня, что видели эту Анну часами. Страшная галлюцинация Лаваллета, когда мимо него прошла армия мертвецов, для него длилась пять часов, а для мира, по его же, Лаваллета, потом счету, десять минут, в действительности же, ровно столько секунд, сколько скрипели, выпуская мнимых мертвецов, разбудившие Лаваллета крепостные ворота. Это вы переживали мгновение Анны часами, а самая галлюцинация длилась не долее, чем удар стрелки по шее Мори, чем сонный интервал на повороте страницы у читальщика псалтыря. Да, я докажу вам это. О первом вашем обмороке вы полагаете, что он длился часами. О втором – вам достоверно известно, что ваш человек стал приводить вас в чувство немедленно после того, как вы упали в обморок. Между тем, ваши впечатления – видение и переживания – в обоих обмороках совершенно тождественны, одинаково подробны и, значит, одинаково длительны. Значит, часов обморока для галлюцинации вашей совсем не надо – она превосходно укладывается в минуты, а всего вероятнее, что минуты сводятся к секундам, и разница была не в длительности обмороков, а в глубине их: первый был глубже второго, почему и показался вам дольше. Согласны помириться на этом компромиссе? Ну вот! – обрадовался он, видя, что лицо больного как будто проясняется.
– Что касается повторности, то, к сожалению, милый мой Дебрянский, у галлюцинаций, вследствие сильного впечатления, которым они поражают наши чувства, есть способность развивать в нас чрез эмоцию страха само внушение движений невольных и противоположных. Вы, конечно, наблюдали, что люди, страдающие tic douloureux (нервное подергивание мышц (франц., мед), тем более кривляются лицом, чем сильнее стараются не выказывать своей болезни? Достаточно мысли о зевоте и даже именно о том, как бы не зевнуть, чтобы захотелось зевать. Истерические женщины сплошь и рядом в припадках своих говорят и делают именно то, чего не хотят говорить и делать. Дама идет со свечою по длинному, темному коридору. Ей приходит в голову: вот было бы страшно здесь, если бы свеча погасла, и я осталась в темноте. И едва эта мысль пришла ей в голову, как она задула свечу! Вот этакое-то противовольное самовнушение испуганного воображения и становится в нас орудием повторных галлюцинаций. Вальтер Скотт в своей «Демонологии» рассказывает со слов знаменитого доктора Грегори об одном больном, которого изо дня в день, аккуратно через час после обеда, посещал призрак старой колдуньи в красном платье и колотил его палкою так, что бедняга лишался чувств. Грегори предложил больному провести это опасное время вместе с ним. Они отлично пообедали вместе, и больной прозевал точный срок своего видения, но несколько минут спустя спохватился, противовольное внушение вошло в силу, и призрак оказался тут как тут: с криком – «Вот она, ведьма!» – больной упал в обморок. Это галлюцинация человека, расположенного к апоплексическому удару, который вскорости его и поразил. Ваше привидение, навеянное любовным бредом Петрова, «Коринфскою невестою», болтовнёю о ламиях, было эротического характера: поделом вам, не сидите чуть не до сорока лет в старых холостяках. Памятуйте, мой друг, великого плута Парацельса, который иногда, шарлатаня, говорил преумные обиняки: «магнит здоровых привлекается испорченным магнитом или хаосом больных; магнетическая сила женщин вся в матке, а мужчин – в семени». Половые аномалии и галлюцинаторное состояние – теснейшие соседи. Ваш психиатр поступил очень умно, что отправил вас путешествовать. История привидений доказывает, что они более всего ненавидят расставаться с местом и обстановкою, среди которых однажды появились. Это такие лежебоки и увальни, что иногда им лень перейти даже в одном доме из комнаты в комнату. Доктор Лелю в Бисетре достигал прекращения галлюцинаций у своих больных уже только тем, что переводил их из одной палаты в другую, в общество все новых и новых товарищей. Наоборот, если галлюцинат остается все в той же обстановке и среде, где началась его галлюцинация, где все наводит его на воспоминание о ней и на ожидание ее, она укрепляется, приходит и ярче, чище, становится, так сказать, фамильярнее и, наконец, может сделаться для больного более властною и действительною, чем явления реальной жизни. Тот же Вальтер Скотт рассказывает о больном, который все видел скелет в ногах своей постели. Медик, желавший убедить его в ошибке, стал между больным и тем местом, где было видение. Больной тогда начал утверждать, что, правда, скелета он более не видит, но череп еще торчит из-за плеча медика. Бывали примеры, что люди сживались со своим галлюцинациями именно фамильярно. Знаменитые духовиды-спиритуалисты XVIII века, как Николаи, либо Сведенборг, принимали ложные представления совершенно спокойно, как гостей из другого мира. Конечно, в спокойствии этом играло важную роль их мистическое миросозерцание, но если вы видели, как пьяница, не заботясь решительно ни о каком миросозерцании, гонит щелчком черта с рюмки, то вот вам пример, как галлюцинация, привычкою, может перейти из ужасного в обычное и даже комическое… Если бы вы остались в Москве, я нисколько не удивился бы, услыхав, что ваша прекрасная покойница принялась посещать вас каждую ночь. Но здесь, что хотите, надо вам о ней совершенно позабыть. И неоткуда ей взяться, и если бы что-нибудь даже померещилось, то владейте собою, черт возьми, не забывайте, что пред вами не существо, но ваша же ложная идея…
Дебрянский слушал его бодрую речь и все светлел лицом и глазами.
– И Лалицы не бойтесь. Признаюсь вам, сегодня утром я сам было струхнул за вас. Но с тех пор как она поклялась мне, что вы не отравлены, я спокоен. От малярии вас спасет путешествие, а в то, чтобы человек вашего сложения, образованный, с воспитанной волею, не устоял против самовнушения «дурного глаза» и был тяжко болен чрез воображение, в это я не верю, хотя вы и плачете, что испорчены. По крайней мере, такие болезни в России определяются как «не к смерти, но к славе божией». Когда Флобер описывал отравление Эммы Бовари, он имел во рту такой ясный вкус мышьяка, он сам был так отравлен, что выдержал одно за другим два жестоких несварения желудка, со рвотой и прочими выразительными симптомами, однако в конце концов воображаемый мышьяк убил только действующее лицо, но автор остался цел, здоров и невредим… Воле враждебного влияния противопоставляется воля сознательной самообороны, и рассудок должен поправить здоровье, расшатанное чрезмерною чуткостью или самообманом инстинкта.
– Ну, а вопрос о моей женитьбе… вы его замолчали, граф.
– С точки зрения наследственности я не могу вам ответить и не считаю себя вправе быть судьей, потому что родословия вашего не знаю и болезни вашей не изучал… Думаю, однако, что если бы все, кто имел в жизни своей несчастье стать жертвою ложных представлений, перестали жениться и рожать детей, то род человеческий значительно сократился бы.
– Притом, – раздумчиво произнес больной, – если бы я сейчас отказался от Зоицы, то, не говоря уже о мучительности этого переворота для меня, об оскорблении, которое я наношу Зоице и Вучичу, негодяйка Лала могла бы вообразить, что я ее струсил… Ну, нет. Этого торжества я ей не доставлю. Назло всем ее суеверным гадостям мы с Зоицей обвенчаемся в первый же день, когда я буду уверен, что смогу выстоять полчаса под венцом и ходить твердыми шагами вокруг аналоя… И вы будете моим шафером.
– И я буду вашим шафером.
В дверь постучали. Это вернулся Вучич – довольный, сияющий.
– Все устроено! – объявил он, потирая руки. – Я нанял для Лалы отдельную хижинку по другую сторону нашего залива, и она туда уже перебралась со своим Цмоком. А мы едем к нам, едем без разговоров и немедленно!.. Э, голубчик! Да вы молодцом смотрите. Гораздо лучше, чем когда я вас оставил…
Дебрянского уложили в коляску – и увезли. Граф Гичовский под предлогом, что должен написать несколько важных и спешных писем, остался в городе.
Моллок и Вучич вышли.
– Вы знаете, о чем я хочу говорить? – спросил Дебрянский. Граф на его внимательный взгляд ответил таким же внимательным.
– Кажется, догадываюсь.
– Граф, меня никто не разуверит в том, что я гибну жертвой Лалы.
– Гибну – сильное слово, – возразил граф, – но госпожи этой, я не стану разуверять вас, вам, действительно, надо опасаться, так как – черт ее возьми совсем – она бешено зла на вас и, по дикому невежеству и суеверию своему, в самом деле, вполне способна устроить вам какую-нибудь большую гнусность.
– Вы говорили с ней? Узнали что-нибудь? – быстро прервал его больной.
– Да… как вам сказать… Говорил, да. Она странная особа, очень опасная и вредная во всяком случае… Или фантастка дикая, фанатическая, или отчаянная и мрачная шарлатанка… Каюсь, я было заподозрил даже, что она подсыпала вам чего-нибудь в вино или воду.
Дебрянский качал головой:
– Нет, нет, нет… я испорчен, не отравлен… я чувствую себя снова, как в Москве, под влиянием…
Он остановился, бросив на Гичовского подозрительный взгляд.
– Будьте откровенны, Дебрянский, – сказал Гичовский, – это очень важно.
Алексей Леонидович молчал и только смотрел жалко-жалко…
– Эта ведьма… Лала… – сказал он, наконец, – я боюсь ее, Гичовский, до ужаса боюсь. Из-за нее не хочу переезжать на виллу. Пусть вся ее власть надо мною – один бред расстроенного воображения, пусть она такая же, как все мы, может быть, даже лучше нас. Но раз я уверен, что она приносит мне вред, неужели вы думаете, что вблизи ее я буду чувствовать себя спокойно и могу поправиться?
– О нет. Конечно, вы правы. Но какую же приличную причину отказа мы скажем Вучичу?
– Ах, да скажите прямо настоящую! Что тут церемониться? У меня смерть в груди! – с досадою утомления, задыхаясь, произнес больной и закрыл глаза.
Но Вучича было трудно переупрямить. Узнав, что вся остановка из-за Лалы он только нахмурился косматыми бровями и головою кивнул:
– Ну, мы все это оборудуем.
И не заходя обратно в номер к Дебрянскому, сел в свою коляску – и умчался.
Гичовский сел возле дремлющего больного, вынул из кармана газету и с полчаса читал о выборах во Франции.
– Граф, – услыхал он голос Дебрянского, – помните ли вы: при первой нашей встрече я обещал вам рассказать странную галлюцинацию, жертвою которой я был в Москве.
Гичовский кивнул головою.
– Если вы расположены слушать, я хотел бы исполнить свое обещание.
– Я-то, конечно, расположен, Алексей Леонидович, но вас-то, я боюсь, эти воспоминания утомят и взволнуют, не повредили бы вы себе…
– Нет, ничего, да если бы и так, должен же я посоветоваться и разрешить свои сомнения… Наедине с ними в тоске болезни этой я хуже себя убиваю… Я очень боюсь сойти с ума, дорогой друг мой, а иногда мне кажется, что я уже сошел. Выслушайте меня, проверьте болезнь моего мозга – я доверяюсь вам, потому что вы можете тонко чувствовать и разберете в бреде моем, что было внутри меня, что – извне… Этот рыжий доктор туп и прямолинеен, он ничего не смыслит, кроме своей латинской кухни. Рассказать Вучичу я не решаюсь, потому что Зоица суеверна, и я боюсь ее перепугать… Хотя… быть может… вот, выслушайте и дайте мне совет: возможно, что мозг мой уже в таком плачевном состоянии, что мне следует лучше отказаться от Зоицы? Не погублю ли я девушку за собою? Гожусь ли я для брака и потомства? Не создам ли я какую-либо чудовищную наследственность? Обрекать девушку быть женою сумасшедшего – преступление, плодить психических выродков – тоже… Помогите мне. Я постараюсь быть как можно спокойнее. Слушайте. Вот – тот секрет, который загнал меня на Корфу…
Долог был рассказ больного, и, когда он кончил, Гичовский долго сидел смущенный, молча. В уме встали – вызывающим совпадением – недавние слова Лалы о мер твой женщине, которой силы Оби будто бы отдали Дебрянского в жертву.
– Почему вы молчите? – задыхаясь спросил больной.
– Потому что я должен обмыслить фантастику вашего рассказа в естественную систему и найти к нему логический ключ. Я не принадлежу к числу тех, кто отделывается от подобных историй легким словом «галлюцинация». Больной со страхом уставился на него.
– Вы верите в реальность этой… Анны?
– Нисколько.
– Этого не могло быть?
– Никак.
– Тогда – почему же вас смущает, зачем не хотите вы определить ее появление моей галлюцинацией?
– Напротив. Я именно так ее определяю, но ложные представления имеют свою логику: это те же сновидения, только наяву. Приблизительные сновидения можно фабриковать по заказу. Альфред Мори делал по этой части опыты изумительные. Логика сновидения идет кривыми или даже зигзагами извращения мысли, но все-таки остается логикою, и если ее не всегда удается проследить, то лишь по лени нашей слишком внимательно и пристально рыться в бесчисленных мелочах нашей дробной бодрственной жизни, дающей нашим снам наводящие отражения. Что человек смутно чувствует в снах присутствие логической основы, тому доказательство – извечное существование сонников. Все они – не что иное, как попытки своего рода научной классификации, желание найти в зыбкости грез закономерность, устойчивость и предсказательное постоянство. Всякий сонник, начиная с Oneirokritikon («Толкование снов» (др. – греч) Артемидора Эфесского, делившего вещие сны на теорематические и аллегорические, даже, пожалуй, начиная с Гомера, в стихах которого о белых воротах слоновой кости для снов, не имеющих значения, и о других, роговых, для вещих сновидений, Шопенгауэр усматривал намек на белое и серое вещество мозга, – так всякий сонник, говорю я, есть изыскание бредовой причинности, только обращенное вперед, а не назад, от себя, а не к себе. Причинная связь вашей московской галлюцинации обнаруживается легко. Этот врач Прядильников был совершенно прав, предостерегая вас от визитов к Петрову. Его бред упал на подготовленную почву нервного расстройства, в вас назревавшего, и которому навстречу вы сами шли с тем легким кокетством, что свойственно почти всем неврастеникам: пока нет невроза – почти обидно, зачем его нет, что, мол, я за грубая натура такая, что лишен его интересной чуткости? А нажил невроз – ан, и не знаешь, куда его деть, только дрожишь, как бы он не перешел в психоз? Не правда ли?
Дебрянский согласно склонил голову. Гичовский продолжал.
– Вы занималались оккультизмом. Скверно занимались. Любительски, дилетантски, в полувере, поисками «интересного», способного жутко пощекотать нервы и смутить чувства, такого, чтобы получить сильное ощущение и чтобы мороз подрал по коже. Это опять-таки кокетство с собственною нервною системою. Кто подходит к оккультическому ведению не во всеоружии «ума холодных наблюдений», кто не прочь соприкоснуться с ним чувством и полуверою фантазии и любопытства, тот никогда не будет господином оккультизма, но непременно станет его рабом или, по крайней мере, временно обязанным. Ваше мистическое чтение, ваши сеансы подготовили, так сказать, воздух для материализации бреда, который вы усвоили себе от Петрова, и достаточно было вам получить толчок от его безумного завещания, чтобы – на почве нервного расстройства и в воздухе поверхностной мистики – заразная галлюцинация вылепилась в самом деле, как какой-то «пузырь земли»… Знаете, о «лепком воздухе» – это у него, вашего Петрова, вышло выразительно. Это мне напоминает немца, который высчитал, что в пространство одной кубической мили может войти до ста тысяч миллионов умерших душ.
Дебрянский остановил его.
– Я нисколько не сомневаюсь, что вы правы в объяснении происхождения моей первой галлюцинации. Но не забудьте, что она была не минутная, но длящаяся, и повторилась несколько раз.
Гичовский пожал плечами.
– Относительно длительности галлюцинаций ни вы, ни я – не судьи. Знаете, почему бессмысленны на сцене и никогда не осмыслятся, как бы красиво их не ставили и хорошо ни играли, явления Духа в «Гамлете»? Потому что надо пересказать «мгновение» – даже не столько, сколько надо, чтобы сосчитать до ста, как уверяет Марцелло, а именно-таки мгновение. Мгновение во сне может быть полно действия на часы и даже на дни, но рассказать и показать действие мгновения в течение часа – скука, неестественность, чепуха страшная. Поэтому-то рассказывать сны справедливо почитается занятием довольно праздным, потерею времени. Сон очень слабо считается с идеей пространства и вовсе не считается с идеей времени, которое он заставляет работать в истинно бешеном темпе, с быстротою молнии. Мори однажды, в лихорадке, как вы, видел во сне Великую французскую революцию: террор, уличные убийства, конвент, революционный трибунал, Робеспьера, Марата, Фукье Тенвиля, вел с ними дебаты, был арестован, схвачен, судим, приговорен к смерти; вот его везут на колеснице при огромном стечении народа на площадь Революции, вот он входит на эшафот, палач привязывает его к роковой доске, раскачивает ее, и топор падает. Мори чувствует, что его голова отделилась от туловища, просыпается в страшной тоске и видит, что у него на шее стрелка от кровати, которая неожиданно оторвалась и упала ему на шейные позвонки, как нож гильотины. По словам его матери, это случилось в ту же минуту, как Мори проснулся, а между тем это внешнее впечатление послужило исходною точкою для сложнейшего сновидения, успевшего охватить целую историческую эпоху. Так точно один больной доктора Реха, приняв гашиш, прожил в течение одного часа три тысячи лет. Я наблюдал в России читальщиков псалтыря над покойниками. Эти усталые люди иногда охватываются быстро преходящим сном – на точке, на красной строке, на повороте страницы, причем засыпание и пробуждение так быстро следуют одно за другим, что, слушая их чтение, посторонний человек не замечает этих сонных интервалов. Между тем, сам спящий чувствует их отлично – вдруг ни с того, ни с сего обращается к вам со сконфуженным вопросом: я, кажется, вздремнул? – и если вы начнете его расспрашивать, то окажется, что он успел видеть длинный и интересный сон. Сновидение – это вечность в мгновении. То же самое и с галлюцинациями. Вы не убедите меня, что видели эту Анну часами. Страшная галлюцинация Лаваллета, когда мимо него прошла армия мертвецов, для него длилась пять часов, а для мира, по его же, Лаваллета, потом счету, десять минут, в действительности же, ровно столько секунд, сколько скрипели, выпуская мнимых мертвецов, разбудившие Лаваллета крепостные ворота. Это вы переживали мгновение Анны часами, а самая галлюцинация длилась не долее, чем удар стрелки по шее Мори, чем сонный интервал на повороте страницы у читальщика псалтыря. Да, я докажу вам это. О первом вашем обмороке вы полагаете, что он длился часами. О втором – вам достоверно известно, что ваш человек стал приводить вас в чувство немедленно после того, как вы упали в обморок. Между тем, ваши впечатления – видение и переживания – в обоих обмороках совершенно тождественны, одинаково подробны и, значит, одинаково длительны. Значит, часов обморока для галлюцинации вашей совсем не надо – она превосходно укладывается в минуты, а всего вероятнее, что минуты сводятся к секундам, и разница была не в длительности обмороков, а в глубине их: первый был глубже второго, почему и показался вам дольше. Согласны помириться на этом компромиссе? Ну вот! – обрадовался он, видя, что лицо больного как будто проясняется.
– Что касается повторности, то, к сожалению, милый мой Дебрянский, у галлюцинаций, вследствие сильного впечатления, которым они поражают наши чувства, есть способность развивать в нас чрез эмоцию страха само внушение движений невольных и противоположных. Вы, конечно, наблюдали, что люди, страдающие tic douloureux (нервное подергивание мышц (франц., мед), тем более кривляются лицом, чем сильнее стараются не выказывать своей болезни? Достаточно мысли о зевоте и даже именно о том, как бы не зевнуть, чтобы захотелось зевать. Истерические женщины сплошь и рядом в припадках своих говорят и делают именно то, чего не хотят говорить и делать. Дама идет со свечою по длинному, темному коридору. Ей приходит в голову: вот было бы страшно здесь, если бы свеча погасла, и я осталась в темноте. И едва эта мысль пришла ей в голову, как она задула свечу! Вот этакое-то противовольное самовнушение испуганного воображения и становится в нас орудием повторных галлюцинаций. Вальтер Скотт в своей «Демонологии» рассказывает со слов знаменитого доктора Грегори об одном больном, которого изо дня в день, аккуратно через час после обеда, посещал призрак старой колдуньи в красном платье и колотил его палкою так, что бедняга лишался чувств. Грегори предложил больному провести это опасное время вместе с ним. Они отлично пообедали вместе, и больной прозевал точный срок своего видения, но несколько минут спустя спохватился, противовольное внушение вошло в силу, и призрак оказался тут как тут: с криком – «Вот она, ведьма!» – больной упал в обморок. Это галлюцинация человека, расположенного к апоплексическому удару, который вскорости его и поразил. Ваше привидение, навеянное любовным бредом Петрова, «Коринфскою невестою», болтовнёю о ламиях, было эротического характера: поделом вам, не сидите чуть не до сорока лет в старых холостяках. Памятуйте, мой друг, великого плута Парацельса, который иногда, шарлатаня, говорил преумные обиняки: «магнит здоровых привлекается испорченным магнитом или хаосом больных; магнетическая сила женщин вся в матке, а мужчин – в семени». Половые аномалии и галлюцинаторное состояние – теснейшие соседи. Ваш психиатр поступил очень умно, что отправил вас путешествовать. История привидений доказывает, что они более всего ненавидят расставаться с местом и обстановкою, среди которых однажды появились. Это такие лежебоки и увальни, что иногда им лень перейти даже в одном доме из комнаты в комнату. Доктор Лелю в Бисетре достигал прекращения галлюцинаций у своих больных уже только тем, что переводил их из одной палаты в другую, в общество все новых и новых товарищей. Наоборот, если галлюцинат остается все в той же обстановке и среде, где началась его галлюцинация, где все наводит его на воспоминание о ней и на ожидание ее, она укрепляется, приходит и ярче, чище, становится, так сказать, фамильярнее и, наконец, может сделаться для больного более властною и действительною, чем явления реальной жизни. Тот же Вальтер Скотт рассказывает о больном, который все видел скелет в ногах своей постели. Медик, желавший убедить его в ошибке, стал между больным и тем местом, где было видение. Больной тогда начал утверждать, что, правда, скелета он более не видит, но череп еще торчит из-за плеча медика. Бывали примеры, что люди сживались со своим галлюцинациями именно фамильярно. Знаменитые духовиды-спиритуалисты XVIII века, как Николаи, либо Сведенборг, принимали ложные представления совершенно спокойно, как гостей из другого мира. Конечно, в спокойствии этом играло важную роль их мистическое миросозерцание, но если вы видели, как пьяница, не заботясь решительно ни о каком миросозерцании, гонит щелчком черта с рюмки, то вот вам пример, как галлюцинация, привычкою, может перейти из ужасного в обычное и даже комическое… Если бы вы остались в Москве, я нисколько не удивился бы, услыхав, что ваша прекрасная покойница принялась посещать вас каждую ночь. Но здесь, что хотите, надо вам о ней совершенно позабыть. И неоткуда ей взяться, и если бы что-нибудь даже померещилось, то владейте собою, черт возьми, не забывайте, что пред вами не существо, но ваша же ложная идея…
Дебрянский слушал его бодрую речь и все светлел лицом и глазами.
– И Лалицы не бойтесь. Признаюсь вам, сегодня утром я сам было струхнул за вас. Но с тех пор как она поклялась мне, что вы не отравлены, я спокоен. От малярии вас спасет путешествие, а в то, чтобы человек вашего сложения, образованный, с воспитанной волею, не устоял против самовнушения «дурного глаза» и был тяжко болен чрез воображение, в это я не верю, хотя вы и плачете, что испорчены. По крайней мере, такие болезни в России определяются как «не к смерти, но к славе божией». Когда Флобер описывал отравление Эммы Бовари, он имел во рту такой ясный вкус мышьяка, он сам был так отравлен, что выдержал одно за другим два жестоких несварения желудка, со рвотой и прочими выразительными симптомами, однако в конце концов воображаемый мышьяк убил только действующее лицо, но автор остался цел, здоров и невредим… Воле враждебного влияния противопоставляется воля сознательной самообороны, и рассудок должен поправить здоровье, расшатанное чрезмерною чуткостью или самообманом инстинкта.
– Ну, а вопрос о моей женитьбе… вы его замолчали, граф.
– С точки зрения наследственности я не могу вам ответить и не считаю себя вправе быть судьей, потому что родословия вашего не знаю и болезни вашей не изучал… Думаю, однако, что если бы все, кто имел в жизни своей несчастье стать жертвою ложных представлений, перестали жениться и рожать детей, то род человеческий значительно сократился бы.
– Притом, – раздумчиво произнес больной, – если бы я сейчас отказался от Зоицы, то, не говоря уже о мучительности этого переворота для меня, об оскорблении, которое я наношу Зоице и Вучичу, негодяйка Лала могла бы вообразить, что я ее струсил… Ну, нет. Этого торжества я ей не доставлю. Назло всем ее суеверным гадостям мы с Зоицей обвенчаемся в первый же день, когда я буду уверен, что смогу выстоять полчаса под венцом и ходить твердыми шагами вокруг аналоя… И вы будете моим шафером.
– И я буду вашим шафером.
В дверь постучали. Это вернулся Вучич – довольный, сияющий.
– Все устроено! – объявил он, потирая руки. – Я нанял для Лалы отдельную хижинку по другую сторону нашего залива, и она туда уже перебралась со своим Цмоком. А мы едем к нам, едем без разговоров и немедленно!.. Э, голубчик! Да вы молодцом смотрите. Гораздо лучше, чем когда я вас оставил…
Дебрянского уложили в коляску – и увезли. Граф Гичовский под предлогом, что должен написать несколько важных и спешных писем, остался в городе.