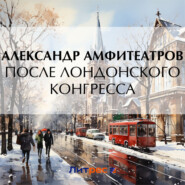По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жар-Цвет
Год написания книги
1895
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Все это, чем я утешил его, весьма прекрасно и справедливо, – размышлял он, бродя по Эспланаде, – и я очень рад, что мог его подбодрить и успокоить. Но в успокоение самому себе желал бы я понять и объяснить: каким же все-таки образом Лала узнала об этой его галлюцинации, если он никому здесь о ней не рассказывал раньше меня? Выходит ведь так, будто некто видит сон, а третье лицо этот сон со стороны наблюдает. Положим, Фламмарион – любовник мечты, и казусам его грош цена. Это логическая бессмыслица. Чужое ложное представление можно усвоить себе от субъекта под его влиянием и тогда разделить его с ним, что бывает при массовых галлюцинациях, но почувствовать ложное представление, которое субъект скрывает, угадать чужую галлюцинацию без наведения – такое чтение мыслей было бы, в самом деле, сверхъестественным. Уж скорее я допущу, что Лала – через расстояние – слышала те же бреды Дебрянского, которые слышал я, сидя у его постели. Эта женщина сама живет в хроническом бредовом состоянии, которое весьма часто связывается с обострениями слуха, почти чудотворными, почти похожими на то, что рассказывают о втором зрении. О слухе золотушных детей, когда им угрожают мозговые болезни, о слухе будущих паралитиков и некоторых сумасшедших накануне полного открытого помешательства я читал, помнится, вещи удивительнейшие. Один слышит, из верхнего этажа в нижний, тиканье карманных часов. Другой дословно слышит разговор шепотом, происходящий за несколько комнат, в отдаленной части большого дома. Доктор Руш знал двух слепых братьев в Филадельфии, которые, переходя улицу, слышали, что они приближаются к столбу вследствие того, что в соседстве столба для их слуха заметно менялся звук шага. Они называли по именам ручных голубей, с которыми играли в саду, узнавая их по звуку полета. Сензитивы Брэда под гипнозом слышали на 50 и даже 90 шагов дыхание человеческое, движение руки или веера… Больной доктора Шейна, будучи подвержен умственному помешательству в результате отравления, различал голоса на расстоянии километра.
Глава 9
Окруженный заботливыми попечениями Вучичей, Алексей Леонидович как будто начал поправляться. Моллок торжествовал:
– Теперь ясное дело, что вы малярик. Вас удалили с почвы, переселили на камень, в соседство моря – и вы уже почти не лихорадите, совершенно не бредите, и галлюцинации от вас отступились.
Убежденный этими благоприятными переменами, Гичовский радовался про себя, что может окончательно отказаться от своих подозрений на Лалу.
Выбрав удобную минуту, он откровенно высказал это Зоице. Болезнь Дебрянского и постоянные совместные дежурства у его постели сблизили графа с девушкою. Он почел и неприличным, и неудобным, почти нечестным скрывать от Зоицы, что проник в ее секрет и знает о ее недавней принадлежности к культу матери-Оби. Разговор вышел не из приятных, но после него как-то расчистилась атмосфера: обоим стало легче и смелее смотреть друг другу в глаза. А то девушка страшно изменилась в последние дни. Лицо ее стало нехорошо и дико. То выражение робкой и нечистой тайны, которое было и раньше ей присуще и так портило ее красивые черты, теперь еще осложнялось застылым ужасом.
– Вам, Зоица, надо взять себя в руки и смотреть веселее, – убеждал граф. – С такими фатальными глазами нельзя ухаживать за нервным больным. В каждом вашем взгляде даже не изрекает свой приговор, а кричит его самая безнадежная обреченность.
Зоица отвечала.
– Мой взгляд отражает то, что чувствует моя душа. Разве я не знаю, что все напрасно? Алексей не встанет.
– Однако ему лучше.
– Да, можно тянуть время: сегодня лучше, завтра хуже, но ведь я знаю: Лала непримирима, силы ее могущественны, мы виноваты пред нею… Алексей умрет, и я последую за ним.
– Я нимало тому не удивлюсь, если вы будете систематически настраивать себя на подобные мысли. Слушайте, Зоица, стыдно. Образованная вы девушка, в Вене учились, Гейне читали, а…
Зоица остановила его:
– Чему все это мешает? Вы думаете, в Вене Лала не нашла себе подруг? О! И еще таких, которые верили в нее гораздо более, чем я. Я ее любимица из всех, но далеко не единственная и не лучшая ученица. И при чем тут Гейне? Что же в том, что он скептик? Однако он так написал «Стихийных духов», что и не разобрать: смеется он или верует, – и я читала их Лале вслух, и Лале нравилось… Вы, может быть, правы, убеждая меня выбросить бредни Лалы из головы, но я впитывала их восемь лет, с младенчества, и ум совершенно отравлен ими, отравлен навсегда. В меня вошло суеверие, сильнейшее рассудка. Я не верю больше в эту Обь, которую исповедует Лала, но боюсь ее. Ореол, которым была окружена в моих глазах Лала, погас, но я была свидетельницею грозных чудес ее психической силы, и когда я думаю, что теперь эта сила обращена против меня, сознание беззащитности гнет меня, как былинку.
– Что же именно показывала вам Лала? Скажите, Зоица, если можно знать.
Зоица задумалась.
– Знаете ли? Это – разно… Иногда, когда я вспоминаю, мне кажется, что было страшно много, а иногда – вот сейчас, например, – совсем пустая память, будто не было ничего… Когда Лала втянула меня в свои обряды мне еще не исполнилось двенадцати лет, а ей тогда было уже близко двадцати, пожалуй, что и все двадцать. Она казалась мне самым совершенным существом на свете, да и в самом деле была она прекрасна: сильная, красивая, вдохновенная, с тысячами таинственных песен и дивных рассказов на языке – никто не умел сказать слова нежнее, никто не мог приласкать теплее. Я была совершенно порабощена ее влиянием, я следовала за нею – вот как теперь ее Цмок – всюду, куда она приказывала и хотела. И повторяю вам: я была не одна такая. Ее всегда почему-то ненавидели мужчины и замужние дамы, но обожали девицы, и так как она всем своим подругам и поклонницам предпочитала меня, то я была необыкновенно горда тем и готова за Лалицу и для Лалицы – хоть в огонь и воду. Когда я спрашивала ее: – чем объяснить, кто дал тебе это, что ты такая прекрасная, умная и очаровательная? – она отвечала: – Всем, что во мне есть, я обязана той силе, которой служу. Ей служили в каждом поколении Дубовичей бабки и матери наши, и все они были – как я. Если ты хочешь быть, как я, посвяти себя той же силе, и ты будешь не только такою, как я, но в тысячу раз прекраснее, сильнее меня, я буду пред тобою, как навозная муха пред белой лебедью… И она слегка приоткрыла передо мною секрет Матери-Оби… Сперва я испугалась. Тайна показалась мне Кощунством, а сама Лала переодетою стригою. Вы знаете моего отца: он, как все образованные южные славяне, на словах большой вольнодумец, да и в самом деле, в конце концов, веротерпим и считает религиозные убеждения делом совести каждого. Но в глубине души он – такой же прочный и воинствующий христианин, как старинные крестовые рыцари. Неверный для него – собака, и самая большая гордость его родословной, что флаг Вучичей носил крест к Триполийским берегам, и предки наши рубились там с мусульманами уже в такие далекие времена, когда ни один католический миссионер еще и носа туда не показывал. Но Лалица успокоила меня, будто необъятное могущество Матери-Оби не может быть оскорблено такою мелочью, что я наружно буду исполнять христианские обряды. Это даже хорошо и нужно, так как отвлекает подозрение и способствует тому, чтобы тайна Матери-Оби жила в Обществе святою, нерушимою, под покрывалом безмолвия жриц. Тому, кто принял крещение Великого Змея, – говорила она, – все позволено: весь мир для него становится лишь представлением внешности, которую он меняет, как хочет, потому что совсем не в ней существо жизни. Все государства, общества, идеи, религии, церкви, находимые то бою в этой внешности, не более как скользящий сон, исчезающий в недрах Матери-Оби быстрее и с меньшим влиянием, чем песчинка, брошенная в океан. Потому что песчинка падает ко дну и увеличивает собою твердую землю, в недрах же Матери-Оби нет дна. Она – вечный поток вещества, в непрерывном стремлении, без начала и конца, сам из себя изливающийся, в самого себя впадающий. Ты можешь чтить крест или полумесяц, целовать туфлю папы или руку цареградского патриарха, посещать храмы латинов или греков, мечеть или синагогу – Мать-Обь такая великая сила, что, в конце концов, как бы ты не молилась, ты – сама того не сознавая – все равно молишься ей. Этими словами она убедила меня. И вот в одну ночь, в августовское полнолуние, свершилось мое посвящение в жрицы Оби. Мы жили тогда в Дубровнике. Ночью Лала позвала меня, мы вылезли в окно и убежали садами в горы. Там, в неглубоком ущелье, Лала показала мне холм, над которым возвышался шест, обвитый сорочкою змеи, а на шесте – белый лошадиный череп.
– Это могила моей тетки Дивы, – сказала Лала. – Она была последнею жрицею Оби. Ею была я посвящена в познание истины, как теперь я посвящу тебя. Люди думают, что она умерла. Это неправда. Мы, верные Матери-Оби, не знаем смерти. Дух Дивы вошел в меня, и теперь, когда я стою пред Матерью-Обью, я не Лала, но Дива. Некогда и я отдам свое тело земле, но дух мой войдет в тебя, и тогда, становясь пред Матерью-Обью, ты тоже почувствуешь, что ты не Зоица, но Лала, и в Лале – Дива, и в Диве – все твои бабки и прабабки, святые девственницы Матери-Оби.
Она выбрала большой плоский камень, очертила его широким кругом, в который вписала пятиугольник, и разожгла на камне костер, распространявший прекрасный запах кипарисных дров. Пламя взвилось. Лалица время от времени то бросала в него порошок, то лила что-то из склянки – огонь странно менял свой цвет, был то голубой, то розовый, то красный, то желтый, и дышал то цветами, то ладаном, то серою. Простирая руки к костру, Лала говорила и пела что-то на непонятном языке, грубом, с гортанными взвизгиваниями, в горле у нее что-то щелкало, точно кость о кость или игрушка кри-кри. Отдыхая, в перерывах, она спрашивала меня – дрожащую, изумленную, смятенную:
– Чувствуешь ли веяние? Вихри слышат меня, сила слышит меня, сила идет. Видишь ли деву, качаемую на языках вещего пламени? То тень Дивы – дрожит в огне, приветствуя тебя, видишь: она зовет, она благословляет… Поклонись ей! Скажи ей:
– Радуйся, избранная из всех женщин земли, девственная мать моя!
Я не видела никакой Дивы, не чувствовала никакого веяния, но ущелье было так таинственно, ночь так мрачна и холодна, седые туманы надвигались такими мрачными клубами, пламя мигало по скалам такими причудливыми пятнами, что мало-помалу настроение Лалы покорило меня себе и совершенно захватило. Мне стали чудиться дальние голоса, за чертою круга скользили смутные видения, в холоде ветра как будто веяло и скользило что-то живое. Я взглянула на Лалу: мне показалось, что она уже не Лала, у нее другое лицо, много старше, прекрасное, мудрое и жестокое, я взглянула на могилу Дивы: мне показалось, что лошадиный череп скалит зубы и двигает челюстями, а змеиная кожа налилась телом, лоснится, вьется, отрастила голову и светит изумрудными глазами. Лала выла, кричала совой, каркала вороною, мяукала кошкою, лаяла собакою – ужас объял меня, ночь ожила, толпы диких фигур, кривоносых уродов заструились пред глазами моими, куда бы я ни отвернулась – на восток, на север, на запад, на юг – всюду вставали черные великаны, порывающиеся войти в круг… Я закричала не своим голосом и потеряла чувства… Очнулась я уже в своей постели. Сильная Лала на руках принесла меня домой… Вот, собственно говоря, и все чудеса, которые я видела. И – что тут было, чего не было – мне ли, двенадцатилетнему ребенку, было разбирать?
Все дети любят тайну, все дети любят игру. Фантастические рассказы Лалы, ее галлюцинации, ее талант к поэтической импровизации переплелись с моими собственными мечтами – я чувствовала себя гордо, что я не как все смертные, но совсем особенная девочка, знакомая с существами нездешнего мира. Было занимательно, жутко и весело участвовать в обрядах Матери-Оби, творя их, как таинственную игру, известную только нам с Лалою, было увлекательно воспринимать учение и легенды Матери-Оби, слушая их, как таинственную сказку, которой Лала, никому, кроме меня, не может рассказать. Когда игра утомила меня и стала мне надоедать, Лала снова подогрела меня откровением обо мне, будто бы ей бывшим, что я – избранница Великого Змея, будущая возрожденная Ева и мать таинственного нового бога из бездны, который возвратит блаженство земле и спасет вселенную. Мне в это время шел пятнадцатый год, я чувствовала себя взрослою, за мною уже начинали ухаживать, и я сама не без удовольствия мечтала, что вот еще года два – три и я буду замужем, хозяйка дома, самостоятельная дама. Лала, поймав мечты мои, пришла в бешенство и в очень горячей сцене напомнила мне, что я дала обет остаться девицею до самой смерти и никогда не думать о супружестве. Я ей отвечала со смехом, что мало ли какие важные обязанности призывают на себя в играх своих дети, это была игра! Она страшно побледнела.
– Как игра?
И вот тут-то она и пустила в ход свое откровение… Ну, и вы же знаете ее способность к импровизации и поэтическому захвату… Признаюсь, потрясла она меня страшно – и опять перед глазами моими как бы открылся новый какой-то, глубокий, бездонный мир.
Я спросила ее:
– Чем можешь ты уверить меня, что ты не ошибаешься, что Мать-Обь, действительно удостоила тебя откровения, и я – истинная избранница Великого Змея, возрожденная Ева, надежда людей?
Она решительно отвечала:
– Проси у меня знамения, какого хочешь!
Я не знала, что спросить. Тогда она сама предложила:
– Выбери любого из мертвых, кого хотела бы видеть живым: в знамение моей правды и твоей будущей великой власти он сейчас явится и пройдет пред тобою.
Мне было любопытно. Я согласилась. Тогда Лалица устремила мне в глаза свой блестящий взгляд, и мне, как тогда в ущелье, лицо ее показалось чужим и старым.
– Зови же, кого ты избираешь! – сказала она, и голос ее – хриплый и далекий – был не ее голос.
В трепете я не могла остановить мысли своей ни на одном из близких мертвецов. Между тем, блестящие глаза Лалы как будто все расширялись, сделались, как звезды, как солнце, и вместе с тем сама Лала будто ушла от меня вдаль, и голос ее, который я услышала, прозвучал будто из-за многих стен, из глухого погреба:
– Зови же…
Той зимою мы только что перебрались на постоянное жительство в Триест и несколько раз посещали соседний замок Мирамаре, сказочный дворец императора Максимилиана, расстрелянного в Мексике… Его имя всплыло в моей памяти, и я прошептала:
– Максимилиан Габсбургский, император Мексиканский…
Лицо Лалы подалось ко мне, и голос стал ближе.
– Еще!
– Максимилиан Габсбургский, император Мексиканский…
Еще ближе лицо Лалы, и в глазах уже человеческий свет.
– Еще!
– Максимилиан Габсбургский, император Мексиканский…
Лала была теперь совсем со мной и такая же, как всегда, только утомленная до того, что на нее было страшно смотреть. Я тоже чувствовала себя разбитою.
– Теперь ты поверишь, – сказала она, свистящим голосом, обливаясь потом по лицу. Он уже здесь.
Я огляделась и пожала плечами.
– Комната пуста, – возразила я, – ты ошибаешься: я не вижу никакого Максимилиана…
– А это – кто? – вдруг спросила она спокойно, тихо, почти шепотом, но опять с тем страшным, нечеловеческим звездным взором, показывая рукою на двери через террасу, в цветник… Я взглянула, буквально чувствуя, что она ведет пальцем своим глаза мои, будто привязанные на веревке.
В аллее сада, между двух деревьев стоял, как в раме, высокий австрийский офицер, в белом мундире, с большим блестящим палашом… Сердце мое закружилось и упало… в ушах загудело… Я узнала пристальный утомленный взгляд, рыжую бороду, нос и сутуловатую фигуру Габсбурга. Император Максимилиан был предо мной такой, как я только что видела его на портрете в фамильной галерее в Мирамаре… И в тот же миг ужасный крик человека, которого душат, погасил видение, и точно туман сплыл с меня, а на полу предо мною бесчувственная Лала билась и исходила пеной изо рта в жестоком припадке падучей.
Зоица умолкла, взволнованная, и бросала на Гичовского испытующие взгляды исподлобья. Он молчал.
Глава 9
Окруженный заботливыми попечениями Вучичей, Алексей Леонидович как будто начал поправляться. Моллок торжествовал:
– Теперь ясное дело, что вы малярик. Вас удалили с почвы, переселили на камень, в соседство моря – и вы уже почти не лихорадите, совершенно не бредите, и галлюцинации от вас отступились.
Убежденный этими благоприятными переменами, Гичовский радовался про себя, что может окончательно отказаться от своих подозрений на Лалу.
Выбрав удобную минуту, он откровенно высказал это Зоице. Болезнь Дебрянского и постоянные совместные дежурства у его постели сблизили графа с девушкою. Он почел и неприличным, и неудобным, почти нечестным скрывать от Зоицы, что проник в ее секрет и знает о ее недавней принадлежности к культу матери-Оби. Разговор вышел не из приятных, но после него как-то расчистилась атмосфера: обоим стало легче и смелее смотреть друг другу в глаза. А то девушка страшно изменилась в последние дни. Лицо ее стало нехорошо и дико. То выражение робкой и нечистой тайны, которое было и раньше ей присуще и так портило ее красивые черты, теперь еще осложнялось застылым ужасом.
– Вам, Зоица, надо взять себя в руки и смотреть веселее, – убеждал граф. – С такими фатальными глазами нельзя ухаживать за нервным больным. В каждом вашем взгляде даже не изрекает свой приговор, а кричит его самая безнадежная обреченность.
Зоица отвечала.
– Мой взгляд отражает то, что чувствует моя душа. Разве я не знаю, что все напрасно? Алексей не встанет.
– Однако ему лучше.
– Да, можно тянуть время: сегодня лучше, завтра хуже, но ведь я знаю: Лала непримирима, силы ее могущественны, мы виноваты пред нею… Алексей умрет, и я последую за ним.
– Я нимало тому не удивлюсь, если вы будете систематически настраивать себя на подобные мысли. Слушайте, Зоица, стыдно. Образованная вы девушка, в Вене учились, Гейне читали, а…
Зоица остановила его:
– Чему все это мешает? Вы думаете, в Вене Лала не нашла себе подруг? О! И еще таких, которые верили в нее гораздо более, чем я. Я ее любимица из всех, но далеко не единственная и не лучшая ученица. И при чем тут Гейне? Что же в том, что он скептик? Однако он так написал «Стихийных духов», что и не разобрать: смеется он или верует, – и я читала их Лале вслух, и Лале нравилось… Вы, может быть, правы, убеждая меня выбросить бредни Лалы из головы, но я впитывала их восемь лет, с младенчества, и ум совершенно отравлен ими, отравлен навсегда. В меня вошло суеверие, сильнейшее рассудка. Я не верю больше в эту Обь, которую исповедует Лала, но боюсь ее. Ореол, которым была окружена в моих глазах Лала, погас, но я была свидетельницею грозных чудес ее психической силы, и когда я думаю, что теперь эта сила обращена против меня, сознание беззащитности гнет меня, как былинку.
– Что же именно показывала вам Лала? Скажите, Зоица, если можно знать.
Зоица задумалась.
– Знаете ли? Это – разно… Иногда, когда я вспоминаю, мне кажется, что было страшно много, а иногда – вот сейчас, например, – совсем пустая память, будто не было ничего… Когда Лала втянула меня в свои обряды мне еще не исполнилось двенадцати лет, а ей тогда было уже близко двадцати, пожалуй, что и все двадцать. Она казалась мне самым совершенным существом на свете, да и в самом деле была она прекрасна: сильная, красивая, вдохновенная, с тысячами таинственных песен и дивных рассказов на языке – никто не умел сказать слова нежнее, никто не мог приласкать теплее. Я была совершенно порабощена ее влиянием, я следовала за нею – вот как теперь ее Цмок – всюду, куда она приказывала и хотела. И повторяю вам: я была не одна такая. Ее всегда почему-то ненавидели мужчины и замужние дамы, но обожали девицы, и так как она всем своим подругам и поклонницам предпочитала меня, то я была необыкновенно горда тем и готова за Лалицу и для Лалицы – хоть в огонь и воду. Когда я спрашивала ее: – чем объяснить, кто дал тебе это, что ты такая прекрасная, умная и очаровательная? – она отвечала: – Всем, что во мне есть, я обязана той силе, которой служу. Ей служили в каждом поколении Дубовичей бабки и матери наши, и все они были – как я. Если ты хочешь быть, как я, посвяти себя той же силе, и ты будешь не только такою, как я, но в тысячу раз прекраснее, сильнее меня, я буду пред тобою, как навозная муха пред белой лебедью… И она слегка приоткрыла передо мною секрет Матери-Оби… Сперва я испугалась. Тайна показалась мне Кощунством, а сама Лала переодетою стригою. Вы знаете моего отца: он, как все образованные южные славяне, на словах большой вольнодумец, да и в самом деле, в конце концов, веротерпим и считает религиозные убеждения делом совести каждого. Но в глубине души он – такой же прочный и воинствующий христианин, как старинные крестовые рыцари. Неверный для него – собака, и самая большая гордость его родословной, что флаг Вучичей носил крест к Триполийским берегам, и предки наши рубились там с мусульманами уже в такие далекие времена, когда ни один католический миссионер еще и носа туда не показывал. Но Лалица успокоила меня, будто необъятное могущество Матери-Оби не может быть оскорблено такою мелочью, что я наружно буду исполнять христианские обряды. Это даже хорошо и нужно, так как отвлекает подозрение и способствует тому, чтобы тайна Матери-Оби жила в Обществе святою, нерушимою, под покрывалом безмолвия жриц. Тому, кто принял крещение Великого Змея, – говорила она, – все позволено: весь мир для него становится лишь представлением внешности, которую он меняет, как хочет, потому что совсем не в ней существо жизни. Все государства, общества, идеи, религии, церкви, находимые то бою в этой внешности, не более как скользящий сон, исчезающий в недрах Матери-Оби быстрее и с меньшим влиянием, чем песчинка, брошенная в океан. Потому что песчинка падает ко дну и увеличивает собою твердую землю, в недрах же Матери-Оби нет дна. Она – вечный поток вещества, в непрерывном стремлении, без начала и конца, сам из себя изливающийся, в самого себя впадающий. Ты можешь чтить крест или полумесяц, целовать туфлю папы или руку цареградского патриарха, посещать храмы латинов или греков, мечеть или синагогу – Мать-Обь такая великая сила, что, в конце концов, как бы ты не молилась, ты – сама того не сознавая – все равно молишься ей. Этими словами она убедила меня. И вот в одну ночь, в августовское полнолуние, свершилось мое посвящение в жрицы Оби. Мы жили тогда в Дубровнике. Ночью Лала позвала меня, мы вылезли в окно и убежали садами в горы. Там, в неглубоком ущелье, Лала показала мне холм, над которым возвышался шест, обвитый сорочкою змеи, а на шесте – белый лошадиный череп.
– Это могила моей тетки Дивы, – сказала Лала. – Она была последнею жрицею Оби. Ею была я посвящена в познание истины, как теперь я посвящу тебя. Люди думают, что она умерла. Это неправда. Мы, верные Матери-Оби, не знаем смерти. Дух Дивы вошел в меня, и теперь, когда я стою пред Матерью-Обью, я не Лала, но Дива. Некогда и я отдам свое тело земле, но дух мой войдет в тебя, и тогда, становясь пред Матерью-Обью, ты тоже почувствуешь, что ты не Зоица, но Лала, и в Лале – Дива, и в Диве – все твои бабки и прабабки, святые девственницы Матери-Оби.
Она выбрала большой плоский камень, очертила его широким кругом, в который вписала пятиугольник, и разожгла на камне костер, распространявший прекрасный запах кипарисных дров. Пламя взвилось. Лалица время от времени то бросала в него порошок, то лила что-то из склянки – огонь странно менял свой цвет, был то голубой, то розовый, то красный, то желтый, и дышал то цветами, то ладаном, то серою. Простирая руки к костру, Лала говорила и пела что-то на непонятном языке, грубом, с гортанными взвизгиваниями, в горле у нее что-то щелкало, точно кость о кость или игрушка кри-кри. Отдыхая, в перерывах, она спрашивала меня – дрожащую, изумленную, смятенную:
– Чувствуешь ли веяние? Вихри слышат меня, сила слышит меня, сила идет. Видишь ли деву, качаемую на языках вещего пламени? То тень Дивы – дрожит в огне, приветствуя тебя, видишь: она зовет, она благословляет… Поклонись ей! Скажи ей:
– Радуйся, избранная из всех женщин земли, девственная мать моя!
Я не видела никакой Дивы, не чувствовала никакого веяния, но ущелье было так таинственно, ночь так мрачна и холодна, седые туманы надвигались такими мрачными клубами, пламя мигало по скалам такими причудливыми пятнами, что мало-помалу настроение Лалы покорило меня себе и совершенно захватило. Мне стали чудиться дальние голоса, за чертою круга скользили смутные видения, в холоде ветра как будто веяло и скользило что-то живое. Я взглянула на Лалу: мне показалось, что она уже не Лала, у нее другое лицо, много старше, прекрасное, мудрое и жестокое, я взглянула на могилу Дивы: мне показалось, что лошадиный череп скалит зубы и двигает челюстями, а змеиная кожа налилась телом, лоснится, вьется, отрастила голову и светит изумрудными глазами. Лала выла, кричала совой, каркала вороною, мяукала кошкою, лаяла собакою – ужас объял меня, ночь ожила, толпы диких фигур, кривоносых уродов заструились пред глазами моими, куда бы я ни отвернулась – на восток, на север, на запад, на юг – всюду вставали черные великаны, порывающиеся войти в круг… Я закричала не своим голосом и потеряла чувства… Очнулась я уже в своей постели. Сильная Лала на руках принесла меня домой… Вот, собственно говоря, и все чудеса, которые я видела. И – что тут было, чего не было – мне ли, двенадцатилетнему ребенку, было разбирать?
Все дети любят тайну, все дети любят игру. Фантастические рассказы Лалы, ее галлюцинации, ее талант к поэтической импровизации переплелись с моими собственными мечтами – я чувствовала себя гордо, что я не как все смертные, но совсем особенная девочка, знакомая с существами нездешнего мира. Было занимательно, жутко и весело участвовать в обрядах Матери-Оби, творя их, как таинственную игру, известную только нам с Лалою, было увлекательно воспринимать учение и легенды Матери-Оби, слушая их, как таинственную сказку, которой Лала, никому, кроме меня, не может рассказать. Когда игра утомила меня и стала мне надоедать, Лала снова подогрела меня откровением обо мне, будто бы ей бывшим, что я – избранница Великого Змея, будущая возрожденная Ева и мать таинственного нового бога из бездны, который возвратит блаженство земле и спасет вселенную. Мне в это время шел пятнадцатый год, я чувствовала себя взрослою, за мною уже начинали ухаживать, и я сама не без удовольствия мечтала, что вот еще года два – три и я буду замужем, хозяйка дома, самостоятельная дама. Лала, поймав мечты мои, пришла в бешенство и в очень горячей сцене напомнила мне, что я дала обет остаться девицею до самой смерти и никогда не думать о супружестве. Я ей отвечала со смехом, что мало ли какие важные обязанности призывают на себя в играх своих дети, это была игра! Она страшно побледнела.
– Как игра?
И вот тут-то она и пустила в ход свое откровение… Ну, и вы же знаете ее способность к импровизации и поэтическому захвату… Признаюсь, потрясла она меня страшно – и опять перед глазами моими как бы открылся новый какой-то, глубокий, бездонный мир.
Я спросила ее:
– Чем можешь ты уверить меня, что ты не ошибаешься, что Мать-Обь, действительно удостоила тебя откровения, и я – истинная избранница Великого Змея, возрожденная Ева, надежда людей?
Она решительно отвечала:
– Проси у меня знамения, какого хочешь!
Я не знала, что спросить. Тогда она сама предложила:
– Выбери любого из мертвых, кого хотела бы видеть живым: в знамение моей правды и твоей будущей великой власти он сейчас явится и пройдет пред тобою.
Мне было любопытно. Я согласилась. Тогда Лалица устремила мне в глаза свой блестящий взгляд, и мне, как тогда в ущелье, лицо ее показалось чужим и старым.
– Зови же, кого ты избираешь! – сказала она, и голос ее – хриплый и далекий – был не ее голос.
В трепете я не могла остановить мысли своей ни на одном из близких мертвецов. Между тем, блестящие глаза Лалы как будто все расширялись, сделались, как звезды, как солнце, и вместе с тем сама Лала будто ушла от меня вдаль, и голос ее, который я услышала, прозвучал будто из-за многих стен, из глухого погреба:
– Зови же…
Той зимою мы только что перебрались на постоянное жительство в Триест и несколько раз посещали соседний замок Мирамаре, сказочный дворец императора Максимилиана, расстрелянного в Мексике… Его имя всплыло в моей памяти, и я прошептала:
– Максимилиан Габсбургский, император Мексиканский…
Лицо Лалы подалось ко мне, и голос стал ближе.
– Еще!
– Максимилиан Габсбургский, император Мексиканский…
Еще ближе лицо Лалы, и в глазах уже человеческий свет.
– Еще!
– Максимилиан Габсбургский, император Мексиканский…
Лала была теперь совсем со мной и такая же, как всегда, только утомленная до того, что на нее было страшно смотреть. Я тоже чувствовала себя разбитою.
– Теперь ты поверишь, – сказала она, свистящим голосом, обливаясь потом по лицу. Он уже здесь.
Я огляделась и пожала плечами.
– Комната пуста, – возразила я, – ты ошибаешься: я не вижу никакого Максимилиана…
– А это – кто? – вдруг спросила она спокойно, тихо, почти шепотом, но опять с тем страшным, нечеловеческим звездным взором, показывая рукою на двери через террасу, в цветник… Я взглянула, буквально чувствуя, что она ведет пальцем своим глаза мои, будто привязанные на веревке.
В аллее сада, между двух деревьев стоял, как в раме, высокий австрийский офицер, в белом мундире, с большим блестящим палашом… Сердце мое закружилось и упало… в ушах загудело… Я узнала пристальный утомленный взгляд, рыжую бороду, нос и сутуловатую фигуру Габсбурга. Император Максимилиан был предо мной такой, как я только что видела его на портрете в фамильной галерее в Мирамаре… И в тот же миг ужасный крик человека, которого душат, погасил видение, и точно туман сплыл с меня, а на полу предо мною бесчувственная Лала билась и исходила пеной изо рта в жестоком припадке падучей.
Зоица умолкла, взволнованная, и бросала на Гичовского испытующие взгляды исподлобья. Он молчал.