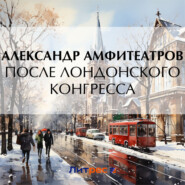По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жар-Цвет
Год написания книги
1895
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Утром нашли его замерзшим на кладбищенской паперти. Лицо трупа было обращено к небу; блаженная улыбка застыла на спокойных чертах.
Да, Паклевецкий прав: изумил меня дедушка Дмитрий Иванович. Всю жизнь пред людьми ходил, как в панцире ледяном. Даже мы, близкие, всем ему обязанные, им любимые, его любившие, считали его изрядным-таки сухарем. А между тем наедине с самим собою, запершись в своем рабочем кабинете, у письменного стола, он оказывается плаксивейшим вдовцом, сантименталистом чистейшем воды и суеверно ищет медиума для общения с мертвою женою, Твардовского, который показал бы ему его золотоволосую Лидию, как королю Сигизмунду – Барбару Радзивилл. Потому что – ясное же дело: здесь автобиографии не меньше, чем в записках тетки Ядвиги. Изучал Фейербаха, клялся Дарвином, а требует помощи от оккультической литературы. Теперь я знаю, почему сохранился и кому принадлежал полууставный листок семнадцатого века с советом, как гипнотизировать себя Большою Медведицею на встречу с любимым мертвецом: некромантический рецепт таинственного существа в повести дедушки Дмитрия Ивановича – почти дословный перевод! И «Natura Nutrix» была дедушке небезызвестна. Атомистическая философия повести – оттуда. Автор «Natura Nutrix» – яркий атомист. Особенно – в главе о стихийных духах. Я читал ее намедни с глубоким интересом современности. Эти стихийные духи для средних веков были совершенно точною заменою нынешних микроорганизмов: все физическое добро и зло – от них, князей воздушных. Вообще, видение дедушки – отчаянный плагиат. Его «какой конец? Конца в мире не бывает» – литературное воровство у старика Мефистофеля…
Vorbei! ein dummes Wort. Warum vorbei? Vorbei und reines Nichts – Volk ommnes Einerlei? (Мефистофель: Конец? Нелепое словцо! Чему конец? Что, собственно, случилось? (Гете «Фауст» ч. II, пер. Б. Пастернака).
27 мая
Я не хорошо засыпаю в последнее время – тяжело, смутно. Что-то душит за горло, подкатывает истерическим клубком к сердцу. В ушах сквозь сон чуть-чуть и уныло звенит, как далекий стон молодых лягушек, пока не убаюкает меня… Я уже сплю, уже сны вижу, а все-таки чувствую, будто кто-то реет надо мною, дышит на меня и все звенит на меня и все звенит: зачем? зачем? зачем?
Не могу сказать, чтобы это ощущение чужого дыхания на коже доставляло мне удовольствие; оно похоже на эпилептическую ауру… Но мне уже тридцать семь лет. Падучая болезнь в эти годы не проявляется – разве у алкоголиков. Так ни я, ни кто другой из нашей семьи никогда пьяницами не были… Посоветовался с Паклевецким. Он насказал мне страстей… Спрашивает:
– У вас не было зрительных галлюцинаций?
– Нет… обманы зрения, иллюзорные явления, конечно, случались…
– И галлюцинации будут.
– Вот так обрадовали! На каких же основаниях вы пророчите мне этакую прелесть?
– На самых простых: вы слегка меланхолик; нервное расстройство прошло у вас по периферии, чувствительность всюду повышена, следовательно, передачи мозговых отправлений совершаются неправильно. То, что называется – психическая дистэзия… Ну-с, при всех этих условиях да еще при вашем фантастическом настроении к переходу от иллюзорных явлений до галлюцинаций очень недолго…
– Откуда вы взяли, что у меня фантастическое настроение? Напротив!
– А вы все разную чушь читаете да разные дива видите.
– Никаких див я не видал… Бог с вами! А что до дедовских книг, то, полагаю, научный интерес к ним не имеет ничего общего с суеверием. Эта дрожь в воздухе, этот стонущий звук, это дыхание за моими плечами тревожат меня исключительно как физическое явление – доказательство моего недомогания. Я знаю очень хорошо, что все это происходит во мне самом, а вовсе не вне меня. Я, пан Коронат, бывал в таких фантастических переделках, что если уж тогда не сделался фантастом, то теперь и подавно не сделаюсь. Нет, голубчик, лекарствица для тела вы мне пропишите, пожалуй, а души не касайтесь: по этой части я сам себе доктор.
Глаза Паклевецкого блеснули.
– Тем лучше, тем лучше! – сказал он, потирая ладони, и принялся убеждать, чтобы я не оставался один, «сам с собою», как можно больше развлекался и бывал в обществе…
– Покорнейше благодарю за совет! Но где я в нашей глуши найду общество?
Он ухмыльнулся, подмигивая.
– А хоть бы у Лапоциньских… Кстати, как здоровье вашей панны Ольгуси?
– Знаете, доктор, – строго заметил я, – деревенская свобода допускает много лишнего в речах, однако и ей бывают границы.
Он залился своим обычным неискренним хохотом, хохотом без смеха при холодных и серьезных глазах:
– Ну, не буду, не буду! – слово гонору, в последний раз! Однако…
Он пристально посмотрел на меня.
– При первом нашем разговоре о панне Ольгусе вы не рассердились, а теперь вот как вспыхнули… Эге-ге-ге!
И он ударил себя ладонью по лбу: «ах, мол я, телятина!» Не уйми я его, он распространялся бы до бесконечности. Скалить зубы, кажется, он еще больший мастер, чем лечить. А относительно обмана зрения он прав: глаза мои работают неправильно. Сегодня, например, когда он подошел к моему письменному столу и оперся на него своими толстыми, кривыми пальцами, я ясно видел, что мраморные ручки затрепетали, как живые, быстрою и мелкою дрожью, точно от испуга…
– Видите, как они ко мне привязаны… Уже одно приближение человека, который хотел их у меня отнять, заставляет их дрожать.
Когда доктор отшучивался, я понял, что напрасно сказал ему эти слова: тон его был неприятен… он, кажется, складывает всякую шутку в сердце своем, как колкость и злейшую обиду, и немало уже накопил злости против меня.
1 июня
Давно ничего не записывал… Ольгуся меня совсем завертела. То – кататься верхом, то пикники, то гулянья, то Лапоциньские у меня, то я у них. Вчера прилетела ко мне верхом – одна, уже под вечер… Чтобы проводить Ольгусю до дома, я велел оседлать Карабеля. Возвращаюсь с крыльца в столовую – Ольгуся сидит бледная, в глазах испуг, а сама хохочет.
– Что с тобою?
– Представь… вот глупость-то!.. перепугалась сейчас до полусмерти… вот даже не могу успокоиться, как бьется сердце…
– Да чего же, чего?
– Хотела поправить шляпу, прошла в гостиную… Там уже сумеречно… И вдруг вижу, будто мне навстречу идет женщина… Приглядываюсь: эта женщина – я сама… я как взвизгну – да бежать в столовую… и только здесь при свете, сообразила, что у тебя там трюмо во всю стену, и, стало быть, я струсила собственного своего отражения!
Ольгусе тоже очень нравятся «ручки», я подарю их ей в день рождения. Только надо обломанные места обделать в металл… Любопытно, что руки Ольгуси похожи на «ручки» как две капли воды, разве немного пухлее. А то даже окраска кожи напоминает палевый мягкий мрамор моей находки.
2 июня
Вот уже несколько дней я живу под гнетом странного беспокойства, которое охватывает человека, когда кто-нибудь сосредоточенно и страстно о нем думает. В это я верю, потому что много раз испытывал на себе. Магнетические токи между людьми – сила, ждущая своего Вольта, Гальвани, Гельмгольца, чтобы выяснить законы ее так же логически просто, как теперь выяснены законы электричества. Телепсихоз ничуть не более невероятен, чем телеграф и телефон: а вот, говорят, теперь уже и телефоноскоп изобретен каким-то не то чехом, не то галичанином. Способность к нравственному общению человека с человеком на расстоянии свойственна, в большей или меньшей степени, всем нам: сейчас она стихийная и, как все стихийное, проявляется лишь пассивно и случайно. Надо, чтобы из смутной, инстинктивной она сделалась определенною, произвольною… и для такого превращения и требуются Гельмгольцы и Гальвани. Любопытно, однако, кто же это мучится и где участием ко мне и мучит меня вместе с собою?
Я послал телеграмму брату: нет, ничего… он здоров… и, занятый своими аферами, не сокрушался обо мне больше, чем обыкновенно. Странно!..
Я много раз замечал, что когда долго и напрасно ломаешь голову над трудным вопросом, пытаясь разрешить его в уме, и это не удается, – стоит написать этот вопрос на бумаге, чтобы он стал более легким, и память подсказала быстрый ответ…
Сейчас – пока я писал эти строки – в уме моем громко зазвучало искомое мною имя.
– Лала! Лала – и никто кроме нее.
Я тем более уверен в этом, что у меня и мысли о ней не было еще за минуту перед тем, как меня точно осенило ее именем.
Эта Лала… Недавно она привиделась мне во сне… грозила, предостерегала… Положим, что «когда же складны сны бывают?», однако магнетическое влияние передается сонному человеку сильнее, чем бодрствующему, и если я теперь чувствую наяву на себе влияние моей далекой приятельницы, то и сон мой, быть может, был неспроста… Лала думает обо мне. Зачем? Почему ее «гений» так долго не сообщался с моим «гением» – и вдруг вспомнил, стучится, заговорил? Уж не умирает ли она? Не умерла ли? Все подобные телепатические зовы, явления, пробуждения памяти обыкновенно, сколько наблюдалось до сих пор, бывали неразлучными спутниками и результатами последних напряжений жизненной энергии, флюидов, обостренных и усиленных в предсмертной агонии или в великой, жизни угрожающей, опасности.
Якуб клянется, что в мое отсутствие в кабинете происходят странные вещи: что-то двигается, шуршит бумагами; вчера он слышал из-за двери три слабых аккорда, взятых на старинной гитаре, что висит на стене – как украшение – ради своей редкостной инкрустации. Мыши, конечно – если только Якубу не приснилось. Сам старик уверен, что это шалости кого-либо из челяди, и грозит:
– Нехай поймаю бисовых хлопцев! Як начну терты та мяты, будут воны мене поминаты!
5 июня
Пью cale bromatum, обтираюсь холодною водою, а толку мало… Паклевецкий прав: мои иллюзорные ощущения начинают переходит в галлюцинации. Сегодня утром я работал фейерверк для дня рождения Ольгуси – пан ксендз Лапоциньский собирается справлять праздник на весь повет – и вдруг, в уголке серебряного подноса, что лежал у меня на столе, заваленный всякою пиротехническою дрянью, я увидал, что сзади меня стоит, тихонько подкравшись, сама Ольгуся и смотрит через плечо на мою алхимию… Я, очень изумленный ее появлением в такую раннюю пору, оборачиваюсь с вопросом:
– Откуда ты? Какими судьбами?
Но вместо Ольгуси вижу лишь мутное розовое пятно, которое медленно расплывается кружками, как бывает, когда долго смотришь на солнце и потом отведешь глаза на темный предмет…
Ольгуся тоже недомогает сегодня. Всю ночь – жалуется – мучил ее тяжелый кошмар: мраморные ручки, лежащие на моем письменном столе, схватили будто бы ее за горло и душили, пока она, готовая задохнуться, не вскрикнула и не проснулась – на полу, свалившись с кровати. Сновидение было так живо, что, даже открыв уже глаза, она видела еще перед собою мелькание мра морных пальцев и слышала тихий голос:
– Отдай, отдай! Не смей брать мое!
Да, Паклевецкий прав: изумил меня дедушка Дмитрий Иванович. Всю жизнь пред людьми ходил, как в панцире ледяном. Даже мы, близкие, всем ему обязанные, им любимые, его любившие, считали его изрядным-таки сухарем. А между тем наедине с самим собою, запершись в своем рабочем кабинете, у письменного стола, он оказывается плаксивейшим вдовцом, сантименталистом чистейшем воды и суеверно ищет медиума для общения с мертвою женою, Твардовского, который показал бы ему его золотоволосую Лидию, как королю Сигизмунду – Барбару Радзивилл. Потому что – ясное же дело: здесь автобиографии не меньше, чем в записках тетки Ядвиги. Изучал Фейербаха, клялся Дарвином, а требует помощи от оккультической литературы. Теперь я знаю, почему сохранился и кому принадлежал полууставный листок семнадцатого века с советом, как гипнотизировать себя Большою Медведицею на встречу с любимым мертвецом: некромантический рецепт таинственного существа в повести дедушки Дмитрия Ивановича – почти дословный перевод! И «Natura Nutrix» была дедушке небезызвестна. Атомистическая философия повести – оттуда. Автор «Natura Nutrix» – яркий атомист. Особенно – в главе о стихийных духах. Я читал ее намедни с глубоким интересом современности. Эти стихийные духи для средних веков были совершенно точною заменою нынешних микроорганизмов: все физическое добро и зло – от них, князей воздушных. Вообще, видение дедушки – отчаянный плагиат. Его «какой конец? Конца в мире не бывает» – литературное воровство у старика Мефистофеля…
Vorbei! ein dummes Wort. Warum vorbei? Vorbei und reines Nichts – Volk ommnes Einerlei? (Мефистофель: Конец? Нелепое словцо! Чему конец? Что, собственно, случилось? (Гете «Фауст» ч. II, пер. Б. Пастернака).
27 мая
Я не хорошо засыпаю в последнее время – тяжело, смутно. Что-то душит за горло, подкатывает истерическим клубком к сердцу. В ушах сквозь сон чуть-чуть и уныло звенит, как далекий стон молодых лягушек, пока не убаюкает меня… Я уже сплю, уже сны вижу, а все-таки чувствую, будто кто-то реет надо мною, дышит на меня и все звенит на меня и все звенит: зачем? зачем? зачем?
Не могу сказать, чтобы это ощущение чужого дыхания на коже доставляло мне удовольствие; оно похоже на эпилептическую ауру… Но мне уже тридцать семь лет. Падучая болезнь в эти годы не проявляется – разве у алкоголиков. Так ни я, ни кто другой из нашей семьи никогда пьяницами не были… Посоветовался с Паклевецким. Он насказал мне страстей… Спрашивает:
– У вас не было зрительных галлюцинаций?
– Нет… обманы зрения, иллюзорные явления, конечно, случались…
– И галлюцинации будут.
– Вот так обрадовали! На каких же основаниях вы пророчите мне этакую прелесть?
– На самых простых: вы слегка меланхолик; нервное расстройство прошло у вас по периферии, чувствительность всюду повышена, следовательно, передачи мозговых отправлений совершаются неправильно. То, что называется – психическая дистэзия… Ну-с, при всех этих условиях да еще при вашем фантастическом настроении к переходу от иллюзорных явлений до галлюцинаций очень недолго…
– Откуда вы взяли, что у меня фантастическое настроение? Напротив!
– А вы все разную чушь читаете да разные дива видите.
– Никаких див я не видал… Бог с вами! А что до дедовских книг, то, полагаю, научный интерес к ним не имеет ничего общего с суеверием. Эта дрожь в воздухе, этот стонущий звук, это дыхание за моими плечами тревожат меня исключительно как физическое явление – доказательство моего недомогания. Я знаю очень хорошо, что все это происходит во мне самом, а вовсе не вне меня. Я, пан Коронат, бывал в таких фантастических переделках, что если уж тогда не сделался фантастом, то теперь и подавно не сделаюсь. Нет, голубчик, лекарствица для тела вы мне пропишите, пожалуй, а души не касайтесь: по этой части я сам себе доктор.
Глаза Паклевецкого блеснули.
– Тем лучше, тем лучше! – сказал он, потирая ладони, и принялся убеждать, чтобы я не оставался один, «сам с собою», как можно больше развлекался и бывал в обществе…
– Покорнейше благодарю за совет! Но где я в нашей глуши найду общество?
Он ухмыльнулся, подмигивая.
– А хоть бы у Лапоциньских… Кстати, как здоровье вашей панны Ольгуси?
– Знаете, доктор, – строго заметил я, – деревенская свобода допускает много лишнего в речах, однако и ей бывают границы.
Он залился своим обычным неискренним хохотом, хохотом без смеха при холодных и серьезных глазах:
– Ну, не буду, не буду! – слово гонору, в последний раз! Однако…
Он пристально посмотрел на меня.
– При первом нашем разговоре о панне Ольгусе вы не рассердились, а теперь вот как вспыхнули… Эге-ге-ге!
И он ударил себя ладонью по лбу: «ах, мол я, телятина!» Не уйми я его, он распространялся бы до бесконечности. Скалить зубы, кажется, он еще больший мастер, чем лечить. А относительно обмана зрения он прав: глаза мои работают неправильно. Сегодня, например, когда он подошел к моему письменному столу и оперся на него своими толстыми, кривыми пальцами, я ясно видел, что мраморные ручки затрепетали, как живые, быстрою и мелкою дрожью, точно от испуга…
– Видите, как они ко мне привязаны… Уже одно приближение человека, который хотел их у меня отнять, заставляет их дрожать.
Когда доктор отшучивался, я понял, что напрасно сказал ему эти слова: тон его был неприятен… он, кажется, складывает всякую шутку в сердце своем, как колкость и злейшую обиду, и немало уже накопил злости против меня.
1 июня
Давно ничего не записывал… Ольгуся меня совсем завертела. То – кататься верхом, то пикники, то гулянья, то Лапоциньские у меня, то я у них. Вчера прилетела ко мне верхом – одна, уже под вечер… Чтобы проводить Ольгусю до дома, я велел оседлать Карабеля. Возвращаюсь с крыльца в столовую – Ольгуся сидит бледная, в глазах испуг, а сама хохочет.
– Что с тобою?
– Представь… вот глупость-то!.. перепугалась сейчас до полусмерти… вот даже не могу успокоиться, как бьется сердце…
– Да чего же, чего?
– Хотела поправить шляпу, прошла в гостиную… Там уже сумеречно… И вдруг вижу, будто мне навстречу идет женщина… Приглядываюсь: эта женщина – я сама… я как взвизгну – да бежать в столовую… и только здесь при свете, сообразила, что у тебя там трюмо во всю стену, и, стало быть, я струсила собственного своего отражения!
Ольгусе тоже очень нравятся «ручки», я подарю их ей в день рождения. Только надо обломанные места обделать в металл… Любопытно, что руки Ольгуси похожи на «ручки» как две капли воды, разве немного пухлее. А то даже окраска кожи напоминает палевый мягкий мрамор моей находки.
2 июня
Вот уже несколько дней я живу под гнетом странного беспокойства, которое охватывает человека, когда кто-нибудь сосредоточенно и страстно о нем думает. В это я верю, потому что много раз испытывал на себе. Магнетические токи между людьми – сила, ждущая своего Вольта, Гальвани, Гельмгольца, чтобы выяснить законы ее так же логически просто, как теперь выяснены законы электричества. Телепсихоз ничуть не более невероятен, чем телеграф и телефон: а вот, говорят, теперь уже и телефоноскоп изобретен каким-то не то чехом, не то галичанином. Способность к нравственному общению человека с человеком на расстоянии свойственна, в большей или меньшей степени, всем нам: сейчас она стихийная и, как все стихийное, проявляется лишь пассивно и случайно. Надо, чтобы из смутной, инстинктивной она сделалась определенною, произвольною… и для такого превращения и требуются Гельмгольцы и Гальвани. Любопытно, однако, кто же это мучится и где участием ко мне и мучит меня вместе с собою?
Я послал телеграмму брату: нет, ничего… он здоров… и, занятый своими аферами, не сокрушался обо мне больше, чем обыкновенно. Странно!..
Я много раз замечал, что когда долго и напрасно ломаешь голову над трудным вопросом, пытаясь разрешить его в уме, и это не удается, – стоит написать этот вопрос на бумаге, чтобы он стал более легким, и память подсказала быстрый ответ…
Сейчас – пока я писал эти строки – в уме моем громко зазвучало искомое мною имя.
– Лала! Лала – и никто кроме нее.
Я тем более уверен в этом, что у меня и мысли о ней не было еще за минуту перед тем, как меня точно осенило ее именем.
Эта Лала… Недавно она привиделась мне во сне… грозила, предостерегала… Положим, что «когда же складны сны бывают?», однако магнетическое влияние передается сонному человеку сильнее, чем бодрствующему, и если я теперь чувствую наяву на себе влияние моей далекой приятельницы, то и сон мой, быть может, был неспроста… Лала думает обо мне. Зачем? Почему ее «гений» так долго не сообщался с моим «гением» – и вдруг вспомнил, стучится, заговорил? Уж не умирает ли она? Не умерла ли? Все подобные телепатические зовы, явления, пробуждения памяти обыкновенно, сколько наблюдалось до сих пор, бывали неразлучными спутниками и результатами последних напряжений жизненной энергии, флюидов, обостренных и усиленных в предсмертной агонии или в великой, жизни угрожающей, опасности.
Якуб клянется, что в мое отсутствие в кабинете происходят странные вещи: что-то двигается, шуршит бумагами; вчера он слышал из-за двери три слабых аккорда, взятых на старинной гитаре, что висит на стене – как украшение – ради своей редкостной инкрустации. Мыши, конечно – если только Якубу не приснилось. Сам старик уверен, что это шалости кого-либо из челяди, и грозит:
– Нехай поймаю бисовых хлопцев! Як начну терты та мяты, будут воны мене поминаты!
5 июня
Пью cale bromatum, обтираюсь холодною водою, а толку мало… Паклевецкий прав: мои иллюзорные ощущения начинают переходит в галлюцинации. Сегодня утром я работал фейерверк для дня рождения Ольгуси – пан ксендз Лапоциньский собирается справлять праздник на весь повет – и вдруг, в уголке серебряного подноса, что лежал у меня на столе, заваленный всякою пиротехническою дрянью, я увидал, что сзади меня стоит, тихонько подкравшись, сама Ольгуся и смотрит через плечо на мою алхимию… Я, очень изумленный ее появлением в такую раннюю пору, оборачиваюсь с вопросом:
– Откуда ты? Какими судьбами?
Но вместо Ольгуси вижу лишь мутное розовое пятно, которое медленно расплывается кружками, как бывает, когда долго смотришь на солнце и потом отведешь глаза на темный предмет…
Ольгуся тоже недомогает сегодня. Всю ночь – жалуется – мучил ее тяжелый кошмар: мраморные ручки, лежащие на моем письменном столе, схватили будто бы ее за горло и душили, пока она, готовая задохнуться, не вскрикнула и не проснулась – на полу, свалившись с кровати. Сновидение было так живо, что, даже открыв уже глаза, она видела еще перед собою мелькание мра морных пальцев и слышала тихий голос:
– Отдай, отдай! Не смей брать мое!