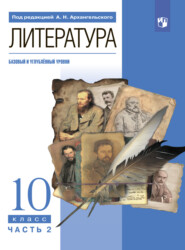По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Путеводитель по классике. Продленка для взрослых
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
(Строфа XLVI)
А до тех пор он будет напоминать читателю, что живет вдали от шумных столиц: сначала где-то в «Овидиевых краях» (параллель с «южной» лирикой Пушкина); затем – в имении, в глубине «собственно» России. Здесь он бродит над озером, видит «творческие сны» и читает стихи не предмету страсти нежной, а старой няне да уткам. Позже, из Путешествия Онегина, читатель узнает, что в 1823 году Автор жил в Одессе, где и повстречался со старым знакомцем:
Спустя три года, вслед за мною,
Скитаясь в той же стороне,
Онегин вспомнил обо мне. <…>
(Очевидно, именно тогда Автор узнал от Онегина о Татьяне и о дуэли с Ленским.)
Изгнание есть изгнание; приходится проститься с привычками юности и остается лишь вздыхать, мечтая об Италии, думая о небе «Африки моей», призывая «час <…> свободы» (гл. 1, строфа Ц. От внешней неволи Автор с самого начала убегает в «даль свободного романа» (гл. 8, строфа 1_), который он то ли сочиняет, то ли «записывает» по горячим следам реальных событий, то ли записывает и сочиняет одновременно. В эту романную даль Автор зовет за собой и читателя.
Постоянно вторгаясь в повествование (при том, что время и пространство, в котором живет Автор, не совпадают с тем временем и пространством, в каком действуют остальные герои), забалтывая читателя, ироничный Автор создает иллюзию естественного, предельно свободного течения романной жизни. Рассуждения о поэтической славе («Без неприметного следа / Мне было б грустно свет оставить»: гл. 2, строфа XXXIX); о неприступных красавицах, на чьем челе читается надпись Ада «Оставь надежду навсегда» (гл. 3, строфа XXII); о русской речи и дамском языке (строфы XXVIII–XXX); о любви к самому себе (гл. 4, строфы Vil, XXI, XXII); о смешных альбомах уездных барышень, которые куда милее великолепных альбомов светских дам (строфы XXVIII–XXIX); о предпочтении «зрелого» вина Бордо – легкомысленному шипучему Аи; обращение к «Зизи, кристаллу души»; прямая полемика с В. К. Кюхельбекером о торжественной оде и унылой элегии (осложненная пародией на унылую элегию в виде «образчика» творчества Ленского); косвенная полемика с Вяземским и Баратынским о зимнем пейзаже в русской поэзии (гл. 5, строфы I–III) – все это не только вводит в мир романа все новые и новые пласты «реальности» и «культуры», не только окружает его плотной дымкой литературных, политических, философских ассоциаций. Куда важнее, что есть посредник между условным пространством, в котором живут герои, и реальным пространством, в котором живет читатель. Этот посредник – Автор.
Нельзя сказать, что он не меняется от главы к главе, даже от строфы к строфе. Начав действовать в одном смысловом «поле» с Онегиным, Автор постепенно перемещается в смысловое «поле» Татьяны Лариной; его идеалы становятся более патриархальными, национальными, «домашними». Но эти перемены происходят подспудно, они скрыты под полупокровом насмешливой интонации, в которой ведется разговор с читателем. Только в финале 5-й главы намечается определенный перелом. Автор – пока в шутку – сообщает читателю, что впредь намерен «очищать» роман от лирических отступлений. В конце 6-й главы (строфы XLIII, XLIV) эта тема развита вполне серьезно; Автор перестает без конца вспоминать о своих прошлых чувствованиях и впервые заглядывает в собственное будущее: «Лета к суровой прозе клонят»; «Ужель мне скоро тридцать лет?» (строфы XLIII–XLIV). Приближается зрелость, наступает возраст, близкий к тому, который Данте считал «серединой жизни» и с упоминания о котором начинается «Божественная комедия». (Дантовский пласт литературных ассоциаций пушкинского романа вообще неисчерпаем.)
Близится перелом в душевной жизни Автора, и вместе с ним меняются внешние обстоятельства; Автор снова «в шуме света»; изгнание окончилось. Об этом сообщено так же, как сообщалось об изгнанничестве, в форме намека: <«…> С ясною душою / Пускаюсь ныне в новый путь»; «Не дай остыть душе поэта / <…> / В мертвящем упоенье света, / В сем омуте, где с вами я / Купаюсь, милые друзья!» (строфы XLV–XLVI).
Последняя, 8-я глава дает совершенно новый образ Автора, как дает она и новый образ Евгения Онегина. Автор и герой, разочаровавшиеся в «наслажденьях жизни» в начале романа, одновременно начинают новый виток судьбы – в его конце. Автор многое пережил, многое познал; как бы поверх «светского» периода своей биографии, о котором так подробно говорилось в лирических отступлениях, он обращается к истоку – лицейским дням, когда ему открылось таинство Поэзии. «В те дни, когда в садах Лицея / Я безмятежно расцветал <…»> (строфа I).
Воспоминание об этих днях окрашено легким юмором – но пронизано и мистическим трепетом. Рассказ о первом явлении Музы ведется на религиозном языке («Моя студенческая келья / Вдруг озарилась <…»>). Знаменитый эпизод пушкинской биографии – приезд Г. Р. Державина на лицейский экзамен – наделяется сакральным смыслом; это не просто рассказ об одобрении старшим поэтом – младшего, даже не просто метафора «передачи лиры»: «Старик Державин нас заметил/ И, в гроб сходя, благословил» (строфа II). Вся последующая жизнь Автора, все ее события, о которых читатель уже знает из предшествующих глав, предстает в новом ракурсе – религиозно-поэтическом. История собственной жизни Автора отступает в тень; история его Музы выходит на первый план.
Все прежние подробности о «кокетках записных», театральных ложах, закулисных встречах и ножках заменены одной метафорой: «шум пиров» (строфа III). Намеки на связь с политической оппозицией редуцированы до «буйных споров, / Грозы полуночных дозоров», опала и ссылка превращены в «побег» от их союза, чуть ли не добровольный. Главное заключалось не в этом, внешнем; главное заключалось в том, какой облик в разные периоды жизни принимала Муза. В период «пиров» она была Вакханочкой; на Кавказе – балладной Ленорой; в Молдавии одичала и стала чуть ли не цыганкой; наконец, в деревне она уподобилась барышне «уездной /С французской книжкою в руках» (гл. 8, строфа V). То есть обрела черты Татьяны Лариной. Вернувшись из «побега», Автор впервые выводит свою Музу на светский раут – именно туда, именно тогда, где и когда должна произойти новая встреча Онегина с Татьяной. Глазами Музы читатель смотрит на Евгения, вернувшегося в пространство сюжета после долгой отлучки; и этот взгляд почти неотличим от того, какой некогда бросала на Онегина юная Ларина.
Завершая роман, Автор считает своим долгом доверительно попрощаться с читателем, с которым у него установились задушевные и даже дружеские отношения: «Кто б ни был ты, о мой читатель <…>» (гл. 8, строфа ХЫХ). (Читатель как бы занимает место, первоначально уготованное Онегину.) Карты открыты; сюжет, изложенный в романе, прямо объявлен вымыслом; намек на его связь с обстоятельствами жизни самого поэта и близких ему людей прозрачен.
И все-таки это обманчивая откровенность; это прозрачность «магического кристалла», сквозь который можно различить нечто невидимое, но бесполезно разглядывать что бы то ни было реальное. В последней строфе сама жизнь уподоблена роману (и одновременно бокалу вина, а значит – пиру); казалось бы, все смысловые акценты расставлены. Но за этим следует текст «пропущенной главы» – «Отрывки из Путешествия Онегина», где снова всерьез говорится о реальной встрече Автора и героя в Одессе в 1823 г. Все запутывается окончательно; где литература, где действительность, понять невозможно – именно этого Автор и добивается.
Владимир Ленский – любовный соперник Онегина, 18-летний (без малого) мечтатель и поэт. В романе о любви (краткое изложение сюжетной схемы см. в ст. «Евгений Онегин») не обойтись без мотива ревности, хотя бы напрасной. Но появление Ленского на страницах романа (он приезжает в деревню почти одновременно со своим новым соседом Онегиным; СХОДИТСЯ С НИМ; вводит в дом Лариных; знакомит с Татьяной и ее сестрой Ольгой – своей невестой; после того как раздраженный Онегин, чтобы досадить другу, начинает притворно ухаживать за Ольгой, причем за две недели до ее свадьбы с Ленским, тот вызывает Евгения на дуэль; Онегин убивает Ленского) объясняется не этим. Главное предназначение Ленского в другом. Он оттеняет чрезмерную трезвость Онегина непомерной возвышенностью, «неотмирностью». И в этом если не равновелик, то хотя бы сомасштабен главному герою. (Эта сомасштабность подчеркнута даже одинаковым «гидронимическим» построением литературных фамилий Онегина и Ленского.) В противном случае естественная поэтичность, органичная здравость Татьяны Лариной утратили бы статус «золотой середины» и все смысловые пропорции романа распались бы.
Биография. Внешность. Характер. Онегин прибывает в дядину деревню из Петербурга, где его настигло разочарование в жизни; Ленский приезжает в свое Красногорье (ср. Тригорское) «из Германии туманной», где он стал поклонником Канта и поэтом. Ему «Без малого <…> осьмнадцать лет» (строфа X); он богат, хорош собою; речь его восторженна, дух пылок и довольно странен. Все это не просто набор деталей, биографических подробностей. Поведение Ленского, его речь, его облик (кудри черные до плеч) указывают на свободомыслие. Но не на свободомыслие английского аристократического образца, которому (как поначалу кажется) следует денди Онегин, а вольномыслие интеллектуального, «геттингенского» типа, как сама душа Ленского. (Геттингенский университет был одним из главных рассадников европейского вольномыслия, философского и экономического; тут еще одна скрытая параллель с Онегиным, увлеченным новейшей политической экономией английской школы А. Смита. В Геттингене учились многие русские либералы 1810-1820-х годов, в том числе повлиявший на юного Пушкина экономист Н. И. Тургенев, лицейские профессора А. И. Галич, А. П. Куницын.)
Новомодным романтизмом в «немецком» духе навеяна и поэзия Ленского; он поет «нечто и туманну даль», пишет «темно и вяло». При этом стилистика его прощальной элегии скорее ориентируется на общие места французской лирики 1810-х годов:
Куда, куда вы удалились
Весны моей златые дни?
Что дань грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой мгле таится он.
Нет нужды; прав судьбы закон.
Паду ли я, стрелой пронзенный,
Иль мимо пролетит она,
Все благо: бдения и сна
Приходит час определенный;
Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход!
Блеснет заутра луч денницы
И заиграет яркий день;
А я – быть может, я гробницы
Сойду в таинственную сень,
И память юного поэта
Поглотит медленная Лета,
Забудет мир меня; но ты
Придешь ли, дева красоты,
Слезу пролить над ранней урной
И думать: он меня любил,
Он мне единой посвятил
Рассвет печальный жизни бурной!..
Сердечный друг, желанный друг,
Приди, приди: я твой супруг!..
(Гл. 6, строфы XXI–XXII)
А сам молодой поэт, несмотря на модные привычки, внешность и заемные вкусы, «сердцем милый был невежда».Т. е., не отдавая себе в том отчета, Ленский в душе остается провинциальным русским помещиком. Милым, простым, не слишком утонченным и не чрезмерно глубоким. Если Онегин назван в романе пародией, если сказано об онегинских масках, скрывающих его истинный облик, то в полной мере это относится и к Ленскому. С той разницей, что его маска (во всем противоположная онегинской) скрывает отнюдь не душевную пустоту, а скорее сердечную простату. И чем сложнее маска, тем проще кажется отзывчивая душа, озаренная светом поэтического дарования (которое может развернуться, а может и погаснуть впоследствии, как уточняет Автор).
На постоянном несовпадении внутреннего и внешнего облика героя, его «внутренней и внешней формы» строится романный образ. Таким Ленский входит в сюжет, таким и выходит из него. Он ранен на дуэли в грудь навылет; жизнь его оборвалась. Но какой удел ждал героя, останься он жив? Автор обсуждает две взаимоисключающие возможности. Быть может, Ленский был рожден для «блага мира» [здесь намеренно скрещены значения имен Онегина (Евгений, благородный) и Ленского (Владимир)], для великих свершений или хотя бы поэтической славы. Но, может статься, ему выпал бы «обыкновенный» удел сельского барина, расхаживающего по дому в халате, умеренно рогатого, занятого хозяйством и живущего ради самой жизни, а не ради грандиозной цели, внеположной быту. Совместить одно с другим невозможно; но где-то в подтексте угадывается авторская мысль: стань Владимир «героем», он сохранил бы провинциальный помещичий «заквас», простой и здоровый; сделайся он уездным помещиком – все равно поэтическое горение не до конца угасло бы в нем. Только смерть способна отменить это благое противоречие его личности, лишить выбор между двумя «возможностями» какого бы то ни было смысла.
Автор и герой. Такое несовпадение не может не вызывать авторской иронии и авторской симпатии, как все наивное, чистое, неглубокое и вдохновенное. Поэтому интонация рассказа о Ленском все время двоится, раскачивается между полюсами – от насмешки к «отческому» любованию и обратно. Ирония проступает сквозь симпатию, симпатия просвечивает сквозь иронию. Даже когда жизнь Ленского заходит на последний круг, двойственная тональность повествования сохраняется; просто ирония становится сдержаннее и глуше, сочувствие – пронзительнее, а полюса – ближе.
В ночь перед дуэлью Ленский читает Шиллера, упоенно сочиняет свои последние стихи, хотя бы и полные «любовной чепухи», – и это трогает Автора («трогает» в том сентиментальном смысле, какой – по французскому образцу – придал этому слову Карамзин). Жизнь вот-вот уйдет от Ленского, а он продолжает играть в поэта и засыпает на «модном слове идеал». Автору горько-смешно говорить об этом. Хотя в финале романа, прощаясь со своей «романной» жизнью, он сам прибегнет к слову «идеал», но то будет принципиально иной идеал, противопоставленный «модному»: «А та, с которой образован / Татьяны милый идеал… / 0 много, много рок отъял».
Но вот Ленский (во многом из-за своего упрямства, поэтической гордости – ибо Онегин намекнул на готовность примириться) убит. Голос Автора приобретает сердечную торжественность:
Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навылет ранен;
Дымясь из раны кровь текла.
Тому назад одно мгновенье
В сем сердце билось вдохновенье,
Вражда, надежда и любовь,
Играла жизнь, кипела кровь, —
Теперь, как в доме опустелом,
Все в нем и тихо и темно;
Замолкло навсегда оно.
Закрыты ставни, окны мелом
Забелены. Хозяйки нет.
А где, бог весть. Пропал и след.
В последних строках этой строфы (XXXII) слышен отклик на финал прощальной элегии самого Ленского («Приди, приди: я твой супруг!»). Но если раньше Автор иронизировал над «семейственной» образностью, то теперь освобождает ее от налета пошлости.
В идиллические тона окрашено описание «памятника простого», сооруженного на могиле Владимира; сама могила забыта всеми; позже это печальное описание будет повторено в финале стихотворной повести «Медный Всадник», где говорится о безымянной могиле бедного Евгения. Но, воспроизводя надпись на памятнике, Автор вновь подпускает легкую иронию – и вновь окутывает ее дымкой неподдельной грусти; он смешивает смех и слезы, чтобы читатель проводил Владимира с тем же двойственным чувством, с каким впервые встретил его:
Владимир Ленский здесь лежит,
Погибший рано смертью смелых,
В такой-то год, таких-то лет.
Покойся, юноша-поэт!
(Гл. 7, строфа VI)
Кроме всего прочего, эта грустно-смешная надпись должна вызвать в памяти читателя полукомический эпизод из 2-й главы, когда Ленский над могилой Ларина-старшего повторяет гамлетовские слова: Poor Yorick!.