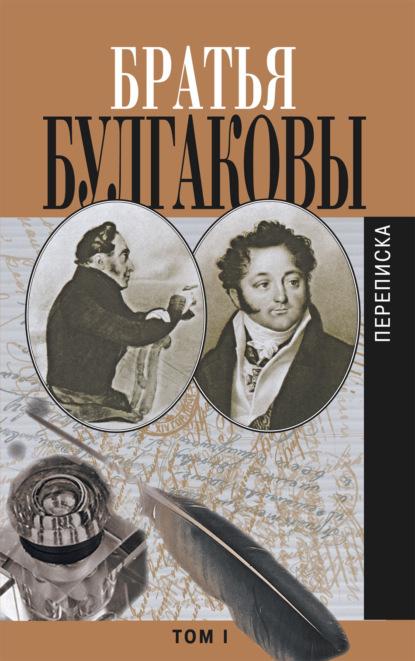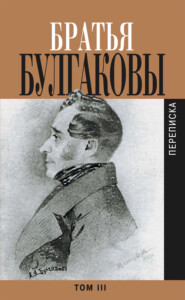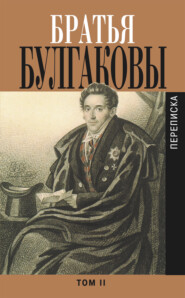По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Братья Булгаковы. Том 1. Письма 1802–1820 гг.
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Константин. Вена, 11 января 1809 года
Мы сами теперь, хотя и не по уши в веселии, как вы, но поздно очень ложимся: то редуты, то маленькие балики, то вечеринки, но никогда прежде двух часов домой не приходишь. Балов, кажется, немного будет. Эстергази, Лихтенштейн не собираются веселить публику. Надобно, стало быть, утешаться редутами, и я там развлекаюсь по-королевски.
Всегда находили во мне с тобою много сходства. Недавно еще Лизакевич хотел меня уверить, что я проезжал чрез Кальяри. Я всегда с этим соглашаюсь с признательностью. Я неоднократно тебя просил от меня Урусовым кланяться. Он человек весьма добрый, а она премилая женщина [сестра Дмитрия Павловича Татищева, с которым Александр Яковлевич Булгаков служил в Неаполе]. Надеюсь, она питает ко мне дружеские чувства; что до меня, то я к ней искренне привязан.
Дмитрий Павлович опять вдруг собрался отсюда вон. Хотел через неделю непременно ехать, застать Карповых в Венеции и Милане. Говорил о паспортах. Я предоставил ему говорить и делать, догадываясь о причине. Кажется, тучи рассеялись, и хотя он продолжает говорить об отъезде, но уже мало. У меня состоялся долгий разговор с ним насчет тебя. Вот результаты. «Я думаю, – сказал мне он, – что ваш брат напрасно покинул бы Россию, пока ничего не решено касательно меня самого. Напротив, надобно ему оставаться, чтобы быть там в минуту, когда меня назначат на какое-нибудь место. Тогда он сможет тотчас просить о помещении своем при мне. Сие не замедлит случиться, и я опасаюсь, что, ежели его не окажется в это время в России, как бы не назначили кого другого. Вы знаете, как я люблю Александра и вас. Вы можете легко себе представить, как я был бы этим расстроен!» Потом много мне говорил о дружбе его к тебе и кончил, как обыкновенно, рассказывая несколько анекдотов о вашем житье в Палермо. Я все надеюсь, что он отсюда не уедет; мне кажется, хотя нахожу примечание его весьма справедливым, что ежели бы ты имел обещание, но положительное, что тебя с ним пошлют, где бы он ни был, то мог бы сюда съездить. Он сам уверен, что ты в Москве влюблен, но знаешь ли что? Я сам начинаю ему верить. И я его одобряю, лишь бы это не зашло слишком далеко.
Послушай, но это опять только для тебя одного: Стакельберг сюда назначен; это верно, ибо сам о сем пишет. Ежели чуть мое парижское дело замешкается, то я весною или летом хочу приехать к вам месяца на два. Ежели ты еще в Петербурге будешь, то вместе поедем в Москву и утешим наших любезных, собравшись все вместе к ним. Этот проект трудно осуществить, но желание мое столь сильно, что я сумею сгладить все трудности. С Божьею помощью все устрою; но прошу тебя о сем не говорить никому – не для того, чтобы желал я им сделать сюрприз, но чтобы не подать пустой надежды. Из Парижа пишут, напротив, что граф Румянцев не сбирается еще в Петербург. Я получил от князя предружеское письмо, на которое также сегодня отвечать должен.
Генерал-майор [Глазенап], у которого Гагарин отбил невесту, дает бал, который (говорят) должен ему стоить 3000 рублей, что невероятно. Граф Разумовский также хочет дать бал в своем новом доме. Этот будет великолепен. Пикники редутские очень красивы. Поскольку балов нет, все туда ходят и там танцуют. Стакельберг писал Анстету, чтобы ему дом найти, но не назначил еще времени своего приезда. Посмотрим, что это такое. Мне его жаль, что он преемник Князев. Вечером я познакомился с графиней Самойловой. Ну, брат, как она переменилась! Но я не удивляюсь, когда думаю о празднике в греческом кадетском корпусе, где она была во всей своей красе, а мы были только мальчиками. Она, кажется, прекрасная женщина; но кто меня совершенно покорил, это барон Строганов [Григорий Александрович, впоследствии граф]. Невозможно иметь лучшего обхождения и быть любезнее.
Александр. Москва, 14 января 1809 года
Такая стужа! Все термометры лопаются. Третьего дня, вообрази, было 35 градусов замерзания. Со вчерашнего дня только 22 градуса, и все радуются. Сегодня пошел снег, – это сделает перелом стуже. Нет почти лакея в доме, у которого что-нибудь не было бы отморожено, а у твоего Яшки заморожена верхняя губа.
Говорят, что после славного праздника, данного их прусским величествам в Таврическом, дворец сей на другой день сгорел почти весь.
Константин. Вена, 21 января 1809 года
Ты жалуешься на балы, и у нас, брат, не лучше: всякий день танцуем до упаду. Балы начинаются поздно, продолжаются до 6–8 часов, а иногда еще 2–3 бала в день, так что мочи нет, а отказать нельзя; к тому же редуты, пикники, а мне, по моим обстоятельствам, везде быть должно. Как успеваю – не могу сам понять, а еще удивительнее – как сношу все это. О несчастьях Вены повторять тебе не буду, писал о сем подробно батюшке, с тобой же поговорю о веселиях. Граф Разумовский дает славный бал на этих днях. Другой – у княгини Любомирской, у графини Пальфи, у Балша и проч., и проч. Во дворце всякую неделю преславный бал. Всякий раз сбираюсь не танцевать, но никак нельзя. Я ангажирован на все тампеты с графиней Траутмансдорф, а во дворце всегда их танцуют.
Мы завеселились и напугались: Дунай так расшутился, что стал мосты срывать и топить город. Сейчас получили мы от Штакельберга письмо. Он пишет, что еще официального назначения не получил, но уже заказывает здесь ливреи. Василий Долгоруков проехал здесь по дороге в Жасси. Он похудел и стал очень хорош. Он славно развлекался в Париже. Я получил письма от Григория, который все тот же добрый мальчик, каким и был. Князь мне тоже пишет очень дружеские письма и полные доброты. Он превосходный человек и лучший начальник в свете. Княгиня, слава Богу, здорова. Была на последнем придворном балу всех лучше, и всегда, где бывает, первая. Она очень похудела, и к ней это пристало. Теперь походит она на пятнадцатилетнюю девушку.
Вообрази, что на днях был я на балу у графа Коловрата, который кончился завтраком в 9? часов утра. Готов парировать, что такого в Москве не случается.
Княгиня с Манзо еще не кончила. Все еще есть крючки. Сегодня должен ко мне быть Серво, чтобы окончить разбирательство реестра, присланного от Карпова, и который не согласен с запискою Манзо.
Александр. С.-Петербург, 1 февраля 1809 года
Я выехал из Москвы 24-го с флигель-адъютантом Бальменом и с Логиновым[53 - То есть с Николаем Михайловичем Лонгиновым, сыном харьковского сельского священника, поступившим на гражданскую службу из причта Лондонской посольской церкви и благодаря высоким качествам ума и сердца поднявшимся высоко в службе и в обществе.], служившим при Лондонской миссии: милые ребята, сделавшие мне дорогу чрезвычайно приятною. Она совершилась благополучно: я только нос отморозил, но теперь все прошло. Крайне для меня было приятно застать здесь милого Боголюбова. Я у него стал сначала; но так как он живет с сестрами, чтобы их не беспокоить, переехал я возле него в Северный отель. Мы всякий день и беспрестанно вместе.
Прибыл я сюда 28-го, а на другой день был уж допущен к Салтыкову, благодарил его за то, что мне дал преимущество пред прочими просителями, хотя я был за глазами, и представил причины, не позволяющие мне продолжать службу в чужих краях и удерживающие меня возле батюшки, коему под старость нужна подпора. Граф очень одобрил меня; я ему в двух словах рассказал мою службу, подал ему записочку об ней; он читал ее со вниманием и положил в карман, сказав: «Мне не нужно было и читать эту записку для того, чтобы отдать должную справедливость как вашим способностям, так и вашему усердию; я знаю, как вы и ваш брат относитесь к службе. Но разве вы хотите совсем бросить службу?» – «Нет, граф, я никогда не брошу того поприща, к которому чувствую влечение; но отец мой желает, чтобы я перешел в Московский архив с жалованьем, какое получаю в Коллегии». – «А как оно велико?» – «Тысяча рублей». – «Что ж? Это очень легко устроить; желание ваше и справедливо, и умеренно». – «Все лица, оставшиеся на службе, – прибавил я, – всегда находили доступ к вашему сиятельству, вашему правосудию и покровительству, и я смею надеяться, что и мне не будет отказано в поддержке; а так как я имею счастие быть принятым вашим сиятельством, то покорнейше прошу прочитать отзыв обо мне г-на Татищева. Мне очень неловко восхвалять самого себя, но я могу сослаться на свидетельство как всех моих начальников, так и лиц, коих имею честь знать».
Граф не обещал мне хлопотать о кресте и сказал, что он не может представить государю отзыв Дмитрия Павловича, написанный более года тому назад. Я сказал ему, что могу написать г-ну Татищеву, который охотно согласится вновь написать столь справедливый отзыв. Граф заметил мне на это, что, когда придет депеша, Румянцев уже возвратится. «И если бы граф, – прибавил он, – расположен был сделать для вас то, что я сделал для вашего брата, он не имел бы более подходящего для того случая, как ваш приезд из Палермо».
Хотя этот разговор и не обещает мне ничего, кроме места в Москве с сохранением моего жалованья, но я тем не менее очень доволен тем, что Салтыков говорил со мной так ласково и откровенно. Боголюбов уверяет меня, что он никогда ничего не обещает, так как его обещание бывает несомненно; но он часто без обещания делает одолжения. Да благословит их всех Господь! Что до меня касается, то мне так надоела служба, что я совсем бы ее бросил и без воли батюшки, потому что все честные люди, служащие добросовестно и с усердием, всячески притесняются, а проныры возвышаются во вред людей способных. Бородавицын, не имеющий понятия даже о географии, едва знающий русскую грамоту, один послан в Персию для дипломатических сношений; он сделан коллежским советником, а другие 54 статских советника, которые старше его, остались назади. Кресты, чины и пенсии так дождем и сыпятся, но всегда находится какой-нибудь дождевой зонт, который меня предохраняет. Будь я честолюбив, меня давно задушила бы желчь.
Эти пять дней, что я нахожусь здесь, всеобщее внимание, похвалы, расточаемые мне, и уважение ото всех вознаграждают меня вполне. Ни кресты, ни почести не дают этого. Я в восхищении от того, что иду, хотя в миниатюре, в паре с Дмитрием Павловичем. Кто легкомысленнее его? А между тем его более, чем кого другого, признают за человека достойного. Единственно, о чем я жалею, удаляясь с поприща (которое, признаюсь тебе, страстно люблю), – это то, что не придется мне, быть может, разделять трудов Дмитрия Павловича, которого люблю сердечно. Коль скоро доложено будет о перемещении меня в Архив (ибо и для эдакой безделицы надобен доклад), и что будет сообщено Коллегией в Москву, тотчас уеду из пропасти этой. Мне грустно по Москве; а здесь тоска, как ни ласкают меня всюду. Искать, право, не умею, язык не ворочается, а здесь надобно бронзовый лоб представлять, а не заслуги. Александру Пинию дали Аннинский крест за претерпенные в морской переезд неприятности. Я тебе из любопытства пришлю с первым случаем мою послужную записочку.
Не могу нахвалиться Боголюбовым: этот малый сущий демон, везде поспеет и всем умеет услужить. Он остается здесь до возвращения знаменитого Румянцева, который пишет, что Струве сделан секретарем посольства в Касселе. Это какой-то роковой человек для всех нас, даже помимо его старания и желания. Того и жду, что он воспротивится и отымет у меня место, данное мне Салтыковым. Все дураки дивятся, что я отказал кассельское место, а до приезда моего сюда благомыслящие готовы были биться об заклад, что я места не приму, и теперь хвалят меня. Никогда бы и ни в каком случае не принял я этого места. Репман жалеет, что я не еду с ним; теперь Струве будет, я думаю, назначен; князь его в глаза не знает.
Здесь часто бываю я вот где: у Ивана Алексеевича, у Орловых, которые тебе кланяются очень; у них живет граф Чернышев, приехавший на малое время за делом и с коим я ворочусь, вероятно, в Москву; у княгини К.Ф.Долгоруковой, у Александра Львовича Нарышкина; вечера часто провожу у графа Воронцова молодого; у него живут Бальмен и Логинов; мы занимаемся музыкой, поем и проч. Кстати, Александр Бальмен послан к вам; кланяйся ему от меня, а от здешнего княгине Багратион. Я в восхищении от Дюпора, он чудесен; Жорж я еще не видал. Вот острота Александра Львовича: мы приезжаем к нему с Боголюбовым, которому он делает упрек за то, что тот не был у него накануне, когда был концерт, в котором участвовал знаменитый виолончелист. Боголюбов извиняется и говорит: «Я не осмелился прийти, узнав, что это был ангажированный вечер». – «Как ангажированный! – отвечал Александр Львович. – Я ангажирую только свои бриллианты и свои имения».
Последнее мое странствование по Корсике, Сардинии и проч. довольно интересно; но мой дневник ты окончил как раз на том, где путешествие мое только начинается. Ты говоришь, что до Испании еще не дошел и что теперь читаешь все еще про Евангелистку; это меня насмешило[54 - После неаполитанки (Евангелистки) ему вскружила голову одна испанка. Александр Яковлевич неоднократно упоминает о своем дневнике. Где он, нам неизвестно. От одной из внучек А.Я.Булгакова слышали мы, что этого дневника было несколько томов.То есть место посла в Париже, которое занимал князь А.Б.Куракин.].
Егорка, паж батюшкин, теперь в заточении, прогнан к дворникам батюшкою за поступок, заслуживающий поистине медаль. Вообрази себе, что он умел вытащить из кармана у Оливиери-рагузейца кошелек, взять из него два целковых и опять в карман положить кошелек. Когда же это сделал? В глазах десяти человек, покуда мы играли в вист. Каков хватик! Вот блестящие способности! Его драли в продолжение двух недель чуть не ежедневно. Оливиери настаивает, что его следует повесить, так как он обещает многое.
Вчера ужинал я у графини Головкиной; тут был Салтыков наш. Жена его со мною тотчас познакомилась, выучила меня вальсу, ею сочиненному, а я ее своему вальсу выучил; заставляли меня, несчастного, петь «Когда ты меня любил», «Per una volta solta» и проч., что так любит Дмитрий Павлович; эта ария произвела восторг. Салтыкова пригласила меня бывать у нее и для начала позвала меня завтра обедать к себе. Головкина говорила графу о моем деле и сказала ему, что я ужасно боюсь возвращения графа Румянцева. Салтыков на это улыбнулся и поручил Боголюбову сказать завтра Вестману, чтобы он приготовил к четвергу доклад, так как это день, когда он работает с государем. Быть может, одна итальянская ариетка сделает то, чего не могли сделать целые пергаменты о моей службе. Позже приехала также Марья Антоновна Нарышкина; я был ей представлен. Почему она тебя знает? Так как она, узнав, кто я такой, сказала, обращаясь к графине Головкиной: «Я бы узнала сама, потому что он очень похож на своего брата». Играли в лото, смеялись, еще заставляли меня петь и играть на клавикордах. Нарышкина звала меня к себе, и я уж был с визитом у нее. Это, ей-ей, находка, которой я пренебрегать не стану, а напротив того, приложу все старание, потому что счастие такое привалило: можно стать камер-юнкером! Но Бога ради, чтоб это осталось между нами; даже здесь я никому этого не поверяю, потому что объявить такую вещь, и она потом не состоится, – это стать всеобщим посмешищем.
Кочубей мысли свои переменил, перебросился на французскую сторону и интригует в Париже: хочет княжое место*; князь это видит и радехонек. Румянцев оставил уже Париж и едет сюда; очень сердит на себя, на Александровскую ленту графа Салтыкова и вообще на всех; везет с собою стыд и раскаяние напрасной езды. Салтыков так дела устроил, что Стакельберг не будет послан в Вену; он к Татищеву хорошо очень расположен. Мезоннеф, которого мы всегда почитали шельмою, страшно и явно интригует против гроссмейстера: того и гляди, что сам себе шею сломит. Лобанов дуется, что прусский король не дал ему Черного Орла; он хочет мстить за это государю и выходит в отставку. Этим он только оказывает всем услугу. Военная часть места его отдана военному министру, гражданская – губернатору, а по полицейской велено иметь попечение Балашову со званием генерал-адъютанта. Черные Орлы даны были королем: Белосельскому, Александру Львовичу Нарышкину, Толстому, Аракчееву, Ливену, в Берлин министром назначенному; Красного Орла – почти всем генерал-адъютантам, синодскому Голицыну и проч.
Холод нестерпимый, а каждый вечер идут спектакли, хотя афиши и объявляют о их закрытии при 14 градусах мороза. Всем, кто говорит об этом, Александр Львович отвечает, что он ручался только за превосходство спектакля, но отнюдь не за непогрешимость его термометра. Актеры все до одного тоже пришли с замечанием, что их заставляют играть, несмотря на объявления в афишах. «Господа, – отвечает им Нарышкин, – старайтесь избегать холода в ваших пьесах; но что холодно в России – какое до того дело?»
Молчанов именем князя Александра Борисовича паки просил камер-юнкерство Дивову; государь отказал очень сухо, прибавив, что уважает княжое представление, но камер-юнкерство дает или за отцовские, или за собственные услуги, а Дивов не может ни того, ни другого представить; кроме того, поведение матери его делает его того недостойным[55 - Елизавета Петровна, урожд. графиня Бутурлина. Она жила в Париже приятельницею Жозефины.].
Константин. Вена, 10 февраля 1809 года
Ну, брат, ты меня обрадовал, прослезил, от восхищения видеть батюшку довольного, спокойного, а тебя счастливого. Можем ли мы менее для него сделать, как посвятить дни наши на его спокойствие; можем ли чем-нибудь в свете заплатить ему за все его милости, за его любовь, ежели не старательствами о его благополучии? Может ли для него быть что-нибудь утешительнейшего, как видеть одного из нас при себе? И эту-то часть долга ты, милый друг, уплачиваешь? Ежели бы я мог тебе в чем завидовать, то в этом; но надеюсь, что вы недолго без меня будете и что хоть на время присоединюсь я к вам, милые моему сердцу, без счастья коих я не могу быть счастлив.
Но теперь поговорим о деле не столь важном, но которое меня сильно занимает. Я совершенно с батюшкою согласен, что службу покидать не надобно, но не вижу, чтобы в Архиве для тебя была малейшая польза служить. Занимавшись важнейшими делами, мудрено посвятить себя развертыванию столбцов. Неужели не найдется в Москве места выгоднейшего? В сем может тебе мой благодетельный князь [Алексей Борисович Куракин] быть полезным. Его покровительство много значит, а исходатайствовать оное я беру на себя. Он так часто мне повторял и повторяет, что желает мне быть полезным, чтобы рассчитывал я на его дружбу, и столько мне давал опытов своего милостивого расположения, что я не сомневаюсь в его содействии.
Третьего дня, выходя из театра, нашел я в сенях на скамейке сидящую старуху. Казалось, что она была нездорова. Мы подошли к ней. Она попросила чаю. Буфет был уже заперт; пока побежали в кофейный дом за чаем, пока нашли лекаря, умерла она на наших руках. Ее человек тут был, мы велели принести носилки и отнесли ее, совсем уже мертвую, домой. Ей было 76 лет, имеет прекрасный дом и оставила более нежели на два миллиона имения.
Всегда была здорова, весь тот день была весела, поехала в театр, выслушала всю пьесу; по выходе оттуда сделалось ей дурно, и умерла от удара. Нельзя веселее на тот свет отправиться.
Александр. С.-Петербург, 14 февраля 1809 года
Дивизиям Суворова, Горчакова и Дохтурова послан приказ подвинуться на границы Галиции. Пусть говорят что хотят, но я не могу помириться с мыслию о войне с Австрией, нашей союзницей во всех европейских войнах. Это будет не более как предостережение. Бонапарт уверил здесь, что стоит прикрикнуть на Австрию, как она испугается и воинственный жар ее потухнет. Государь нерешителен в своих действиях. Уверяют, будто Сперанский дал ему совет подражать в политике своим союзникам, оставить прямоту действий и думать только о своих собственных интересах, с Францией держаться политики выжидательной, не досаждать ей и втихомолку войти в соглашение с Австрией, чтобы перейти потом на сторону того, кто окажется победителем в борьбе. Если это возможно, то, конечно, это лучшее, что можно выбрать.
Положение Бонапарта очень критическое, если не удастся ему опустошить всю Испанию и Италию. Где возьмет он войско? Нам совершенно нечем воевать, денег нет; ни англичан, ни денег! Коленкур говорит, что не надобно ни денег, ни магазинов: надобно воевать на счет неприятеля и войти тотчас в Галицию. Но кто пустит туда? Надобно прежде раза два подраться и два раза победить, а не то умрет с голоду армия, ежели не подумать заранее о корме. Все в унынии от одной мысли войны этой; цель ее еще фатальнее шведской: она нас поведет совершенно к гибели нашей. Говорят, что пишут к Толстому, к вам, чтобы предложить ему мириться с эрцгерцогом Карлом; предвидя, что он откажется, предложат Кутузову, князю Сергею Федоровичу[56 - Князю Голицыну, который и командовал русскими войсками в этой невольной войне нашей с Австрией.]; а другие уверяют, что Бенигсену. Желаю, чтобы Шварценбергу удалось что-нибудь сделать здесь в пользу своего двора; но порабощение воле Бонапарта здесь очень велико, а Коленкур стоит на карауле с железным прутом.
Ежели подъедет свинья Румянцев, не надобно ожидать ничего хорошего. Бог знает, чем все это кончится. Видя все это вблизи, я не могу нахвалиться, что удаляюсь некоторым образом от службы, которая, право, мне огадилась: теперь не может быть цели служить, а приятства службы совсем исчезли.
Батюшка препоручил мне взыскать некоторые долги здесь; коль скоро это кончу, тотчас уеду. Граф сказал мне, что вчера был наконец подписан указ мой государем. Я переведен наконец в Архив с 1000 рублями жалованья. Салтыков, ничего не говоря мне, хотел сделать приятный сюрприз и сохранить мне секретарское жалованье, и для того велел написать указ глухо, то есть: такому-то, перемещенному в Архив, выдавать жалованье, пред сим им получаемое, и велел было мне производить секретарское жалованье. Надобно быть несчастью моему: государь это заметил и сказал, что это жалованье мне не по чину, что даст другим повод тоже просить, что вследствие указа надобно мне дать по чину 1000 рублей. Салтыков жалеет, во-первых, что не удалось сделать мне приятное, а во-вторых, что не воспользовался случаем представить меня в чин за отличие; это пришло ему в голову, как не время уже было. Со всем тем надеюсь, что, ежели Румянцев замедлит быть, граф что-нибудь для меня сделает. Государь у него спросил: тот ли я Булгаков, коего Куракин к себе требует? Граф отвечал, что нет, а что это ты был в Вене. Граф нас обоих хвалил государю. Это нам пригодится на будущее время: государь будет о нас хорошего мнения. Меня очень ласкают у Головкиной, которая отрекомендовала меня Нарышкиной с лучшей стороны. Я тебе признаюся, что мне хочется камер-юнкерства: это было бы хорошо перед свадебкою. Я еще не сделал предложения, но Боголюбов ручается мне за успех. Начну действовать. К свадьбе великой княжны будут разные милости; авось-либо удастся.
Я в восхищении, что Татищев опять на ногах; государь очень к нему смягчился. Придет и его царство. Лишь бы ваши немцы поколотили французов, здесь все вмиг переменится: куда денется славный Румянцев, его и собаками тогда не отыщешь. Граф умел так славно сработать, что Стакельберг будет век свой in vista. Только и это сделано из предпочтения, которое граф дает моему любезному
начальнику. Нельзя предвидеть, что будет; статься может, что Куракин воротится в Вену и Дмитрий Павлович будет при нем, как Разумовский был при Голицыне. Хотелось бы мне, чтобы Татищев имел это в виду; при первом случае я в разговоре скажу об этом графу и увижу, что он мне ответит; хорошо, коли промолчит, так как у него это всегда означает благоприятный ответ. Кажется, Кочубей домогается места в Париже; Талейран пишет Коленкуру, что это один из просвещеннейших министров России и что он смотрит на вещи с их настоящей точки зрения. Куракин, вместо того чтобы воспротивиться, даст ему, я думаю, все возможные преимущества к достижению его цели, потому что сам князь желает возвратиться в Вену, судя по тому, что он пишет Боголюбову, а именно: «Я здесь скучаю, а по Вене не перестаю тосковать».
Очень кланяюсь Бальмену; я очень дружен с его братом: прелестный юноша. Он живет у молодого Воронцова, тоже прекрасного юноши. Смерть Салтанова меня очень тронула; это большая потеря!
Константин. Вена, 26 февраля 1809 года
Только и говорят о войне. Все идут сражаться. Князья (а ты знаешь, что это здесь значит), у которых по полумиллиону дохода, оставляют семьи свои, детей и идут служить поручиками и командовать батальонами. Сверх армии, которая теперь ужасна, сверх милиции, состоящей из 80 тысяч человек, из коих 24 конницы, поминутно слышишь, что тот дает 1000, тот 500 человек вооруженных. В Вене даже ремесленники оставаться не хотят, все идут служить. Из милиции в одной роте служат четыре брата, а поскольку тем, коих обстоятельства требуют, чтобы они остались, сие позволено – например, отцам семейств, – то капитан и объявил четырем братьям, что ежели один из них захочет остаться, то сие он устроит, и велел им спроситься у отца и принести ответ на другой день. Вместо ответа приходит отец с пятым сыном и говорит, что, вместо того чтобы взять из службы защитника отечества, пришел он предложить пятого своего сына, а как он сам вдовец, то просит, чтобы и его взяли. Отца сделали унтер-офицером, и он сам поведет к неприятелю всех своих детей. Другой себя продал канонику в солдаты, дабы брату своему, который в инсурекции и не имел лошади, доставить способ оную купить. Энтузиазм превеликий. Из всего дворянства двое только молодых людей не служат, потому что отец не хочет; они же в отчаянии. Здесь теперь ходит подписка, по коей женщины складываются, дабы доставить женам милиционных пропитание, пока мужья их в поле; в сей подписке только женщины, между прочим и императрица. Дамас хотел подписаться, но как сие одни могут женщины, то и написал он: «графиня Роже де Дамас – 25 франков в месяц».
Константин. Вена, 5 марта 1809 года
Ежели удастся тебе попасть в камер-юнкеры, очень будет хорошо. Я надеюсь, что удастся, а это сладить – дело женское, так ты хорошо делаешь, что взял эту дорогу. Видно, нашему доброму князю в Париже не заживаться. Я очень рад, что мое перемещение не сбылось. Оставить хорошее и верное место на столь неосновательное была бы совершенная глупость. У меня одно желание, чтобы князя опять сюда послом назначили; тогда все будут довольны. Ему не хочется там оставаться. Вчера получил и от него письмо, где он то же мне повторяет, и поскольку это всех устраивает, я не удивлюсь, если увижу его здесь через два-три месяца.
Александр. С.-Петербург, 7 марта 1809 года
Прежде всего переговорил я с Головкиною, которая подала мне великую надежду к успеху, но не взялась за обоих просить, прибавив: «На очереди сто человек, и государь не сделает этого, чтобы не раздражать всех; к тому же М.А., не зная вашего брата, едва ли захочет просить за двоих вместо одного. Что касается до вас, то я ручаюсь, что она возьмется за ваше дело». В сем случае сделал я то, что и ты бы сделал, то есть не велел и говорить о тебе, дабы не испортить моего дела. Я уверен, милый брат, что ты меня одобришь, зная, сколь все радости у нас общи. Головкина говорила уже с М.А., а сия очень охотно взялась выпросить, велела мне сделать записочку, которую я вмиг у графини же и написал. Я тебе перепишу ее здесь, благо она коротка. Я особенно указываю на заслуги моего отца, как ты увидишь.
«Действительный тайный советник Булгаков служил 42 года. Услуги, оказанные им России в царствование императрицы Екатерины II, в бытность его в Варшаве, и особенно во время пребывания его в Константинополе, известны всей Европе. Заключение его в течение двух лет в Семибашенном замке тоже всем известно, равно как и переговоры, порученные ему вести в то время и приведшие к ускорению сдачи Крыма России. Его сын Александр, надворный советник Департамента иностранных дел, состоит на действительной службе в продолжение 13 лет, из коих 7 лет в чужих краях, служил всегда с таким усердием, за которое несколько раз был представляем к наградам, но никогда не имел счастья их получить, хотя все его сослуживцы сделаны статскими советниками и получили ордена. Он может сослаться на свидетельства: князя Чарторыжского, барона Будберга, графа Татищева и других своих начальников.
Вышеозначенные услуги его отца и его собственное усердие, не прекращавшееся до сего времени в его службе, не делают его недостойным милости быть принятым ко двору в звании камер-юнкера. Милость эта будет утешением преклонных дней старого и верного слуги отечества, который и сам бы приехал просить о ней августейшего внука Великой Екатерины, его благодетельницы, если бы годы и болезни ему это позволили».
Я старательно переписал эту маленькую записочку, и графиня в тот же день передала ее своей невестке, которая весьма ее одобрила и обещала заняться этим делом. Батюшку она называет достойным и уважаемым старцем, а меня прелестным молодым человеком. Третьего дня была она вечером у графини, играли в лото; она позвала ее к себе обедать на следующий день и, оборотясь ко мне, меня также пригласила, на что графиня вскричала: «Я в восторге, что вы приглашаете Булгакова, потому что я начинаю убеждаться, что жить не могу без него». Уезжая, М.А. напомнила мне об обеде и прибавила: «А о деле, о котором говорила мне невестка, будьте покойны». Кажется, лучше ничего желать не можно. И так вчера я обедал у нее. Графиня спросила: как идет дело ее протеже? «Предоставьте его мне», – отвечала М.А. Ты можешь себе представить, в каких я ажитациях, и выйдет, что ариетка «Цветочки» то сделает, чего не произвела служба, рекомендации и проч. Так и все на свете! Это грустно.