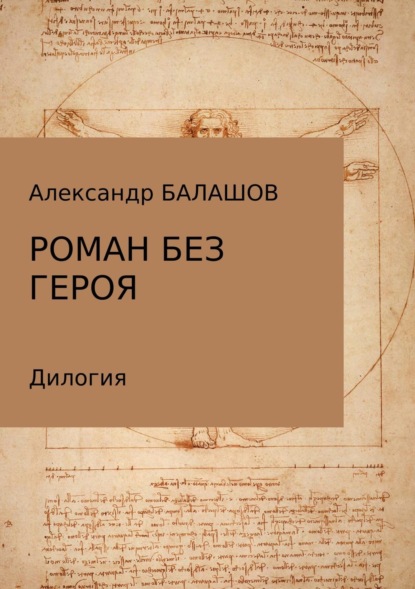По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Роман без героя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Изящный вы человек. Гибкий руководитель. Как это у вас получается? Без принужденья в разговоре коснуться до всего слегка…
– Так разве зря меня народ на пост главы избрал?
– Народ? – удивился я.
– А кто же? Ты ведь первым за меня голосовал. Без тоски и думы роковой. Ведь так?
Я промолчал. Тут с Карагодиным не поспоришь.
Он взял меня за пуговицу на пиджаке, притянул к себе. Я почувствовал неприятный запах его гниющих зубов. Паша уверял, что так же пахнут и их души. Только мы этого не чуем.
– Ну, я пошел писать дальше…
– Иди.
– А не боитесь?
Он отвалился на спинку руководящего кресла, ощерился:
– А чего мне, Захар, бояться-то? Пока мы в этом кресле, ты будешь писать и читать ту историю, которую будет нам угодна. Понял, Пимен?
Когда я уже взялся за ручку двери, то услышал в спину:
– Передумаешь с записками сумасшедшего, заходи, приноси… Гостем будешь. Ты же знаешь, никак не могу найти подходящую кандидатуру на место ушедшего из жизни нашего незабвенного директора – Тараса Ефремовича. Подумай над жизнью своей, Захар. Иногда это очень полезно. Пока не становится поздно и проблема отпадает сама собой.
Мне стало страшно по-настоящему.
О ФАЛЬШЕ И ДОНОСИТЕЛЬСТВЕ
ИЗ «ЗАПИСОК МЕРТВОГО ПСА»
2 мая 1931г. Красная Слобода. 2 часа ночи.
«О жителях Красной Слободы можно сказать, что все они опьянены своим рабством. Даже их христианское смирение, их молчание – это молчание рабов. Но если люди молчат, то за них говорят камни. И говорят плачевным голосом.
И кто бы пожалел наш слободской народ? Слободчане живут нынче классовыми предрассудками и атеистическим невежеством. И еще притворной покорностью перед властью. Притворная безропотность, по-моему, последняя степень унижения, до какой может пасть порабощенный народ. Их возмущение, отчаянье были бы, конечно, более ужасны, но менее низки. Даже слабость их настолько лишена достоинства, что может отказаться даже от жалоб, этого утешения скотины. Страх, подавленный избытком страха, это – нравственный феномен, который нельзя наблюдать, не проливая кровавых слез.
Внешний порядок, царящий сегодня в Слободе – лишь иллюзия; под ним таятся недуги, подтачивающие государственный организм. Фальшь и обман, всеобщее доносительство, как эффективный метод сведения счетов с соседом или родственником, лицемерие и всеобщее равенство, которое defakto является фикцией, – вот нынешние нравы и нашего российского медвежьего угла в аномальной зоне.
Слободчане, приходившие сегодня на приём в нашу больничку, утверждали, что оборотень, чёрный пёс, который якобы живёт в заброшенной шахте рудника, зачастил в Красную Слободу. Настоятель нашей церкви, отец Николай призывает свою паству придти в храм на исповедь. Народ не идёт, хотя оборотня боится до смерти. Рассказывают, что в Снецком тамошняя активистка, комбедовка по имени Глаша (Глафира) встретилась с оборотнем на узкой тропинке у сельсовета. И чёрный пёс «прожёг её взглядом глаз-углей наскрозь». Бедную женщину с ожогом груди нашли в придорожной канаве, отпевать её батюшка отказался. Да сельсоветчики бы и не дали ему это сделать.
Пётр Карагодин, косноязычный вождь Аномалии, согнал всех селян на митинг. И клеймил последними словами «попов и священников» за одурманивание местного населения опиумом для народа. В его выступлении матерных слов было больше, чем нейтральной лексики. Но главное, что не было в его словах ни смысла, ни любви. Одна фальшиво звучащая медь. Кимвал бряцающий».
Глава 10
КАК ПОПАСТЬ В ЛИТЕРАТУРНУЮ ОБОЙМУ
Иосиф о своих первых шагах в литературу
Та общешкольная стенгазета с карикатурой на своего лучшего друга и моими «отредактированными» стихами была моим первым «печатным органом». Бульба, мельком глянув на то, как тронулся лед и в нашей Слободе, с удовлетворением пожевал свои седеющие усы и сказал:
– Ну, что, Захаров, поздравляю тебя. Ты отныне попал в нашу литературную обойму.
Я понимал, что такое обойма от винтовки Мосина, от Маузера, от другого огнестрельного оружия. Про «литературную обойму» я слышал впервые. Не скрою: было что-то элитное во фразе директора. Если поздравляют, значит, попасть в «обойму» не так уж и просто…
– Эх, товарищ Иосиф… – вздохнул Паша. – Если бы ты знал, что это такое – «литературная обойма».
– Откуда она взялась? – спросил я друга, которого с принципиальностью Павлика Морозова «парафинил» в своем «печатном органе».
– Не знаешь? – сощурился Пашка. – А еще представитель древнейшей профессии. Это фраза из фельетона Ильфа и Петрова. Авторов «Золотого теленка».
Я обиделся за его фельетонную интонацию.
– А многим даже очень нравится, – сказал я. – Посмотри, какой жгучий интерес к газете.
Мы вместе обернулись к стене и увидели следующую живую картину.
…Анна Ивановна отошла от рукописного творения на метр, подбоченилась правой рукой, а левой взялась за тяжелый подбородок, похожий на пресс-папье в учительской.
– А где подпись автора стиха? – спросила Анка-пулеметчица. – Анонимов нам не надо!
Своей подписи я под «отредактированным стихом» не поставил. Потому что «от меня», свободного поэта, там ничего не осталось. Знаменитое «клевещите, клевещите, – что-нибудь да останется» тут не сработало. Не осталось ничего. Только шрамы на моей душе творца. (Где-то я прочитал, что некто Медий, состоявщший в свите Александра Македонского, советовал смело применять клевету и кусать, ибо шрам, во всяком случае, останется).
У стенгазеты толпилась вся школа. Уже от входной двери был виден Пашка-румяный колобок, к которому тянулась длинная рука с берега. Всем почему-то казалось, что эта нелепая рука не спасала, а наоборот – топила «колобка», печально улыбавшегося в роковую минуту.
Вновь подходившие сначала читали мое патетическое четверостишье, потом переводили взгляд на ухватистую, на печально улыбающегося «колобка» – и хватались за животы. Даже первоклашки, как мне казалось, деланно хохотали, как хохочут герои в несмешных ктнофильмах.
Но все хвалили меня и Водянкину. Её художественная работа, до краев наполненная драматическим замыслом, вкупе с моими «высокими» стихами приобрела вдруг парадоксальный, даже пародийный смысл. Конфликт между формой и содержанием дал такую ужасную трещину, что в нее с треском провалились все мои благие замыслы.
Мне бы извиниться, покаяться… Да не смог. Принимал поздравления. И даже слегка кланялся на хвалебные оценки учителей. А ведь наизусть читал Анке-пулеметчице отрывок из Пушкина «гости съезжались на дачу». И помнил гениальную фразу писателя, что «злословие даже без доказательств оставляет прочные следы».
Директор даже позвонил кому-то в районо. На перемене между четвертым и пятом уроками в школу пришла благообразная дама в черной траурной шляпке с вуалью. Дама была печальнее своей шляпки. К ватману ее осторожно, будто боялся, что мадам сейчас же рассыплется от смеха и старости одновременно, подвел Тарас Ефремович.
– Разойдись, хлопцы! – раскидывал он наглецов в стороны. – Элла артардовна посмотрит на творчество масс.
Элла Эдуардовна черной тенью приблизилась к шедевру.
Толпа нехотя раздвинулась, пропуская знаменитого на всю округу директора-партизана. (Шумилов был партизанским разведчиком, имел медали и один орден. Имел ли он учительский диплом, никого из учащихся единственной в Слободе средней школы не интересовало).
– Я же сказал, посторонись, хлопчик! – оттеснил он и меня, автора, от стенной газеты. – Вот, пожалуйста… Стихи не хуже, чем у маститых. Хоть сейчас в хрестоматию.
Дама в вуали поднесла к глазам очки, не надевая их на крысиный розовый нос, долго читала, а потом выдала свое резюме:
– Квасной патриотизм, конечно. Но дым отечества нам сладок и приятен.
На высоком челе Тараса Ефремовича не отразилось ничего. То ли он не понял, что такое квасной патриотизм, то ли «Горе от ума» не читал.
Зато Пашка не преминул вставить из «Евгения Онегина», которого, обладая феноменальной памятью, почти всего знал наизусть: