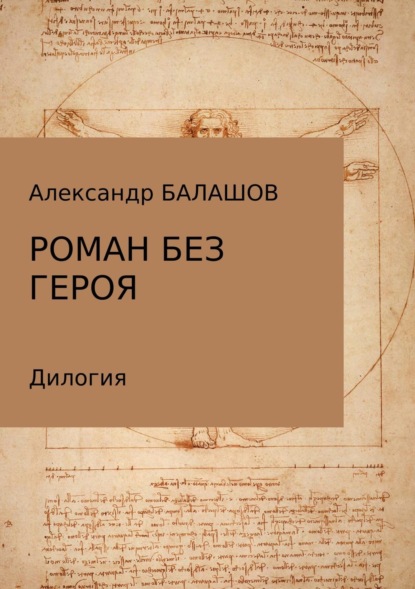По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Роман без героя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Почему же, – перебил меня Вечный Ученик. – Ленин основал РСДРП, и Гитлер до конца своих гнусных дней считал себя социалистом. Знаешь, как его партия называлась? Национальная социалистическая рабочая партия. Так что у этих двух типов с немецкими корнями много общего.
– Чушь собачья! – в свою очередь перебил я Пашку. – Не в названии дело. Под словами «социалистическая» и «рабочая» может скрываться и сам черт или дьявол.
– Я как раз об этом. Если не убеждает, то поищи примерчик поярче.
Я еще покопался в памяти и почему-то шепотом спросил:
– А – Сталин?
Пашка тоже не сразу ответил. Но выдал та-а-кое, что у меня нервно зачесался левый глаз – верная моя примета плакать.
– Сталин, товарищ Иосиф – сказал Альтшуллер, – самый верный ученик Ленина.
– Хрущеву, значит, веришь?
– Вера без дела мертва есть, сказано в послании апостола Иакова.
– Опять вы за своё? Поговорите о весне, о любви, на романтическую тему… Перестаньте, наконец, при мне говорить о политике! – взмолилась Маруся. – Не хочу вас слушать. Не хочу!.. Я боюсь…
И она зажала уши ладошками, похожие на два больших оладушка, которые она по бабушкиному рецепту пекла с тертыми яблоками.
– Повесели девушку, – сказал я Пашке. – Видишь, истерика на нашей почве.
– Плясать, увы, не умею, – ответил Шулер. – Я лучше спою самую веселую песню, какую только знаю.
И он запел, точно попадая в мелодию:
– Все хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут, и жизнь легка.
А дальше пошла его импровизация, в которой я играл самую неблаговидную роль. Я понимал, что Пашка придумывал на ходу, с пылу – с жару. Но получалось складно, хотя и грубовато, как я написал сначала героическую поэму, которая вскоре превратилась в злую политическую эпиграмму на друга. Причем, Альтшуллер не стеснялся в использовании грубых диалектных словечек.
– Циник, – сказал я ему. – И диссидент!
– В точку, брат! – засмеялся Шулер. – Ща за портвейшком сгоняю! Отметим воскрешение Лазаря!
– Это я – Лазарь? На что ты намекаешь?
– На выздоровление после тяжелой болезни. Ты же бросил, наконец, писать стихи для стенгазет и к красным дням календаря? Или эта болезнь уже зашла в хроническую фазу и неизлечима? Тогда оривидерчи, Рома… Была без радостей любовь, разлука будет без печалей.
– Паша, не обижай Иосифа! – надула губки Моргуша и часто-часто заморгала ресницами. – Я не хочу оплакивать смерть поэта… В моем романе Онегин и Ленский примиряются перед роковым выстрелом.
Паша с улыбкой Сионского мудреца смотрел на то, как я рвал на мелкие кусочки свою «героическую поэму».
– Судьба поэта жертв искупительных просит, – сказал он.
– Не вкладывайте персты в язвы моя! – взмолился я, обидевшись и на друга, и на Марусю.
– Марго, ты слышишь, как ветер возвращается на круги своя! У-у-у…
– Слышу, Вечный ученик! Слышу…
Я хотел ответить друзьям поязвительнее, укусить за самое больное место, но только хлопнул дверью. Спиной я услышал:
– Вернись, Иосиф, я все прощу!
Это был противный голос моего друга Пашки. Я ненавидел его. Я уходил к нашему лукоморью, к Черному омуту на берегу Свапы. Но я точно знал, что ветер рано или поздно все равно вернется на круги своя.
Я злился, что я так и не лягнул Шулера на прощанье. Пуская ослиные копыта знает!
…Над старой Слободой уже взошла луна. Серебряная дорожка Силены бежала к нашему заветному месту. К глубокой чистой воде. Вода меня всегда успокаивала. И будто очищала душу, когда я на нее смотрел долго и задумчиво.
Я шел быстро, а луна по-свойски подсвечивала мне ухабистую тропинку. Но у обрыва, где по преданию, утонул Маркел Шнурок, палач партизанского командира, не заметил какой-то притаившейся в кустах коряги – споткнулся. И чуть не полетел в тот самый омут, который в детстве мы заглядывали, леденея душой от страха.
Чтобы заглушить обиду в душе, боль в ноге, которая заныла после встречи с корягой, я стал вслух читал стихи. О луне. Их любил Пашка. (Может быть, он их и сочинил – с него станется).
Светила на ночном небосклоне луна, звучали у нашего лукоморья Пашкины стихи… Это уже было, мне все это уже снилось? Почему так все знакомо? И так тревожно на душе?
Во всем виновата полная луна. Полнолуние – время гениев и сумасшедших.
Такой же светлой весенней ночью умер и Фока Лукич, сильно сдавший после выхода из психиатрической больницы. Пашка не отходил от постели умирающего всю страстную неделю. А когда Фока Лукич умер, он пришел к нам в дом со своим наследством – «бурдовой тетрадкой» отца, которую тот держал у себя под подушкой.
– Вот, Захарушка, и помер батя…
Он не плакал. Он прижимал к груди заветную тетрадь, раскрыть тайну которой я мечтал еще в детстве.
– Ты поплачь, поплачь, Пашенька… – прижала его к теплой груди моя бабушка Дарья. – Сиротинушка ты моя горемычная…
Он не заплакал. Протянул мне тетрадь. И сказал:
– Вот, возьми…
– Что это? – спросил я, хотя точно знал, «что это».
– «Записки мертвого пса». Он просил передать…
– Почему – мне?
– Не тебе конкретно, – ответил Павел. – Тому, кто сможет этой тетрадью распорядится, не навредив ни себе, ни людям. Главное, как любил повторять отец, не умножать вселенской скорби.
Я помолчал. Потом спросил шепотом:
– Думаешь, я смогу?
– Думаю, сможешь.
Моя добрая бабушка Дарья принесла нам по рюмке вишневой наливки, сказала: