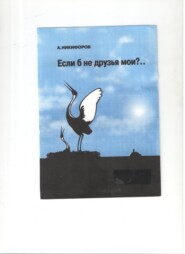По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пехота
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я протягиваю Петру флягу. Он жадно пьет, делая большие глотки, потом протягивает мне. Я, не отрываясь, дотягиваю ее до дна. Скоро потемки, а там старшина, со свежей водой.
– Вернусь. Оженюсь с Марией, кучу детей настругаю, – мечтательно говорит друг,– За два – то года скольких потеряли. В деревню возвращаться некому. Я не помню, говорил тебе, что на Федьку – чупрыню, похоронка пришла?
Мы прозвали его «чупрыней», потому что его мать, пытаясь затащить его, домой, кричала на всю деревню, Сейчас же не придешь, всю чупрыню вырву. Он был на год младше нас. Мы уходили, а он жаловался на возраст. Теперь, остался «чупрыня», вечно молодой.
– Так это? Он с деревни-то уже двенадцатый кажись? – подсчитал я.
Первыми ушли, через две недели с начала войны, отец и еще тринадцать мужиков. Выли от горя, деревенские бабы, матери, жены, сестры, плакали младшие ребятишки. И молча, прикусывали губы мы, сдерживая, рвущиеся наружу слезы. Нам, старшим плакать нельзя, Мужики не плачут.
Нашу деревню еще миловали похоронки, когда через месяц, закинув тощие торбы за плечи, ушли мы с Петром. А сейчас, уже двенадцать, и конца не видно, ни с какого края.
– Войны-то еще без края, – словно подслушал мои мысли Петр, – скоро может и считать некому будет.
–Сломаем, – твердо говорю я, – не они первые, да, наверное, и не последние.
– Это я и без тебя знаю. А нас-то сколько ляжет.
– Много еще, положим,– соглашаюсь я, – но теперь уже поменьше, чем помнишь в ту зиму?
Суровая она была, я такой и не помню. Землю промерзла насквозь, лопаты звенели, как будто в металл били. В низких блиндажах спали слоями, согревая друг друга. Тогда померзло больше, чем погибло. Хоронили в мелких воронках, даже снаряды не пробивали морозную сталь земли. Хоронили, собирая вокруг редкие комья земли, глыбы снега. За полушубками и валенками на живых, стояла негласная очередь, кто первый носит за погибшим.
– Это – то я понимаю. Воевать подучились. Теперь вон, у нас с тобой и штыков нету. А то дуром перли, всех на него хотели нанизать,
–соглашается Петр, – половину в рукопашных положили.
– На Руси народу хватает. Мир переломать можем.
– В коммунисты тебе надо, – усмехается Петр, – вон, уже на мир замахнулся. И чего ты тут под Ленинградом третий год топчешься?
Петр, как и я, по матери, из семьи раскулаченных, а значит не особо надежный. Еще год назад, нас бы в один окоп не посадили, перемешали бы с благонадежными. Но война идет второй год, мы живые, и на всех нас благонадежных не хватает. А усмехается он потому, что в тех зимних боях, когда партячейка проводила закрытое партийное собрание, в теплом, нагретом блиндаже, нас, беспартийных, выгнали на мороз. Продрожав с полчаса в насмерть промерзшем окопе, выплюнув окурок, единственный источник тепла, он решился,
– В гробу я все это видел. Чем я хуже? Пойду в коммунисты вступать. Вернулся он, подозрительно быстро. Долго сосал самокрутку.
5
Я молчал, боясь, открытым ртом, выпустить оставшееся внутреннее тепло. Потом спросил,– Ну чего, заявление написал?
Он глубоко затянулся, а потом ответил,– Политрук сомневается. Доказать, говорит еще надо, что ты серьезно к этому пришел.
Я удивился тогда. Больше полгода уже воюем. По первой «Отваге» уже было, коммунисты не все имеют. Какие еще доказательства? Но себе зарок дал, пока к «стенке» не припрут, сам проситься не пойду.
– Ты уже просился. Теперь хочешь, чтоб и я от ворот, поворот получил, – напоминаю ему.
– Вспомнил тоже, когда это было.
– Да хоть когда, но было же.
– Замерз я тогда, до ледяных соплей, – неохотно соглашается Петр, ему неприятно воспоминание о своей слабости.
– Я когда холодно дом вспоминаю, – сглаживаю я тему, помнишь, в шестом классе мы на лыжах катались? Я еще рукавицу тогда потерял.
–Чего ж не помнить? Помню, – Петр защелкивает крышку, на набитом патронами диске, кладет его в нишу и берет другой,– мы тогда весь снег переворошили. А потом осмотрелись, а вас с Настькой нет. Подумали, что домой, греться побежали.
– Нет, мы за пригорок спустились. Настя фуфайку расстегнула и говорит, – суй мне руки в подмышки, я теплая, сразу отогреешь. Пока рядом была, как-то об этом и не думал. А сейчас, вместе с домом, все ее теплые подмышки вспоминаю.
– В прошлом году, когда в прорыв пошли. Ну, тебя тогда еще в ногу, помнишь, – спросил Петр.
– Разве забудешь, тогда от роты клочки остались, да мы с тобой, – подтверждаю я.
– Я тогда до последнего бежал. Потом как поленом по голове: один бегу, никого рядом. Автомат пустой, а у меня палец, как судорогой на курке, все жмет и жмет. Слышу, рядом зачпокало. Пули брызги из грязи выбивают. Выцеливают, значит. Я в воронку. Тогда же после артиллерии пошли, воронки на каждом шагу. Скатился, да удачно. Воды чуть-чуть, на самом дне. А тут артналет. Свистит, бухает, комья земли на меня сыплются. Веришь, нет? Стал я молиться. Бога, маму, всех вспомнил. И молитв-то никогда хорошо не знал. И главное через слово, Марию зову, – Помоги, шепчу, живым остаться. А уж кого просил: богородицу или свою суженную, тогда не до того было.
Но живым остался, хотя гвоздили немцы не меньше часа. Значит помогло.
– Так и должно быть. Мы за них воюем. Они молятся за нас…..
Я сижу на деревянной лавке, на берегу озера. Надо мной, шелестит, от легкого ветерка, листвой береза. В этот день, я всегда здесь. Рядом со мной «чекушка» водки, на расстеленной газете нехитрая закуска, и полная, накрытая ломтиком хлеба, стопка. Я снова, как и тогда, разговариваю с Петром…
– Как же тебя угораздило, что ж ты не уберегся?– в который раз спрашиваю я его.
– Знать, не дано было. Ты, то вот добежал,– отвечает мне за него, шелковым голосом листьев береза.
– Так не видел ты, я раньше тебя упал. Помнишь, воронку огромную от бомбы, Вот перед ней и упал, в бок стегануло, осколком. Но видишь, еле, но выкарабкался.
– Ты добежал. Домой вернулся, значит добежал,– повторяет листва.
Меня списали, после ранения. Четыре месяца валялся по госпиталям, меняя адреса. Письма не успевали за мной, и я потерял связь и с Петром и с домом.
А по возвращении домой, я узнал, что Петр « пропал без вести».
6
И вот тогда, после разговора с тетей Таней, мамой Петра, я пришел сюда к березе, чтоб никто не увидел моих слез, слез солдата, узнавшего о потери друга. Потом спустя годы, как-то оттаяв от войны, мы уже не будем стесняться слез, но тогда еще гремела война, и до Победы было еще далеко. Я стоял, здесь на берегу, гладя белый ствол березы, ища у нее сочувствия и понимания. Слезы душили, и жгла меня боль. Я пересказывал сыну, не вернувшему с войны, разговор с его мамой. Я рассказывал, а нутро, пожирала боль. Такая боль, что мне хотелось поменяться с тобой местами, чем стоять живым, перед твоей мамой.
Я ездил туда, на место последней нашей атаки, туда, откуда я вернулся полуживым, а тебе было даровано бессмертие. Там теперь гранит, огромные буквы «Никто не забыт и ничто не забыто», а еще там большой плакат, на котором написано, что полегло там 360 тысяч солдат. Это сколько же, Петро, рот и полков? И это «известные», а вас «безвестных» никто и не считал. Велика Россия, ничего за нее не жалеем. Я представил, эти сотни тысяч. Да их если выложить на месте боев, земли не видно будет, одни защитники. Зачем, вражины идут к нам, если мы вот так, собою готовы закрывать родную свою землю. Мы сами ляжем, но их вперед зароем.
Я как узнал, что ты «без вести» пошел в наш военкомат, потом, в райком ходил. Рассказывал им о последней нашей атаке, о том, что не мог ты «без вести» пропасть.
Хотел, чтоб на «геройски» исправили, чтоб и за тебя, как за отца твоего, получала тетя Таня, хоть какую-то денежку. Ведь за «безвестных» не платят, а жизнь она, сам понимаешь. За мыслями прислушиваюсь к листве. Молчит береза, мне кажется, слушает меня. Вытираю глаза, от нежданно выступивших слез и снова вспоминаю….
В рассветных сумерках кто-то спрыгнул в окоп, осыпавшая земля зашуршала по плащ – палаткам, которыми укрывались мы с Петром. Я высовываюсь, и определяю в утреннем госте, взводного. Петр просыпается следом. Сев на корточки, привалившись к стенкам, закуриваем из пачки, протянутой младшим лейтенантом папиросы, по привычке пряча огонек в рукав шинели.
– В пять атака. Разведка боем, будь она неладна, – «младшой», наш новый, тринадцатый взводный, месяц, как из училища, многого еще не знает и не умеет. Ругаться, вот тоже, пока не научился.
– Чего опять разведывать – то?– усмехается Петр, – я тебе хоть сейчас, всю стратегию впереди нарисую. Который месяц уже между обороной бегаем, то мы до них, то они до нас.
– Штабу не ваши домыслы нужны, а четкая картина, – пыжится младший лейтенант, наш ровесник. Ему постоянно приходится нам напоминать, что он наш командир. У него даже появилась привычка, всячески совать под взгляд свои погоны, с маленькой зеленой звездочкой, или вот как сейчас, выставлять свою грамотность.
– Ты бы не ерепенился, младшой, – осаживаю я его, – он дело говорит. Тебе же впереди бежать.